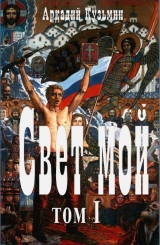
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
XVII
Анна испытала шок, узнав, что в деревне снова объявился-всплыл в мрачной волне фашистского нашествия – краснолицый бестия с клюквенными глазками Силин, известный бузотер, самозванец, вор, сбежавший из заключения и заярившийся теперь на какую-то главенствующую роль при новых хозяевах. Ведь некогда этот настырный человек даже пытался поухаживать за Анной, да появившийся тогда около нее Василий вмиг отвадил его. Нынче же он, плотный, сбитый мужчина в черной кожанке (она раз увидела его), несомненно, одержимый манией повелевать напуганными людьми и, видно, досмерти обиженный на советскую власть и народ, чей хлеб он ел, не гнушаясь, для начала самолично помогал немцам вылавливать отовсюду отставших и раненных красноармейцев, явно вознамерясь возвыситься на чужих костях. До чего же низко, мерзко пал… Приспособленец… Сорвался что с цепи – свирепствовал, нахрапистый, крутой.
Когда на первой же так называемой по старорежимному сходке, на которую строжайше согнали (посреди деревни) жителей, Силин, кого немецкий комендант, взойдя на крыльцо, назначил старшим полицаем, тут же заявил, чтобы впредь его любили и слушались и чтобы называли только «господином» да по имени-отчеству. И неподдельно изумленная этим толпа, со сдержанностью возроптав, лишь испустила слабый общий вздох. Все было яснее ясного. Прежде, по праздникам урожая, здесь, на полянке, колхозники накрывали столы с едой, пели, веселились, и нередко Василий ставил на стул рядом с собой певунью-дочку Наташу и она пела для всех. А ныне стоявшая среди односельчан обыкновенная, жалкая, жилистая мать отщепенца Силина, крутя головой, по-глупому лыбилась и радостно подхмыкивала:
– Ишь, гляди-ка, «господин» стал! Во как! Во как посчитались за труды, старание!.. Не зря… – Словно помрачение на нее нашло.
Увы, худо было то, что одно зло пригребло себе в помощь подобное же зло, но которое (что еще хуже) досконально знало подноготную всех местных лиц – знало с точки зрения того, кто чем «дышал». Так что выявления того совсем не требовалось.
Силин с крыльца громко зачитал властный акт – короткий приказ немецкого командования, обращенный к русскому населению. В нем запрещалось хранить оружие и боеприпасы, партизанить, а также портить и присваивать военное немецкое имущество и укрывать красноармейцев. За нарушение кем-либо этого приказа полагался, безусловно, расстрел – без суда и следствия. На месте. Это как бы в придачу ко всему прочему, ко всяким солдатским инициативам. Разумеется, в полном соответствии с директивными «12-ю заповедями поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими». Этот документ требовал неукоснительно от гитлеровцев: «… вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые требует от вас государство…»
Между тем захолодило, промерзла земля. И снова белые мухи закружились в воздухе.
Сходка же решила, что надобно обмолотить заскирдованную в шоре рожь-лежаток и разделить ее урожай, и поэтому с утра сюда насочились односельчане с лукошками, с ситами, с совками, с лопатами, с вальками, с мешками и принялись вручную молотить и веять и просевать на току зерно. Пошла скорая работа – и то какая-то утеха. Да и кто-нибудь из неверующих утешал, уверял себя и других страдальцев столь расхожим слухом: мол, теперь-то уж войдет у нас вполне общинное землепользование, что так оно, пожалуй, и сподручней будет – в общине ж больший шанс обеспечить себя учтенным куском хлеба. Только бы не прозевать, главное, сейчас… Кругом-то шныряли хозяева положения – немцы, покамест еще игравшие с русским населением в «кошки-мышки», позволявшие ему думать по-своему.
И скоро среди обмолотчиков ржи возникло разногласие по целесообразности выбора обмолота: как лучше – обмолачивать по-единоличному, т. е. каждый – для себя, чтобы наверняка надежней все-таки, или по-колхозному, сообща всеми, что было бы несравненно спорчее, но явно ненадежнее. Ненадежнее потому, что спорчее так намолоченное в кучу зерно и могло уплыть мимо рук молотивших – попасть в немецкие загребущие руки. А к тому же больно уж навязчиво почему-то клонил к этому чернявый с черной небритой щетиной на лице нелюдимый и нелюбимый многими Герасим Вьюнок, мужик, который провел после первой мировой войны пять лет в плену в Германии. Знали бабы деревенские: он писал оттуда письма иносказательные о том, насколько «хорошо» им, пленным, там жилось. И потом привез сюда причуду вязать ржаные снопы по-тамошнему, как вязал он их бывало на полях юнкерских. Свяжет сноп – точно мешок. И вся бабка из-за этого получается кургузая… Был он собою неказист, в завсегда нахлобученном на потушенных глазах картузе, тише воды и ниже травы. Так что он тут – мирволение ко всем вдруг выказывал? С чего? И вот как молотившие не рядились, все же не сговорились: молотили по-разному.
И те, кто молотили гуртом, уже насыпали заметный ворох провеянный ржи, когда в проеме раскрытых ворот завидели подъехавших к шоре немцев на широких, словно платформа, повозках. Все ахнули. Так и есть: сюда они направились – вразвалочку…
«Ну, все – напрасен наш труд», – пронеслось в мыслях каждого работавшего здесь. Наехавшие солдаты, точно, на самый ток, к зерну, пожаловали. Даже ездовые с длиннющими, что удочки, кнутовищами. Эти ездоки обычно на козлах посиживали и меланхолично кнутами изредка помахивали – словно они и не к Подмосковью вовсе ехали, а ехали просто так – самые сентиментальные и миролюбивые немцы; эти ездоки обычно сиднем сидели на повозках, ну, прикрикнут на лошадей, кнутовищами взмахнут – и снова сидят – чисто истуканы каменные, задумавшиеся. Но хуже не придумать уж: сентиментальность и жестокость у гитлеровцев странным образом стояли рядом, совмещались, – тем они еще ужасней были. Отвратительней.
Длиннополый строевой выправки немецкий офицер, вожделенно заглядывая на зерно, потребовал старосту. Но старосты, как такового, здесь не было. Однако вперед выступил – диво-дивное – этот позабытый всеми неказистый Герасим Вьюнок. Подойдя к малокровному офицеру, он пребыстро залопотал ему что-то по-немецки; закурив предложенную из серебряного портсигара сигарету, оживился, раскраснелся, отодвинул с глаз картуз. Кто-то из женщин спохватился, вспомнив его прошлое почти двадцатилетней давности.
С просьбой бабы к нему обратились:
– Выручите нас, Герасим, будьте добреньки – не отдавайте рожь! Заступитесь!..
И все с тревогой вслушивались, ничего не разбирая, в его подобострастный лепет с начальствующим немцем, спрашивали у ребят, кто в школе изучал язык немецкий, о чем это он толкует с тем. Да и подумали было, веселея, только повеселевшие солдаты двинулись опять к своим подводам:
– Ну, слава Богу, пронесло, кажись. Собрались, верно, уезжать.
– Нет, – сказала уверенно Наташа. – Они хотят сначала сами все забрать.
Солдаты опять вернулись в шору с большущими бумажными мешками, и растерянность в народе вмиг уже сменилась ненавистью к самозваному старосте.
– Ничего уж не поделаешь, – уже распоряжался он, угождая, как-то по-новому ненатурально-пружинисто задвигавшись около вороха зерна. – Надо вначале налог заплатить. Как же иначе будет воевать немецкая армия? Кто же будет ее снабжать продовольствием?
И было-то до странности нелепо, глупо, дико это угодничество, это превращение черного совсем мужика в этакого рассуждающего распорядителя чужим добром. Последним человеком ведь был, а захотел стать первым – тоже «господином».
– Эва, дошлый какой: того, Силина, спихнул, – изумился кто-то несведуще.
– Да черта с два! Просто поделили они, аспиды, свои полномочия по управству здесь.
– За ними, сорняками, где ни пропадало, – вполголоса говорили работавшие на току.
– Это еще Гюго писал: нельзя быть героем, сражаясь против Родины, – сказала и Наташа, читавшая его очень много.
– А для таких людей правило одно: где хорошо, там и отечество.
Так с обмолотом ржи все кувырком пошло: кособрюхие забрали себе всю ее. Ну, и, стало быть, потом зачали еще что-то добывать, выжимать из населения, ища неположенное ими.
XVIII
Велико навеяло снега. Был жемчужный мороз. В своем перевоплощении дьявольском Силин вбухнулся незвано к Кашиным. Шарнув входной дверью, загудел… Здравствуйте… Пожалуйста… Не ждали? Он привел с собой одного фашиста и двух съежившихся здешних мужичков, приглаженных понятых, – Егора Силантьева и Семена Голихина, или, иначе, как называли за глаза второго, Сено-Солому, – с заступами, с ломом. Умопомрачительная дикость: уже изготовился он дом обыскивать! Скор же!
Заходили под ним половицы жалобно.
Дознание повел издалека:
– Анна, угадай, зачем пришел к тебе! Не знаешь, что ль? Подсказать тебе? Молчишь?!
Шоры накатил на бельма, пёр себе – и будто бы не видывал, что захватчики уже самостоятельно, еще не прибегнув к его падким, услужительным способностям, и притом с профессиональным знанием и нюхом, все обрыскали и пообобрали все окрест дворы, подвалы и чуланы, и амбары, и сараи, – группами, поодиночке, на автомашинах и фургонах. И они себя нисколько не обидели, не обделили ни насколько. Разве ж этакое можно, допустимо – обделить? Но, как говорится, разыгрался волчий аппетит. И поэтому пособник, коли в перевертыша преобразился, лез из кожи вон в услужении своем, чтоб только найти фонтан новых возможностей в изъятии у обобранного уже населения припрятанных для пропитания продуктов. До чего же докатился…
Растерялась было Анна. От такого оборота…
– Как нам, обездоленным, нынче знать, Николай Фомич, для чего кто в не свои избы ходит, проверяет, у кого положено что плохо. – Побелевшая, она медлила, вылезая из подпола с эмалированной чашкой набранной квашенной капусты; балансировала на одном колене над черневшим лазом в полу, глядя на пришельцев и страшась еще того, что вот-вот загудит с капустой опять вниз. И то ли она охнула, то ли простонала тихонько, точно надломившись, – то ли от боли физической (спина у ней нет-нет побаливала – схватывал радикулит и еще какая-то хвороба нераспознанная), то ли от боли душевной за все. Ведь с чужеземной солдатней что-то непоправимо страшное объяло ее дом. Она с детьми была брошена на произвол и позор, а потому теперь и сама должна была постоять за них и защитить их – ведь никто уже ей не поможет… Вот они, поджавшись, затихли в переду, но глядели на вошедших исподлобья, взросло и по-детски немигавшим взглядом, ясно говорившим тем без слов: «Ах, вы подлые собаки!» Она справилась с собой с усилием, привстала: – Ведать я не ведаю, зачем вы ко мне пожаловали… – Анна была начеку, сама защищалась до последнего, что называется, патрона. У нее был здесь свой фронт. Особый.
– Ой ли! Разве не догадываешься? Будто?.. – Зловеще ухмыляясь, Силин надвигался на нее.
– Что гадать, коль не дадено сейчас нам прав никаких? – Анна сызнова помедлила, так как в глазах у ней опять круги поплыли; после она внаклонку задвинула массивной неподатливой крышкой вход в подпол, поставила на лавку чашку с капустой. И распрямилась перед красной маской провонявшего табачищем Силина.
– Ну так, значит, Анна, ты никак – никак не знаешь? Не догадываешься даже? Говори! – И ее какое-то чистое, сухое и почти святое лицо, ее полуотрешенное спокойствие, почти непроницаемость взбесили властолюбца сразу: – Что ты свято и невинно смотришь на меня, глаза выпяля?! Не узнаешь?!
– Я сказала ведь, – не уступала Анна: – Не могу я отгадать, что вам вздумалось.
– Ты лучше подобру и поздорову признавайся нам: хлеб колхозный прячешь? Где? Покажь! Говорю ж тебе: от греха подальше… И напрасно время не тяни. Себя губишь. Час неровен… Н-ну! Где запрятала ворованную рожь?
– Да, признайся, ты признайся, Анна, лучше, – омерзительно вторили ему подвывалы.
– Что вы, батюшки, помилуйте, какая рожь ворованная, где? Один непочатый мешок зерна, чем колхоз помог, авансировал, – и все-то мои хлебные запасы на сегодня. Кот наплакал. Смех! – Анна не могла сказать злодею всей голой правды. Круто ж изменилось все в течение коротких дней! Казалось, вот-вот-вот еще, три месяца назад, когда дивно грел июльский день, а Анна безутешно плакала и голосила, провожая призванного на передовую мужа своего, Василия, – еще ведь тогда Василий, утешая ее, говорил, что это лишь поверка. Соберут на семьдесят пять дней – и все. Затем мужики домой вернутся. Ты не плачь, не убивайся. Она с проводов пришла домой, а дома хлебушка ни горсти нет. Хоть шаром покати в ларях. Пошла в правление колхоза. Там и выписали ей два пуда ржи. И только. И хлеб уже доставали, где могли. – Спрашивается, чем я прокормлю семь целых ртов?
Силин ухмыльнулся:
– Ишь, я погляжу, заговорила как! «Помог колхоз!» Держи карман шире!
– Я не по-другому нынче говорю, Николай Фомич, – по-прежнему. Но ежели вам не нравится что, – пожалуйста, и помолчу. Не буду плести ереси всякие.
– Так ты, значит, утверждаешь, что не знаешь? Ой, гляди!.. Не промахнись…
И почти смиренно, с тихой убежденностью в правоте своей, она ему выложила:
– Что «гляди»? У нас с вами «знаешь», видно, разные; не обессудьте нас поэтому. Не положа не ищут.
– Ты бы, Анна, пока не храбрилась, не храбрилась зря. Чай, не на собрании отчетном паришься… Ведь отлично понимаешь, что накрылась прежняя вся власть и колхоз твой лопнул. Даже и сбежать вам не помог! То-то!
– А я и не просила никого, Николай Фомич, бога не молила; сами судите, столько сейчас нас, обездоленных головушек в родном гнезде, что нам отсюда не подняться никуда. Мы-то от бомбежек выезжали временно – куда подалее. Да германские войска к Москве нагрянули. И грешно тебе-то, Николай Фомич, так измываться над своими ж. Смелым воином ты здесь заделался… Не в окопах опаленных. И пошел на нас, одних баб да ребятишек малых, сирот. Тогда как наши мужья, братья там, на фронте, головы за Родину кладут, кровь проливают. Ох, мои родимые! Где же вы, защитники наши единственные? Неужели одолели вас? Да придите, защитите нас!..
Она всплакнула, и слезы, как спасательное средство, несколько смягчив, разрядили это опасно напряженное столкновение.
– Ну, безумная, я мигом прищемлю тебе язык, – тем не менее пообещал ей взбешенный негодяй. Густо он побагровел, шумно задышал и, судорожно сжимая в руке рукоятку плетки, зашагал туда-сюда по кухне, по передним комнатам, словно умерял в себе амбицию, что взыгралась мелким бесом оттого, что он, вышло, понапрасну, грозно пыжится: не смог даже усмирить смирнейшую домохозяйку, уж не говоря о безусловном раболепии. Как же так? Кто же он тогда такой? Перекатывались желваки у него на скулах. – Что там с муженьком твоим – меня не касается; у меня другая власть, которой я теперь служу. И ты больше мне о нем не напоминай! Да не темни! Отвечай, – в последний раз я спрашиваю, – где ты спрятала рожь? Шора к тебе ближе, чем к другим… Сказывают, тяпнули мешки в последнюю бомбежку, ночью…
– Специально, что ли, я с ребятами бомбежки караулила?
– Мы еще дознаемся, ты не волнуйся.
– Можете проверить: все бомбежки в эти две недели пересиживали мы в Дубакино. Да и такое непосильно было б сделать, больной…
– Ну, сыночки постарались… Найдем – будет крест тебе. Ты знай: в расход публично пустим, церемониться с тобой уже не будем, нет. Не жди.
– И не жду от вас.
– Ладно!
XIX
От его угроз леденящим холодком обдало. Дрожь пробила ее всю. Только она, молодец, не дрогнула-таки – ни в какую не созналась в том, что действительно ее старшенький малец Валера и Полюшка притащили семь мешков ржи и пшеницы, и кинули их в окоп, что уже хорошо, полузасыпанный снежком, таился в кустах вишенника… Помнила она всем материнским существом своим, побеждая небывалый страх любовью, о беззащитно слабых ребятишках, кого трудно нянчила, выхаживала без конца, лечила и чьи живые и бессмертные глаза с золотистыми прожилками изо дня в день на нее смотрели преданно, помнила она особенно, что должна во что бы то ни стало досыта их чем-то накормить, их, а не прожорливую гитлеровскую банду да радетелей новоиспеченных.
Затихая, она всхлипывала:
– Я вам не препятствую – ищите на здоровье, где хотите, неположенное. Вы вольны…
Бестелесно-тонкий офицер, подбирая и коверкая русские слова, старательно тоже ей разобъяснил, что хлеб отшень-отшень нутшен для великой (он подчеркивал интонацией) германской армии. Пятое, десятое. Надоело ей нахлебников таких выслушивать. Что же выходило по их заповеди: отыми кусок последний у малюток, вынь изо рта и с благостью отдай отъявленным грабителям?! Да у кого ж рука на то подымется?! И она отрезала фашисту:
– Надобно и человечность понимать. Нас и так уже обчистили ваши солдаты: кур, гусей порезали, зерно, сено и овес забрали. Что еще отдать? А что как война перекинется в Германию, придет, застигнет точно также ваши семьи – что тогда, скажите: тоже нужно будет хлеб отобрать у детей немецких – вырвать изо рта? Как по-вашему?
Просвещавший офицер аж потемнел – Анна, видимо, его достала – на какое-то мгновение; она высказала то, о чем ему даже и не снилось – еще не было такой нужды. Однако тотчас, оживившись, он с улыбкой превосходства над упрямствовавшей попусту русской женщиной решительно заверил:
– О, Ausgeschossen! (Это исключается!), война в Германии не будет, frau, nein; ви не бойся, nein. Биштро Москва кончится. Kaput! Крышка! Да-да-да! Што подарено, то подарено. Мы, немцы, говорим так. По пословице. Понятно?
Дескать, нечего и говорить о том.
– Я не знаю, как у вас получится, усмехнувшись, опять не согласилась Анна с ним. – По какой пословице? У нас раньше доки также предрекали: скоро заворошка эта кончится…
– Хватит, Анна, брось свои дурацкие дебаты! – взревел Силин, взъерившись. – Нам твои растабары не нужны! А уговоры кончены! – И понятным скомандовал: – Айда, мужики, со мной! Со двора начнем… Копнем…
– Alles Gute! «Всего наилучшего» пожелал ему любезно, отваливаясь восвояси в этот раз, офицер, представитель насильственной силы захватчиков, в угоду которых он, Силин, старался безумно, бессовестно. Они же притворялись еще будто стеснительными какими – еще не всегда показывали (и афишировали) прямо своего усердия в такой обираловке повальной. Как если бы все это – дела самих русских. Вы, русские, пожалуйста, и грызитесь между собой и сами разбирайтесь, кто кому сколько должен, но лишь бы нам, немцам, было прибыльно от этого.
Но – ищи, свищи. Кто кого…
Этот весь почти день изверг безуспешно, уличая, Анну донимал и радетели втроем взламывали до седьмого пота пол в чулане, и особенно в омшанике, когда-то утепленном для телят и поросят (было подозрение, что здесь нечисто: и могло быть зарыто что-нибудь), и долбили во дворе, усердствуя, примороженную землю; они пооблазивали, пообшаривали все-то закоулочки, ниши, щели, ямки, чердаки; не найдя уплывшего зерна, они поотстали, бросили свое безнадежное занятие – в навек оскорбленных к Анне чувствах оттого, что, как ни утруждались, они не добились своего. Хоть разочек Кашиным повезло…
Они утопали с обыском в другие избы.
В дальнейшем схожие набеги множились. Столько было их – не счесть. Даже до того уже вымудрились оккупанты, что налогом обирательным аж обложили на картошку, выкопанную с приусадебного плана, – так еще повыгребли ее из подпола. Заправлял всем этим также Силин, был при сем. Хотя и без такого налогообложения липового они совершенно уже неприкрыто, рукасто, нагло и организованно обирали и ограбляли местных жителей. С удивительной сноровкой.
От этого сразу пострадала больше Поля. Немцы днем подъехали к ее избе, стоявшей напротив Кашинской, в крытой грузовой автомашине; они к ней вошли и подозрительно (Анна в окно видела, наблюдала) застряли почему-то там. Анна побыстрей послала туда Наташу – разузнать, не случилось ли что. Только не было возврата и ее. Побежал тогда Володя. Но и он попал в засаду тоже. Что щенка за шкирку его втащил в избу, едва приоткрыл он дверь и в щелочку заглянул внутрь, стороживший здесь немчура на перехвате. И уже не выпускал вон, как и Наташу, пока несколько мародеров в подполе наполняли мешки провизией. И не только ею. За перегородкой, в кухне, рыдала тетя Поля; в подполе – Толя: у него отняли даже гармонь – парню опять не повезло. В этот раз солдаты-инквизиторы почти все повыволокли из подпола, забрали приглянувшиеся вещи из избы; они вытащили со двора за рога упиравшуюся козу и ее, жалобно блеявшую, насилу затолкали также в кузов грузовичка. Втроем-то еле справились с нею.
И сколько ж раз потом, в трескучие морозы зимние, понаезшие гитлеровцы (и заезжие и захожие офицеры и солдаты, те или другие, а не просто Гансы, Карлы, Эрихи, поминутно, пребывая здесь, под Ржевом, забивали всякий теплый угол) выгоняли по тактическим соображениям – чтоб поуютней да побезопасней им самим расположиться в большой топленой избе – выгоняли поголовно всех Кашиных на морозную улицу: мол, рус, иди, куда хочешь, а нам отдай дом по-хорошему, не зли. Не то хуже будет.
Между тем кровожадный полицай Силин слышно все выискивал, вынюхивал, кто из жителей теперь провинен в чем-нибудь перед новой властью; он стремился скорыми расправами везде внушить страх, ужас населению (коли обирать – то уже было никого и ничего); он шоры накатил на бельма бесстыжие, пер себе на всех… Ведь на ум порченый, пропитанный ядом предательства, всякие поганые мысли взбредали ему на ум без задержки. Он не кривлялся, не стоял на одной ноге, а сразу на обеих твердо; он любил еще прикинуться милягой, доброхотом, но ему только бы и спроваживать на тот свет людей. Завсегда, видать, чесались руки у него, чтобы полоснуть кого-нибудь наотмашь. И уже сажал он под замок в холодный карцер (сарай) на трое суток баб – лишь за их вольные, неуважительные высказывания о нем, о немцах…
Этот проклятущий ирод не оставлял в покое Кашиных: вскоре вновь вломился к ним в избу допросителем, ровно черный черт.
– Анна, пока я по-хорошему говорю тебе: ты верни-ка мне сейчас казенное школьное имущество. Я за ним пришел… – С поразительной наглостью и напором входил он во вкус безграничного самоуправства. Встал он подле беленой печи, что бандит с большой дороги. Ждал, басурман!..
Анна страшно удивилась его словам, впилась глазами в его аспидное лицо, в его глаза бесстыжие:
– Это – какое же такое имущество, господи? Что еще придумали?
– Школьный глобус отдай! Соседские девки показали, что твои ребята его забрали, унесли.
– Ага, вертихвостки-сестрички донесли? – догадалась Анна, вспыхнула: – Мои ребятки его не украли, к Вашему сведению, а выхватили из костра, куда его зашвырнули немецкие солдаты; они жгли книжки и тетрадки и все ребячье, истребляли как заразу какую.
Вот времечко наступило! Ловкие сестрички Любка и Лида из шумливого семейства Шмелевых, перекочевавшие с приходом немцев в опустелое школьное помещение (учительница Инесса Григорьевна и председатель Соломон Яковлевич, жившие здесь с дочкой, уехали), бойко воссиживали на коленях солдат (это Наташа видела) и цыганили у них формованные кругляшки конфет-леденцов:
– Ну, давай еще! Мало даешь! Тебе жалко, что ли, кавалер?! – и вырывали сладости у тех из рук.
– Так, где глобус? – гремел голос Силина. – Отдай!
– Сейчас принесу… Я не понимаю. – Анна все-таки возроптала, защищаясь: – Для чего ж, скажите, глобус Вам? Пусть мои детишки лучше тешатся – они по нему учились прежде: он дорог им. Понимаете?
Силин сверкнул глазками. И сильнее сжал в руке плетку. Тем не менее, порадовал:
– Власть новая сейчас наново воссоздает школу сельскую, начальную. Уже парты приискали, приготовили, завезут комплект. Учительниц пригласили. Учеба в школе обязательна для всех ребятишек. Потому и собираем все…
Усмехнулась горько Анна – не сдержалась снова:
– Значит, собираетесь учить детишек грамоте? Очень хороши «освободители»: все сначала изожгли, не разбираючись, а теперь… вишь, понадобилось для чего-то просвещать детей мужицких… Проявляют вдруг заботу…
– Придержи-ка свой язычок! – багровея, зашипел Силин. – Прикуси! Он тебя погубит, говорю! Убери свои глаза правдивые!.. – заиграли желваки на скулах у него.
Видно, все не мог он простить ее за то, что был когда-то отвергнут ею: его домогательства, нахрап не нравились ей. А главное, он не был работящим парнем. И поэтому еще он все еще взъедался так на нее…
Ну, унес он глобус драгоценный… победителем!
Для чего-то немцы и взаправду открыли прежнюю начальную школу (видимо уже поверили в свою победу). Привезли сюда, в помещение при ней, двух неместных русских же учителок-сестриц курносых, даже привлекательных и очень щебетливо-глупеньких, но говоривших мило, хорошо по-немецки с зачастившими сюда к ним немецкими офицерами. Галантными кавалерами, форсивших в галифе с кожаными вшивками. В кожаных перчатках. И еще с плетеным хлыстом… С этими ухажерами учителки катались на лошадках по полям просторным. Они, не унывая, восторгались, например, меткостью стрелков немецких: видите ли, «мессершмитт», или еще какой там их истребитель, достал с первого же захода их родного папу, забившегося в канаву, – первой очередью… Поразительно!
На занятиях в воссозданной фашистами сельской школе, или ее подобии, ребята, разумеется, не изучали никакой истории родной страны; они зато зубрили закон божий, и их учили величать «господином» старосту и также полицая Силина, а равно – и вышколенных, также зачастивших в класс, офицеров немецких, и вставать из-за парт и кланяться при вхождении тех. Оттого вся малышня, не привыкшая к таким порядкам, самолично разбежалась, спустя каких-то двух-трех недель. И в том числе Верочка Кашина, первоклашка…
Примечательно то, что наступил период проявления народомыслия в главном; все уже кумекали, как лучше приспособиться к выживанию в таких ужасных условиях. Так, многие вдруг занялись деланьем для себя ручных мельниц, чтобы молоть зерно на муку, что было проблемой, так как никаких мельниц теперь не было и не было продажи муки. Оказалось это мукомольное дело и не столь мудреным. И братья Кашины с ним тоже вполне справились, подсмотрев у мужиков проект: удачно сделали небольшую ручную мельницу сами. Они для начала ровнехонько отпилили от березового бревна два кругляка и вот, выдолбив в одном из них насквозь воронку (для насыпания в нее зерна), спирально вколотили в один и другой торцы ребрами мелкие осколки разбитого старого чугунка. Нижний кряж, который должен быть неподвижным, обили по краю железной полосой, приладили сюда железный лоток, а к верхнему меньшему диску приделали снизу металлическую планку с дыркой и длинную подвижную (чтобы вращать на штыре верхний диск) ручку. Признаться, отцовская, недоделанная мельница была громоздкой, ее каменные жернова были диаметром более полуметра, и было слишком тяжело прокручивать верхний камень детскими руками… А тут если, например, дважды пропустить зерно ржи через такую вертушку, то мука выходила вполне приемлемо мелкой, почти как на мукомольне.
На этом народ тоже учился, как выжить. Опыт бытовой. Приходящий.








