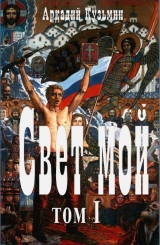
Текст книги "Свет мой Том I (СИ)"
Автор книги: Аркадий Кузьмин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
XIX
Жал декабрьский холод, и тягуче скрипели на большаке их повозки кованые. Гнал куда-то жестокий конвейер войны ее ревностных служителей. И одни из них выкатывались откуда-нибудь отсюда, а другие прикатывали им на смену.
Днем же заявилась к Кашиным на постой троица захолоделых немцев – были они в шинелях и натянутых серых шерстяных наличниках под пилотками, надвинутыми на уши: толстозадый солдат с сырым, заутробным голосом, молоденький ефрейтор, заважничавший тотчас, и гладкий, видный собой нацист в очень добротной шинели без погон (вообще одетый весь весьма добротно) и с забинтованной правой рукой, лежавшей согнутой в белой повязке, перекинутой через плечо, именно последний вроде бы и главенствовал у них какою-то несолдатсткой солидностью и уверенностью в себе, в то время как ефрейтор выглядел так уморительно-комично (в сочетании с заносчивой важностью), что попросту смешил всерьез, несмотря на столь уж неблагоприятствующий момент для смеха. Наташа не смогла сдержаться – легонечко порснула в ладошку. И он-то, уязвленный гренадер, вновь запнувшись в кухне на мгновение, моргая, с удивлением взглянул на насмешницу, позволившую себе вызов, дернулся и фыркнул:
– Schwein mensch!
С этого все началось.
По-солдатстки скупо осмотревшись и толкнув дверь в светлые комнаты, они втащились сюда с вещами и с бесцеремонностью, как водится, стали раскладываться в них; никто из немцев никогда не спрашивал ни у кого из местных жителей никакого разрешения на вселение: избы оккупировали мигом… Как должное.
– Гляди-ка, еще с характером! – проговорила Наташа. – Какой фашистенок… За что-то обозвал нас свиньями. А сам без спросу вперся… Ежится…
Прибывшие повелели Анне истопить для них лежанку кафельную, сложенную впереду, – они взаправду заморозились, что сосульки. Дрогли. Потом кружком засели и начали молотить подряд консервы, сыр, галеты, пили шнапс. А вскоре, отогревшись и отъевшись, поснимали и шинели с себя. И вот уже порозовевший лицом беспогонник вытащил с собой на кухню колючего, но и комичного ефрейтора и весело представился всем, теснившимся у стен родных, словно желая сразу растопить в русских лед отчуждения к ним, чужим солдатам, и показывая этим самым, что они такие ж люди, как и все (притом он изъяснялся сносно на ломаном русском языке):
– Это есть я, Вальтер, – подвохом могло пахнуть с его обходительностью; уж сколько раз жители обжигались так – пока прохладно стали разговаривать с ним, не поддавались на его призывы.
– Ja, das sind wir. – Да, это мы, – заносчиво, картинно изрек и Курт, почти еще мальчишка, но явно уже потрепанный где-то немыслимой войной.
Все-таки смешным он выглядел. Верхняя часть лица у него была почти нежная, почти женская; нижняя – с тяжелым, свирепым выражением. И Наташа оттого-то снова прыснула смешком и с едва скрываемой насмешливостью обратилась к нему:
– Mit deinen zwanziq Jahren… – В твои двадцать лет… И уже в России?
– O! Ich steiqe auf einen Berq. – О! Я поднимаюсь на гору, поняв – ее по-своему, заговорил он, польщенный. И Вальтер переводил его дальнейшие слова. И был в них следующий смысл. Труднодоступную вершину надо одолеть. С нее откроются все перспективы для него и всех людей, для которых они, немцы, заведут очень хорошую жизнь. С особенным порядком и свободой. Все дело в том, что они строят свой особый социализм, не такой, какой строил Сталин (он плохой, а вот Ленин лучше был). Понимаете? И для того они, солдаты Германии, надели на себя почетную одежду германского мужчины – военный мундир (сам великий фюрер носит только его): чтобы воцарилась всюду справедливость.
– Ну, мы это уже слышали и видели, – прервала Наташа вдохновенное вранье Курта, в которое он верил сам. – Лучше вы скажите нам, что Москва? Когда закончится война?
Курт замялся, опустил глаза. А Вальтер без утайки сообщил:
– Война еще не капут, нет; она теперь не скоро кончица – долго ждать. Мы едем прочь от Москва. На отдых. Тыл. – И он значительно обвел всех нас глазами.
Действительно сообщенное им для Анны, Дуни, всех было исключительно по важности своей. Ведь до сих пор захватчики без умолку трубили нашим жителям с восторгом – все уши прожужжали – о скором взятии Москву, о своих ошеломляющих победах, и вот, плохое, что-то лопнуло у них… коли говорится все напрямик – с такой откровенностью… Что, осечка непредвиденная?…
– Отчего же, Вальтер, не капут? – спросил Антон, смелея и волнуясь от того, что мог услышать дальше.
Курт, оставленный вниманием к нему, с маской оскорбленности буркнув что-то неразборчиво, ушел обратно в комнату. Этим самым он несомненно еще больше развязал язык, видно, очень словоохотливому Вальтеру.
XX
Желание поговорить распирало его всего.
Бывает, поглядишь: один человек (как, например, Курт) с глупым, пустым лицом, а другой – с очень умным, живым.
И такое умное лицо – с выпуклым лбом и соразмерными чертами – было у большого густоволосого и заметно тучноватого, но и моложавого, и поворотливого на редкость Вальтера. Какой-то светло-праздничный, он, казалось, был настолько заражен, вопреки всем солдатским невзгодам, беспричинный радостью и веселостью, что этим и хотел немедленно же без лишних свидетелей-сослуживцев поделиться с русскими женщинами, только вот послушайте его, как это поучительно. На него, по-ведимому, нашло необъяснимое самому себе воодушевление – и он слово за слово, с блаженным прямо-таки упоением стал расписывать всем, кто сейчас хотел услышать его живые подробности об их неслыханном, незапланированном бегстве из-под Москвы, словно то быть чуть ли не самый замечательный для него лично (вызывавший такую восторженность) исторический момент, в котором ему довелось участвовать, хотя и с противной, как говориться, стороны. И он ничего не путал тут. Советские солдаты своим героическим духом явно заражали и восхищали его, и он несказанно восхищался теперь теперь тем, как их, немцев – их, прославленных вояк, – разбили русские и, разбив не только прогнали прочь от Москвы, но и заставили побросать, как он говорил, коверкая русские слова, тыща орудий, тыща танков и машин и тыща повозок с лошадьми.
Да, в реальной жизни все оказывалось куда сложней и запутанней: опрокидывались все завоевательские расчеты немцев, много раз уже проверенные. И это, безусловно, задевало, било по ограниченному захватнической политикой немецкому самолюбии. Тем страннее было услышать от Вальтера, сильного, вероятно, мужчины, которые совсем не шепотом, особенно не таясь, рассказывал об их большом поражении так, будто этой новостью сокровенно делился с верными друзьями, понимавшими и принимавшими его тоже таковым. Но и тем значительней явились для женщин, Антона и других откровенные свидетельства очевидца событий, а не построенное на погадках и предположениях те или иные соображения. Зато с особенным взлетом настроения от его необычных признаний Наташа с сиявшими глазами, одевшись тепло, в валенках, помчалась на холодную улицу, хоть и с лопатой в руках. Ей еще следовало по принудке, как и другим деревенским девчатам и парням, доработать этот день на расчистке большака от снежным заносов.
– А вы, немцы, небось, думали что: – трах-бах – и готово? – съязвил Антон на радостях. – Русские и лапки кверху?
– О, мальтчик, это дикая, ужасная страна, это все нехорошо. И что ты говоришь. – Вальтер засмеялся. – Да. Да. Я видал Москва. Я близко Москва был. Хороший бинокль наводил – Москва видал. Только колёдно, – и движеньем тела показал, что ему было холодно, мелко задрожал. – А русска зольдаты песни поют. Was? Катьюша. Расцветали яблоня… – И, вынув из нашитого нагрудного кармана маленькую губную гармонику (такие гармоники были очень распространены в германской армии среди солдат), взяв ее в рот и надувая, он уже и попробовал поиграть перед столь благодарными слушателями мотив этой широко известной нашей песни. И затем, перестав играть, продолжал непосредственно, жестикулируя одной рукой с зажатой в пухловатых пальцах гармоникой: – Русские богатыри. Во! Они – без перчаток. Нипочем мороз. Русские бой пошел на нас: «Ура! Ура!» Хорошо. Наши пушки, танки, зольдаты – все хапут. Стало. Мы побежали. Ужасный страх напал. Я пистолет свой достал, а пуля – чик меня по руке сюда. Все бросили там.
Это благорасположенная откровенность и общительность Вальтера приятно поразили Кашиных и Дуню, наряду с захватившим воображение сообщенным так свидетельством перехода в наступление наших войск восточней Москвы – значит, сюда, в западном направлении, куда и драпанули в испуге немцы. И, пораженные еще его непонятной приподнятостью от этого. Анна, Дуня и Антон глядели на него во все глаза: да откуда это все у него, у заядлого немца? Он же ведь не перестал быть патриотом нацисткой Германии, не переродился ведь начисто оттого, что им наподдавали под Москвой? И как радовались теперь пробившейся к ним таким непосредственным образом частичке правды, которую слышали открыто от него, солдата, хоть и недруга. Он своим свидетельским рассказом о фронтовом событии, хотя и не называл конкретно движение фронта относительно городов и других пунктом, укреплял в них, местных жителях, уверенность в освобождении – что оно не минет их, обязательно к ним придет. Может, даже очень скоро.
Так разоткровенничавшись, при первом же знакомстве с хозяйкой Вальтер далее сказал, что он сам живет в Берлине и что у него есть жена и двое небольших детей. Спохватился, просил подождать:
– Один момент! – Шагнул в комнату и скоро вышел оттуда и вынес в изящном шоколадного цвета ящичке с крышкой тонкие эрзац-сигары и отдельно пачку аккуратных фотографий. Присел за стол кухонный.
Вставив сигару в рот и щелкнув зажигалкой, и прикуривая от нее, а потом и демонстрируя всем свои снимки с собственными чадами – аккуратно одетыми и причесанными девочкой и мальчиком. Сновал рукой с круглым зеленовато-серым, под цвет мундира, кольцом на пальце. А в ответ на женскую похвалу тому, что он прилично разговаривал по-русски, он, довольный, сообщил, что учится разговаривать на русском языке, что он изучил уже два иностранных языка и что в предпоследние годы уже побывал в Америке, Испании, Франции, Югославии.
Никто не знал, что и подумать о нем; все вроде бы говорило в его пользу – за его человечность. И он, должно быть, нуждался в таком открытом общении с местными людьми. Так и пошло у Кашиных какое-то словесное сближение с ним, особенно у Антона лично, поскольку старшие брат и сестра мало бывали дома – их со всей деревенской молодежью ежедневно выгоняли оккупанты на различные работы.
– Сюоз Советише Социалистичише Республиканция? – спросил при очредном выходе в кухню Вальтер, указывая на слово СССР, отпечатанное на этикетке советского спичечного коробка, который он таскал в кармане.
Антон, смеясь, поправил его – сказал, как следовало произносить правильно. Однако, спустя сколько-то времени, он выговорил и вторично то по-своему. Более того, с этим коробком в руке он даже ночью, вставая, дважды выходил в кухню, полусонный, и подсвечивая карманным фонариком, расталкивал Антона на палатях (благо тот на сон был чуткий) и все справляется:
– Союз Совьетише Социалистичише Республиканция?
– Здравствуй, пожалуйста! Тебе же говорят что… – Проснувшись, Антон начинал учить его правильному произношению этих слов по-русски: до утра он подождать не мог, не в его натуре было…
XXI
Скрипели на снежно-морозном большаке повозки кованые, и мерный и жгучий их скрип слышался в согревавшей всех избе.
Между тем со второго дня общения с Вальтером заладилось та-кое, что за обеденным столом (стоявшем в углу), за которым отец летом прощально разговаривал с детьми. Антон, щупленький, не учивший-ся уже шестиклассник, сидя напротив массивного и массивно ду-мавшего Вальтера, поигрывал с ним в самодельные шашки, которые нарезал и выстругал, и выкрасил тушью – только черные – для отличия черных от белых. Антон любил играть белыми шашками. И спуску своему партнеру не давал. Для него эта шашечная игра с ним была принципиальна. Она являлась собственно своего рода тренировкой, или, точнее, даже воспитанием храбрости; так, когда Антон бил шашку противника или снимал ее с игральной доски за фук, то с простотой сердечной обязательно и приговаривал (игра, так до конца игра):
– Это русский самолет (слово «советский» немцы плохо понимали, либо не хотели понимать) сбивает самолет немецкий. Видишь? – И для вящей убедительности еще пикировал при этом сло-женным бумажным самолетиком. На позицию неприятельскую.
– Nein! Nein! – кипятился уже Вальтер, принимая игру Антона. Победит Германия. Вот, пожалюста, гляди! – И с неуступчивым самодовольством отыгрывал у него шашку, две.
Затем уж совсем бездоказательно исходился весь – сбивался на бред и пыжился воинственно: мол, а когда падет Россия (в этом он убежден), все ее богатства и людские ресурсы, а также тыщи пресловутых немецких танков и самолетов повернутся на Англии, а потом и на Америку, на Индию. А лучше: с русскими заключим союз. И тогда вместе на всех пойдем. Вот с какой тео-рией – желанием он выворачивался, желая видеть Германию сверхдержавой, а немцев «сверхчеловеками», умевшими командовать всеми.
Подобное, противоречащее логически – здравому смыслу, случалось с Вальтером тогда, когда хмель низкопробного воинствования еще крепко, вопреки всем фактам, шибал в голову ему. Зараза гитлеровского шовинизма ела и его, как вши.
В споре Антон нисколько не уступал ему; с пристрастием сызнова убеждал его в том, что нельзя расколошматить миллионы русских и что они-то не пойдут ни на союз с врагом, ни в завоевательный поход. Напрасные иллюзии.
И все это определялось не какой-нибудь его шуткой, не про-стой ребячьей игрой на чьих-то нервах, отнюдь. Это не было ло-жным, поверхностным пафосом, налетом какой-то спорной бравады, а выражением (пусть и столь примитивнейшим образом) настоящих сильных чувств; все то, что называлось и было русским, советским, натянулось тоже и в юных русских сердцах и зазвенело с небывало звенящей дотоле силой. Для пацанов, попавших в оккупацию, жизнь, хотя и оголилась вся, не опостылела окончательно: не – смотря ни на что, в них – от мала до велика – жила несломленная гордость и непоколебимая вера в будущее.
– А что же Москва? – напоминал Антон тогда Вальтеру, когда ис-сякали уже действующие на него аргументы. Поминай теперь, как звали? Ишь? Ваше дело швах.
Так запросто перекидывался Антон с ним любезностями.
И тут вовсе не глупый Вальтер при одном лишь напоминании ему о Москве опять преображался начисто: что-то восторженное (а не то, что ему больше нечем было крыть) начинало сиять на его подвижном добряцком лице. И тогда он с еще большим воодушевлением – в который-то раз! – принимался образно рассказывать, мешая русские и ненецкие слова, о счастливо-спасительном для него бегстве без оглядки оттуда, из-под Москвы, вместе с разбитой германской армией. И вздыхал, откровенно переживая: его очень близко волновало то, пережитое им. Раскуривал сигару, дрожа пальцами. С остановленным взглядом, словно устремлен-ным вглубь себя или еще куда-то.
Единственно, чего он не мог сказать в точности: это где же сейчас находился фронт.
Но они еще рвались, рвались куда-то. И копеечную совесть их ничем нельзя было как-нибудь пронять, затронуть, прошибать. Они, значит, и Россию нашу хотели переломать, и весь мир остальной, включая Индию, оставляли на «потом»; а поскольку род их такой победительной деятельности отложил на них свой особый отпечаток, – в них вселилась холодно-надменная, лицемерная и мертвящая непроницаемость.
Что они могли сказать?
Да, агрессивная стратегия была одно. В милитаристских выношенных планах было педантично все по дням расписано, куда мобильные войска вторжения войдут тогда-то и тогда-то, с чем по-кончат и кого придушат, расширяя для арийцев «лебенсраум» – жизненное пространство, и даже предусмотрено, они похвалялась, то, как отпразднуют в Берлине в честь этого. Но бронированный немецкий громила, налетчик, обжегся о крепкий дух советских людей, вставших на священную защиту своего отечества. В этом есть истина. И этот неброский дух народный вырос таким, что великолепно смазанные колеса погромной нацистской машины с более чем удвоенным потенциалом и военной мощи покоренной Европы (хотя он и без того вдвое превышал наш), вскоре уже не могли проворачиваться ни на пядь вперед. Сколько не давили изуверзки немцы нас, русских. Наши колодки заколодили их, заставили громоход пятиться назад и спотыкаться.
Оттого мрачнел и видно нервничал заносчивый по молодости Курт, но еще старавшийся по-прежнему впечатлять собой – позерствовать. Оболваненный служака, он был подозрительно насторожен ко всему, что делалось него; он не заводился с русскими цивильными жителями и старался избегать их, обретших веру, повеселевших, но всякий раз, даже проходя молчком по кухне, где всегда был народ, невольно чиркался об него – и морщился поэтому; нередко заставая здесь Вальтера, ловил наблюдавшие за ним взгляды, какие-то слова за своей спиной – и сопел, раздражался…
С озлоблением на что-то или на кого-то он раздражался, по-видимому, главным образом оттого, что авантюра, в которой он невольно, но с радостью, участвовал и которую столь ревностно защищал, пока не задалась, а что она доподлинно была именно авантюрой, он чувствовал, как и другие немецкие солдаты, силь-ней и сильней – с каждым днем необоримого советского противостояния и противодействия ей. А это грозило нежеланной, непредвиденной катастрофой, Немецким же воякам сверху внушили мысль о молниеносной, прогулочной войне в России, а того не получалось в ходе боевых операций; они мечтали о скорой побе-де, а она, победа, все никак не приходила к ним; войска уста-ли, а война затягивалась день ото дня, и не просто затягивалась, а принимала скверный для них оборот. И они, наверное, уже терзались предчувствием рокового ее исхода. Были они сами больные – и больные мысли были у них: все-равно все разрушить, завоевать, победить и подчинить себе всех.
Кашины не конфликтовали с Куртом. Однако молчаливый конфликт у них с ним появлялся. Курт их ненавидел смертно порой, и они невзлюбили его взаимно, или совсем невзирая на это. Но они вправе невзлюбить его за то, что принесла к нам его армия с собой, за то, что он был оккупантом в их доме, что гордился и бахвалился этим а был смешон со стороны, что мог тоже огреть прикладом и убить в упор пленного красноармейца и мирного жителя и что хотел почему-то гибели Москвы. А ведь у него никакого такого права ненавидеть русских не было, отнюдь. И благородного негодования на них за то, что они жили независимо от его желаний и настроения у него и быть не должно.
Должно быть, холодно-негостеприимной, пугающей представля-лась Курту русская страна, ежели он во сне среди ночи вскрикивал, случалось (и Кашиным это было слышно):
– Люсь, капут? Капут!
Вальтер лишь великодушно посмеивался над своим ограниченным собратом, доверяясь, очевидно, выплескивавшейся на людях соб-ственной человечности, которую ему незачем было держать взаперти. От этого-то не убудет ничего, – словно говорил его здравый, осмысленный вид. Его, казалось, не одолевали какие-нибудь сомнения, ничто в свете не смущало. Между тем, как он нес обычную войсковую службу – тоже дежурил, ходил в караул и ездил куда-то, – и имел не последний чин, судя по тому, на-сколько его даже побаивались солдаты.
Антону только непонятно было, почему же он носил форму без погон (хоть и был с пистолетом), но Антон не спрашивал его об этом – не суть важно.
XXII
Вальтер взорвался – был вне себя.
Известно, что отныне сократилось у населения число различных до-машних, или по хозяйству, дел, поскольку немцы разом порешили живность всю, а у Кашиных увели выделенную им колхозную лошадь; так что ребята делали лишь самое необходимое для житья: пилили дрова и натаскивали их в избу, носили с колодца воду, расчища-ли снег подле избы, да вручную намалывали рожь на сделанной из чурбушков мельнице-вертушке и кое-что еще. А дальше никуда не высунешься. Тем более, что солдат и везде прибавилось снова. Потому-то, Антон, имея свободное время, и поигрывал в шашки с общительным Вальтером, привлекавшем разумностью его к себе, либо просто так, не за шашечной игрой, полемизировал с ним задорно. Даже хотя бы в ответ на его ни к чему не обязывавшее приглашение в гости в Берлин – его родной город, ког-да, естественно, они, немцы, победят в воине.
Засев за стол перед Антоном, пареньком, Вальтер опять раскладывал свои фото, в том числе положил и фото берлинского дома, в котором жила его семья. Правая его рука заживала, пальцы слушались.
– А может, я приеду тогда, когда мы победим? – сказал Антон, опасливо поглядывая на Вальтера.
Их словесная игра словно растягивалась, как тянучая резинка.
– Разрешается. Немец не был злоблив, мстителен. – Подождем тогда.
– Только адрес свой не забудь мне оставить.
– Можно. Да. Unter den Linden strasse. Der Hause…
– Запомню: Унтер ден Линден улица. – Номер дома не расслышал. Переспрашивать не стал.
Видя опять на карточках его умноглазых детей в платьице и рубашке в горошек, Антон на тетрадном листке в клеточку попробовал карандашным огрызком нарисовать (негоже хвастался умением) овал чьего-то детского лица. Однако Вальтер живо отобрал у него листок и карандаш и гораздо ловчее набросал карандашной линией профиль своей жены (он сказал, и Антон догадался сам) в шляпке с кокетливо изогнутыми полями и цветком. Это хоть на визитку годилось!
И тогда Антона заело и озлило: да если безразборчивые пришель-цы эти, такие хорошие, и дома у них все хороши, то зачем не они пришли к нам погубителями? Серьезно спросил собеседника:
– Вальтер, а на что вам, немцам, это господство мировое?
Тот неподдельно удивился:
– Чтобы жить хорошо.
– Кому?
– Всем нам. Мне, тебе, другим.
– А почему вы решали так?
– Говорю: мы, немцы, лутче всех это знаем, а порядка лутче делаем. Мы – лутчая в мире нация.
– Понятно: не свое – чужое ведь; можно бомбить, убивать.
Вальтер непонимающе смотрел на Антона. Внушал ему, что русские – сильные люди, но забиты: у них мало свободы и культуры, а правительство плохое. Старые песни!
– Да, конечно, где уж нам! – проговорил Антон, расставляя шашки на фанерной дощечке. – Наш солдат не жгет, как немецкий, на костре книги вместе с букварями… Некультурный, стало быть.
Так потолковывали, значит… Начистоту.
А в кухне само собой шла жизнь, сновала туда-сюда солдатня.
Пока Антон с Вальтером пикировались, в избу втихую забрел (Антон и не слышал как) какой-то приблудный немецкий солдат. Он момен-тально облюбовал Танюшкины качели, висевшие сбоку печки; пощу-пал те заинтересованно и нож складной достал из кармана, чтобы срезать их (это Антон и увидал), – ему, должно быть, веревка зачем– то понадобилась. Да Анна уже подскочила к нему проворно – сре-зать не давала, умоляла:
– Как же… девочка ведь маленькая у меня. Вот она… Не смей!..
Для малой Танечки вся утеха была в качелях этих, больше ни-чего, никаких-никаких игрушек у неё не было. Откуда ж взять?…
Но гитлеровец, угрожающе просипев, отшвырнул Анну прочь.
Высунувшись в простенке, Курт с задорным ехидством наблюдал за всем, а Вальтер, сидя спиной к двери, ничего не видел, и Антон тронул последнего за локоть, обратил его внимание:
– Вот она, немецкая культура! И порядок… Видишь?..
Вальтер, резко обернувшись, рыкнул на солдата. Но тому, как глухому, замороженному, было все нипочем. И, уже вскипев, взле-тел Вальтер со стула; и так стремительно двинул он ослушника плечом и здоровой левой рукой, что тот манекеном вылетел с проклятьями за дверь, растворив ее собственным грузным телом.
Была война, и, оказывалось, все-то позволялось в ней, даже и подобные конфликтные разрешения между самими немецкими сол-датами.








