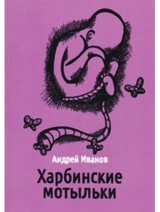
Текст книги "Харбинские мотыльки"
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Видели камень с крестом на груди? Это Тигровый глаз. Камень барона Унгерна! Ну и деньки были… – сказал он в сторону художника. – Барон его у одного бакши выменял, дорогая вещь, удачу приносит… Балахович его в карты у барона в Чите выиграл. Не знаю, за какие заслуги этот камень оказался на груди Терниковского. Знал бы он, что этот камень повидал… Эх-хе-хе…
Никанор ушел в себя, стоял, вспоминал что-то, вздыхал, грустно улыбаясь. Иван перестал стучать ножкой. Сундуков буркнул, что будь тут сам Вонсяцкий, он непременно задал бы ему пару вопросов.
– А то сидит в своей Америке, письма шлет, а их тут зачитывают, из уст в уста пересказывают. Где газета? Почему нет центра? Финансирования? Название партии какое-то странное, к тому же все это не утверждено, не продумано как следует и не оригинально. Кстати, никто из докладчиков ни слова не сказал о том, что в России голод, а это важно и очень хорошо!
– Что ж хорошего? – возмутился Колегаев. – Люди умирают…
– Это очень хорошо, что умирают, – сказал Сундуков. – Теперь поймут, какую власть выбрали, поймут, что за бесхозяйственные мерзавцы страну в свои руки взяли… и грабят! Расхищают! Воры! Вот кому народ страну отдал! Комиссарам, которые ничего не смыслят в экономике!
Стали выходить люди. Доклады кончились. Шли пить чай. Загудели. Голова у кунстника налилась. Хотелось курить. Ложечки позвякивали. Кипятку всем не хватало. Просили кружки сдавать. Ребров быстро отдал свою, и Никанор тоже, а Сундуков пил, тянул, чавкал и насмехался над советской властью, пересказывал анекдоты… и все добавлял:
– Ничего, ничего, скоро придет тот день, когда образумится народ, будет душить и вешать комиссаров!
Кто-то сказал ему:
– Да что ж в этом хорошего? Вешать, душить…
Сундуков опять наговорил гадостей, и над каждой гадостью похихикал. Ребров злился. Колегаев не выдержал и сухим, трескучим голосом сказал ему громко, чтоб все слышали:
– Даже если люди в России что-то и поймут, это ничего не изменит. Для этого надо знать Россию. Там если и поняли что-то, это еще не значит, что начнут какое-то дело делать. Да и давно пора бы понять, с 19-го года этот кошмар все-таки длится, я прекрасно помню, какой Петроград зимой в 19-м был. Что это за призрак был! Не город, а покойник!
– Да наверняка все всё поняли, – поддержал кто-то, и Сундуков скукожился.
– Русский народ, он как русская баба, все простит, все стерпит…
– Да, да, он не станет никого вешать на фонарях… даже комиссаров…
– Вы что, совсем ничего не понимаете? – зло вскричал Сундуков.
– Какая баба?! Мы говорим о народной массе! Во Франции народная масса Бастилию разнесла к чертовой матери! Перво-наперво она должна осознать свою миссию…
– Во Франции… – усмехнулся Колегаев.
– Тем более если осознает свою миссию, – вставил Ребров. – Хотя я сомневаюсь в том, что есть какая-то миссия.
Сундуков обернулся к Реброву, брезгливо поморщился и язвительно сказал:
– Скажите, а вы часом сюда не поесть пришли?
Иван хмыкнул. Ребров поднял подбородок и, не говоря ни слова, пошел к дверям. Колегаев, подкашливая, за ним. Долго искал шинель. Колегаев основательно застегнул свой бушлат, в карман сунул красную брошюру.
– Покажу своим, – перехватил он взгляд художника, – почитаю на собрании – посмеемся…
На следующий день Борис пошел к Николаю Трофимовичу. Собирались на домашний концерт к соседям Соловьевых. Обедали. Николай Трофимович отметил, что Борис плохо выглядит, – художник соврал, что много работы.
За кофе Николай Трофимович из газеты вычитал, что вчера ночью потерпел крушение крупный коммерческий цеппелин, который, помимо нескольких тонн груза, вез почту. Команда цеппелина совершила удачное приземление на можжевеловые кустарники. Никто не погиб.
1931, Ревель
по коридору пробежал призрак Танюши
(внучка фрау Метцер)
* * *
личность – это отблеск булавочной головки, тогда как на самом деле человек, с которым мы перепутали его Schlemel, это металл, из которого отлита игла.
* * *
пошел к Соловьевым вернуть журналы; остановила полиция: двое полицейских посветили в лицо, спросили документы – подозрительно. Пропустили. Геннадий Владимирович сказал, что это с тех пор, как в соседнем доме кто-то был выбран в правительство, поставили на улице патруль. «Надо съезжать», – усмехнулся он. Я побыл только с минуту. Ничего не взял. Больше не приду.
Видел жену Н. Т. – спрятался за афишную тумбу – не хотел с ней говорить. Не знаю, заметила или нет. Думаю, нет. Но сейчас пишу и краснею. Хотя в первую очередь, даже если заметила, должна быть довольна, что я спрятался. Не о чем нам говорить.
* * *
очень долго курил, а потом сидел неподвижно у огня, смотрел на пламя, размышляя о единовременности всего живого; мне казалось, что я слышу, как по чердаку кто-то ходит; наверное, хозяйская служка – косая хуторская эстонка – вышел, пошел по коридору, полез по лесенке, посмотрел: никого – послышалось.
***
чувствую, как тишина сгустилась и не отпускает; готовится картина; вдруг что-то схватывает мое внимание, как те лепестки черемухи на ветру, я откупориваю внутреннее око, жду, жду, а потом – запахнувшись – удерживаю, вынашиваю, ощущаю, как разгорается письмо, гудит, как в печи, возникают слова, как образы на пластинке.
крупица в бесконечной галерее
не я один собираю
не я один
и не обязательно носить с собой аппарат, не обязательно записывать – человек сам по себе – чудесная лаборатория, увидел, значит, присоединился; карандаш нужен не больше, чем спиртовка под чашечкой с ртутью (после кокаина и разврата часть пленки памяти засвечена).
* * *
Люди должны жить в страхе. Оттого и ретива пляска под виселицами. Человечество грабит, убивает, т. к. знает наверняка о случайности своего происхождения, бесполезности, кратковременности. Знает, но прикрывается Библией, философией, наукой. Но знает наверняка: нет у людей другого будущего, гармония в этом мире невозможна, человек не изменится никогда, потому что задуман так: убивать и грабить. Борьба и выживание – вот закон эволюции. Племена будут вести войны, чтобы победил сильнейший. Таково развитие. Мир на планете противоречит самой природе. Все это в нашей крови. Другим человек быть не может. Другого закона не дано.
Вот взять бы Леву, да отрезать ему палец и съесть у него на глазах. От ужаса он никому ничего не скажет, он просто сядет в поезд и уедет. Он не станет ходить и толковать: уехать или не уехать… рисоваться не станет, а бросится в поезд или пешком уйдет без оглядки! Он не сможет со мной находиться в одном городе. Так и человечество – как обезумевшее стадо, мчится, убегает, кричит, извивается, потому как ощущает, как некая сила преследует его, пожирая каждый день сотни тысяч людей – ничего себе палец!
* * *
опять послышалось, что на чердаке кто-то есть: ходит, переставляет мебель, даже послышалось, будто прочистил горло, выдвинул и с хлопком задвинул какой-то ящичек, хрустнула дверца шкафа (так у нас хрустела мебель в П., когда топили первые дни в октябре).
Не выдержал. Вышел проверить. В коридоре Стропилин за ухо тянул маленькое существо, сперва даже показалось карлика, обезьянку. Извинился – я обмер и пошел к себе, а потом вышел проверить, по лесенке: на чердаке пусто, совсем пусто, только стоят сундуки, и никого. Спускаюсь – Стропилин, мнется, тянет манжету, приносит робкие извинения, объясняет: это была его теща. Она «убежала». Мямлил, мялся, выясняется – он в чулане ее держит, а она вырвалась.
– Веревку, хитрая бестия, подточила чем-то. Теперь затянул крепким шнуром. Простите за неловкость! Это так нелепо! Так смешно! Она не в себе – за ней глаз да глаз. Такое неудобство для всех. – И шепотом добавил: – Не говорите фрау Метцер. Она не знает, что с нами теща.
– А разве она за нее с вас больше возьмет? Она же за комнаты берет.
– Все равно не говорите, пожалуйста. Я не сказал, когда вселялись, побоялся – больной человек, никто не знает, что на уме, – за вас неудобно-с.
– А я тут при чем?
– Вы все-таки поручились. Потому не сказал, побоялся, а теперь как-то неловко… post factum. Понимаете, как это выглядит? Как человеческая контрабанда!
– Так это она по чердаку шастает?
Он развел руками.
– А вы не слышали, как кто-то по чердаку ходит?
Он пожал плечами. Пошел. Он так говорил про тещу, словно не с ним все это, не про свою жизнь, а про соседа. А может, он жизнь воспринимает, как лунатик. Немудрено: был учитель и редактор журнала, а теперь никто.
Вот опять что-то грохнуло. Нет – на этот раз в дверь стучат.
Ребров отложил записи. Встал. Открыл: Стропилин. В костюме, с галстуком. Платок из карманчика. И надушен!
– Извините за беспокойство.
– Да ну что вы, никакого беспокойства, – угловатым жестом Ребров пригласил писателя войти. – Пожалуйста! Вы куда-то собрались?
– Нет, я к вам. Вы так не мерзнете?
– Нет, я привык.
– Холодно у вас. – И воздух понюхал.
– А у вас, все хорошо? Ничего не случилось?
– Случилось? Нет. То есть да. За этим и пришел.
Евгений Петрович порывисто сделал два шага, но не успел разогнаться, остановился перед полкой с книгами, обернулся вокруг своей оси, оглядываясь, куда бы сесть. Посмотрел на мольберт, прикусил губу.
– Простите за вторжение! Честное слово, я никоим образом не хотел прерывать вашей работы…
– Пустяки. Я и не работал вовсе. Только краски переводил. Чай, вино?
– От бокала вина не откажусь. – Стропилин сцепил и расцепил пальцы.
– Присаживайтесь в кресло. – Ребров схватил с кресла распахнутый том, поставил на полку. – Так что у вас случилось?
– Все-таки работали. – Стропилин покосился на стол: чернила поблескивали, тетрадь раскрыта – строки свежие…
– Это чепуха, – сказал Ребров, отодвигая подальше к окошку тетрадь, зажигая еще две свечи. – Для себя.
– Все мы это для себя… Извините, я хотел вас одну вещь спросить, – начал Евгений Петрович, – только не знаю, как начать…
– Да начните как-нибудь, – сказал Ребров, протягивая бокал вина. У Стропилина было напряженное лицо, он улыбался, но улыбка эта была натянутой, и ногой потряхивал.
– Благодарю, – пригубил. – Хм, крепкое!
– Да, хуторское.
– Тем лучше! Тем проще будет разогнаться с этой историей.
– Да что за история, Евгений Петрович?
– Попробую начать с того, что уже несколько лет я пытаюсь… Хм… Нет, не оттуда зашел… Мы недалеко от порта жили, как вы помните, – Ребров кивнул, – а там велись судостроительные работы. Шумно бывало, наш малыш часто просыпался, сильно кричал… Вот, особенно днем, если начинался скрежет или грохот в порту, он так кричал, что сердце сжималось. Я тогда сильно беспокоился, не может ли это отразиться на его душевном спокойствии? Ведь такие вещи могут сильно потревожить человека. Любого. Не только младенца.
Писатель взглянул на Реброва – Борис пожал плечами.
– А как вам у нас? – спросил художник. – Здесь вроде тихо.
– Тихо, спокойно.
– По ночам разве что вагоны ухают.
– Пустяки. А какие у вас открытки замечательные! Что это?
– Это Юрьев, ничего особенного. А у меня бессонница, все слышу, бой часов фрау Метцер считаю – сколько ударов до утра осталось… а вагоны бухают…
– Вагоны, часы – это музыка! Такое не сведет с ума.
– Нет, конечно, такое – нет.
– Вот-вот. Мир сводит людей с ума. Мир безумен, – тихо сказал Стропилин. Ребров насторожился, предчувствуя, что сейчас польется. – Вернее, мир населен безумцами. Оглядитесь, что творится. Мне давеча дохлую крысу подбросили.
– Как! – такого Борис никак не ожидал. – У нас?
– Да-да, у нас, в этом самом доме!
– Но как?
– Хотел бы я знать! Сижу, пишу. Вдруг слышу смех какой-то с улицы. В окно выглянул – никого. Опять пишу. Вдруг стук по стеклу и убежало. Я посмотрел в окно – пусто. Пишу, снова стук, стук. Вижу – повисло, болтается, стучит. Окно распахнул – крыса.
– Как?
– На веревке.
– С чердака?
– Наверное. Я не разглядывал. Дернул, сорвал, выбросил. Представляете, как я был взбешен! А если б жена моя нашла, что бы она сказала? Или малютка, что было бы, если бы он увидел… Это же… это…
– Так вы затем и выходили в коридор? На чердаке смотрели? Я не первый день слышу, как по чердаку ходят.
– Нет, не смотрел, – Стропилин покачал головой, и Борис заметил, что в глазах его было что-то детское. Обида, понял он. Как ребенок, которого наказали. – Как вы думаете, мог это Федоров сделать?
– Да вы что! Федоров – в последнюю очередь подумал бы на него! Нет, – отмахнулся Ребров, – он такой нерешительный человек. Да у него и со спиной что-то…
– С ногой, он был ранен в ногу.
– Вот видите, он бы не полез на чердак, у нас там лестница, видели какая? Не осилит.
– Да, вы правы. Тогда, наверное, это были ученики.
– Какие ученики?
– Мои ученики.
– Почему?
– Досаждали.
– Так вам и раньше приходилось сталкиваться с подобным?
– Нет. С подобным? Нет, что вы! Если бы я вообще слыхал когда-нибудь, что подобное бывает, заведено – шутка или розыгрыш, un true ridicule et bien inoffensif [66]66
Смешная штука и безобидная (фр.).
[Закрыть]– я бы первым посмеялся! Того гляди, привык бы. К чему не привыкаешь! Но там, где я жил, такое было невозможно, там такой дом был… У Егорова… Там бы не осмелились.
– Так с чего вы взяли, что ваши ученики знают, где вы теперь живете? Вы ведь в школу больше не ходите.
– Могли на улице выследить.
– Ну, не знаю, странно это как-то. Кому надо? Что это за ученики такие? Зачем следить?
– Вот я вам и говорю – безумие, безумие кругом, начинаешь всех подозревать. Я с этим и пришел. Хотел это все написать, но так меня сильно взбудоражило, что решил: пойду и с вами поговорю, чтоб мы вместе с вами здраво рассудили. Потому что написать все что угодно можно, пока один сидишь и пишешь, знаете – крыса станет слоном, а облако – Везувием, я решил пойти и ваше мнение услышать.
– Это потому что я под рукой, тут рядом? Могли бы поговорить с кем-нибудь более компетентным. С господином Ристимяги, например. Он куда лучше знает местное население и нравы. Может, он вам сказал бы верней – случаются такие игры или нет.
– Я с ним поговорю. Спасибо за совет.
Выпили молча. Борис еще налил. Стропилин смотрел, как он наливает, смотрел и вдруг сказал:
– А я на вас сперва подумал.
– На меня?
– Потому и пришел. Понимаю, что не вы, а перестать думать на вас не могу. Как увидел вас на лестнице, так сразу и подумал, что вы это сделали.
– Уверяю вас, что это не я. Зачем мне вам крысу подсовывать?
– А зачем ее вообще подсовывать кому бы то ни было? Сами рассудите, зачем? И ладно бы я вам подсунул…
– Вы? Мне?
– Да. Вот если б я вам подсунул крысу, это было бы логично, – с довольным видом сказал писатель.
– С какой стати вам мне крысу подсовывать?
– От зависти.
– От какой? Чему завидовать?
– Я понимаю, что завидовать совсем нечему, но все равно, такую крысу можно было бы подсунуть. Если вообще кому-то в нашем доме подсовывать крысу, так мне – вам, а не наоборот, потому как вы теперь знаменитый художник, в газетах про вас пишут. Нет, я понимаю, что это глупо, но хотя бы за то, что мой журнал Федоров погубил, а вы у него пишете, я мог бы вам крысу подсунуть, но не подсунул! Или возьмем наш фотографический очерк, который мы готовили для журнала «Эхо», жаль – немножко не успели. Кстати, слыхали, Бахов-то – в Совдепию вернулся! Вот так сюрприз!
Борис поморщился; Евгений Петрович энергично поправил воротничок и продолжал:
– Все-таки вы – молодец, протолкнули-таки фотографический очерк, правда, напечатали у Федорова. Нет, я претензий не имею, вы написали свое, к тем же фотографиям, но идея-то была наша, даже – моя, а получилось, что я как бы побоку. Не потому, что я так думаю, нет, поймите правильно, я объясняю, как могло бы показаться. Если представить причину. Вы пишете, вас печатают. Я пишу, меня никто не печатает, нуждаемся, и зависть оттого могла бы… именно могла бы возникнуть…
– Но это…
– Я всего лишь попытался рассуждать, затем и пришел, чтобы рассудить и разобраться: зачем кому-то в этом доме крысу под окно подсовывать? Почему мне? И если мне, то почему бы не вы?
– Да глупости, Евгений Петрович!
– Вот именно: глупость! Еще какая глупость! Но разве рассуждение это глупее, чем крыса у меня за окном? Она, прежде всего, и есть – глупость! А после такой глупости любое рассуждение становится наименьшей глупостью, чем эта дохлая тварь на веревке. Откуда-то взялась она у меня за окном. После того, как такое перед носом увидишь, все что угодно на кого угодно можешь подумать, разве нет?
– Да, вы правы.
– Вот вы говорите, шаги слышали на чердаке. Какого черта, спрашивается?
– Вот я и хотел бы знать.
– Я-то как хотел бы! А представьте, вам крысу на веревочке к окошку свесили…
– Вы с фрау Метцер об этом говорили?
– Не совсем… Не в подробностях… Сказал, что кто-то шалит, ботинки на веревке подвешивает, но не к моему окошку, а вообще… Бегает кто-то… по чердаку, вы ведь подтвердите, правда? – Ребров кивал.
– А про крысу я ей ничего не говорил, и вы не говорите! – Кунстник помотал головой. – К тому же теперь это такое глубоко личное дело, – говорил Стропилин, уйдя в себя. – Потому как выходка эта мою теорию о мировом сумасшествии подтверждает. Я об этом, можно сказать, последние десять лет неустанно думаю. Даже решил эксперимент провести.
– Эксперимент? Какой эксперимент?
– Я думал, вы поняли. Ну, да ладно. Это буквально в двух словах. Я пытаюсь оградить моего сына от всей этой сволочи. Я не допущу, чтоб мир просочился в его душу. Хотя бы первые пятнадцать лет… не дать миру запустить в него свои грязные лапы. Ни школы, ни гимназии, никаких друзей! Я знаю это отребье, я знаю, что такое школа, не понаслышке, вон они – школьники – из рогаток стекла бьют, из трубочек в тебя бумажками плюют, в стул что-нибудь ввинчивают или наоборот – ослабят болты и подсунут тебе, а ты – хрясь и, как дурак, ноги кверху! Нет уж! Я моего ребенка не отдам в эту мясорубку. Учителя тоже хороши, набивают учеников, как чучело, черт знает чем, потом они ходят бездушные, слепыми глазами на мир смотрят, а что видят? Я сам могу его образовать. Жена занимается языками и математикой, я – история, география, литература и так далее… Хотя бы первые годы выдержать в чистоте, а потом он нарастит панцирь. Первые годы самые важные, в человеке формируется связь с миром и людьми. Мир безумен. Люди растлены. В первые же годы детей растлевают их собственные родители, няньки, репетиторы, дурацкие книжечки, танцы, спектакли, всякие необдуманно подаренные штучки, рассказанные не к месту сказки, – все это въедается, как плесень. Даже самые простые вещи несут отпечаток грязных помыслов. Теперь, когда я не работаю в школе, мои нервы восстановились, у нас все хорошо, это положительно сказывается на всех. Знаете, как прежде было? Срывался… Такая обстановка… Кровь в голову ударит, и все – срыв, крик, слезы… А теперь, когда я могу спать дольше и думать стройнее, без перерывов и дерганья, у нас установились идеальные условия. Мир! Покой! Никакой суеты! Теперь я могу контролировать ход эксперимента двадцать четыре часа в сутки. Правда, держимся довольно замкнуто, избегаем общения с людьми.
– Что ж, учту на будущее, не буду мелькать. Не буду, ни в коем случае, Евгений Петрович, вам мешать! – И протянул руку. – Занимайтесь вашим экспериментом! Очень важное дело делаете! Не могу задерживать!
Евгений Петрович подскочил, пожал руку, с едва заметным поклоном (со стороны, может, и не заметным, но он и я – оба мы знаем), попятился… В дверях вдруг остановился, растерянно улыбнулся и спросил:
– Борис Александрович, знаете, а библиотеку мне пока открыть не удалось… – Причмокнул с досадой.
– Да?
– Много формальностей, – вздохнул Стропилин, – вы и представить себе не можете, Борис Александрович! Носимся с женой, как белки в колесе, а у нас дети, полоумная теща… средств на существование не хватает…
– Конечно, понимаю. И сколько не хватает?
– В данный момент крон десять спасли бы положение…
Ребров достал из кармана десять крон.
– Вот, пожалуйста.
Стропилин зашелестел, как лист:
– Спасибо! Спасибо, дорогой друг!
– Пустяки, пустяки…
Через неделю Стропилин пришел вернуть долг, выглядел он снова как-то странно. Борис подумал, что писатель похож на человека, который только что выиграл крупную сумму в карты или на скачках. Решили посидеть по-соседски, чай попить. Евгений Петрович светился от счастья, поглаживал руки, наконец, выдал: журнал Федорова под ударом.
– А самого Федорова вот-вот с работы попрут.
– За что?
– Да наверняка есть за что. За все воздается, – с удовольствием говорил Евгений Петрович. – У всего есть причина. Ex nihilo nihil fit. [67]67
Ничего не бывает из ничего (лат.).
[Закрыть]Вот хотя бы за то судилище, которое они устроили над моими «Заметками».
– Какое судилище?
– Ну, как? Я получил уведомление, что в Ордене Литературных Инквизиторов на суде была рассмотрена моя деятельность.
– Не понимаю.
– Кое-кто у нас входит в тайный литературный орден.
– Первый раз слышу.
– Вещь смешная, ненастоящая, скорее театрально-шутовская, но все равно – обидная, потому как если вас там, условно говоря, казнят, то есть произведение ваше сожгут, то разнесется молва, и все об этом рано или поздно узнают, и это для самолюбия, знаете ли, очень неприятно, да и вообще…
– Гадость! – воскликнул Ребров.
– Согласен с вами, гадость, конечно, гадость. Мерзко, отвратительно этак быть вымазанным. Хоть и не самого там судят, все равно – знать, что твое произведение ругают, казнят люди в масках и мантиях, понимаете? Это люди, которые считают, что имеют право судить, быть инквизиторами, они устраивают символическое сожжение вашего романа, повести или чего угодно, если находят произведение недостойным! Вот Федоров, представьте, выдвинул мои «Заметки» на этот суд, меня об этом известили, держали полгода в неведении, а потом уведомили, что все прошло как нельзя гладко, был я, мол, оправдан, за меня Пильский вступился и отстоял. Понимаете?
– Нет.
– Да и бог с ним, – махнул рукой Стропилин. – Это было-то лет семь-восемь назад. А в Гапсале, слыхали?
– Что в Гапсале?
– Елисеев.
– Что Елисеев?
– Застрелен, – сказал Евгений Петрович, торжествуя. – Газеты пишут «застрелен», хотя я почему-то склоняюсь к мысли, что застрелился.
– Как?
– Взял, да и застрелился. Мало ли как. У нас даже учитель, который потеснил меня, и тот стрелялся. А этот, бывший камер-паж, уж знал как! Совсем недавно, еще до того как он, – Стропилин некрасивую сделал физиономию, – я слышал про него странную вещь, которая все объясняет. Один человек, который знал его очень близко, сказал, что Елисеев был черный меланхолик, бодлерианского склада, говорят, к тому же гомосексуалист. Его не так давно в «Бонапарте» видели с молодым человеком известной наружности.
– Это что значит? Известной наружности…
– Нарцисс, неприступный красавец, стоял перед зеркалом и на всех брезгливо косился, все были оскорблены, полный зал людей, он ни на кого не глядя с надменным видом садится у окна и никого не замечает. Сидели и на всех чихать хотели, пили и жеманно разговаривали. Потом с ним в Гапсале появлялся, в курзале – та же картина. Нет, я от осведомленного человека слышал: гомосексуалист, нюхал кокаин, колол морфий.
– Вряд ли, – поморщился художник.
– Почему вряд ли? Вы знали его?
– Я? Нет.
– Так почему сомневаетесь? Чтобы сомневаться, нужно знать человека.
– Я не об этом вообще. Я о своем.
– С вами говоришь, а вы о своем думаете.
Встал и ушел.
4
Соловьевы переехали поближе к морю, теперь они жили в большом флигеле старинной деревянной усадьбы. Называли их дом дачей, но это была не дача. Ребров сразу заметил, что у них холодно. Возможно, потому и зовут дачей. Спросил, как они тут держатся? Они сказали, что ничего, не стали жаловаться, заметили, что обычно очень хорошо, а холодно у них бывает только в те дни, когда соседи не топят. Но ведь лето на носу – у них такой холод! – подумал Ребров, но не сказал ни слова больше, потому что те не жаловались, а наоборот, всячески выражали довольство – больше места, больше света… Борису, наоборот, показалось, что стало мрачней, именно потому, что места прибавилось. Маленькая комнатушка во дворике возле Нарвского шоссе, где они прежде жили, Реброву нравилась больше; там было светло и уютно; в этом флигеле все было не так: старинная мебель, на которой стояли свечи, выпирала, пугала своей массивностью, под высокими потолками плавали тени, стены похрустывали, а в огромные окна с веранды заглядывал кривошеий фонарь, гас время от времени и вспыхивал опять, и это сильно действовало Борису на нервы.
«Я бы так жить не смог, – подумал он, – с таким фонарем за окном… Разве уснешь? Я бы трех дней тут не вынес, наверное…»
Пили мало. Говорили скучно. В основном слушали Сережу. В конце заявились Сундуков и Каблуков. Иван сидел у окна, скрестив руки, насупленный, одним глазом на всех поглядывал и повязку поправлял. Ребров справился о здоровье, тот отрезал, что все хорошо, спасибо, и отвернулся. О чем бы ни шел разговор, Сундуков пытался свернуть на политику, ему не давали развернуться, он тогда оборачивался к Каблукову и говорил с ним, опять пытался кого-нибудь втянуть, но без успеха. Быстро стали расходиться. Когда остались только Федоров и Ребров, Сундуков все-таки сумел поставить разговор на нужные ему рельсы, говорил о национализме, но опять так получилось, что никто, кроме Ивана, его не слушал. Борис слушал, но виду не подавал.
Было поздно. Втроем они вышли на улицу. Совсем трезвые. Накрапывал теплый летний дождик. Трамвай застрял. Ждали буксир.
Ребров выкурил сигарету. Немного постояли и пошли. Сундуков и Каблуков говорили о литературных кружках.
– Они там собираются обсудить Романова или Ремарка, – насмешливо говорил Сундуков.
– Поговорить о «Душе русской», – подхватывал Каблуков.
Так некоторое время и шли в сумерках, они смеялись над кружковцами, а Борис слушал, терпел, пока Сундуков не сделал заключение:
– Литература в эмиграции – это просто жизнеописание паразита, вот и все!
– Ну, почему? – удивился Ребров.
– Потому что русский эмигрант живет не для России, а для себя, и литература соответственно пишется для собственного успеха или славы, чтобы покрыть бесполезность, ненужность… Смысл существования в отрыве от своей нации утрачивается. Я вот, Борис, хочу вам сказать… Мне показали тогда в галерее ваши работы, я вам честно скажу, я смеялся. Не хочу, чтоб вам это потом доложили, хочу лично сообщить, что когда сходил в галерею, посмотрел, я подумал: дитя малое играется… картинки мастерит… Разве это жизнь? То же с литературой, она вся пишется a cote de la Russie [68]68
В направлении России (фр.).
[Закрыть]. Читали «Машеньку»? «Вечер у Клэр»? Это подтверждает: написание книжек – оправдание личного жалкого существования. Этот Сирин или Газданов типичная демонстрация, они занимаются выставлением своей личности. Это выстраивание своей биографии в отрыве от всего прочего!
– Чего прочего?
– От общества, от России, от борьбы за Россию… Потому что жить для себя, писать книжки, в которых ты вот такой напудренный, – очень просто по сравнению с борьбой. Вы мне лучше вот что, ответьте на вопрос: для чего эта беллетристика нужна? Для кого она пишется? Допустим, написал русский эмигрант роман, ну, и где место этого романа? В какой литературе? Эмигрантской? Что это такое? Это что-то мелкое и никому, поверьте мне, никому не нужное.
– Самонадеянное служение своим земным интересам – бесплодный труд, бесполезный и тщетный, – пробубнил Иван голосом брата.
Сундуков долбил дальше:
– Я был и в Берлине, и в Париже, я даже в Италию ездил, между прочим. Там много наших, и чем они занимаются? Проституцией, гомосексуализмом, курят опиум, пишут стихи, пьют, пишут романы, которые никому не нужны, для себя пишут, картинки малюют для борделей и водевилей, нюхают кокаин, играют на роялях без штанов, читают да-да да-да… уже и на французский, между прочим, перешли… только это какой-то бульварный французский, скверный до изжоги. Мельчает человек в отрыве от родины. Жить не для себя человек должен, а для себе подобных. Все остальное – декаданс!
– А может, как раз существование в эмиграции не противоречит природе и вами сказанному? – сказал Ребров. – А наоборот, обогащает…
– Каким образом? – Сундуков брезгливо фыркнул. – Пф! Ну, сами подумайте! Каким образом эмиграция может обогащать русский народ без связи с ним? Вы что, не знаете, что в России ничего, что пишется тут, не читают? Там все это запрещено! Там Сталин!
– Я о другом… Я смотрю на историю шире…
– Ну-ка! – ухмыльнулся язвительно Сундуков и передразнил: – Давайте ваше шире!
– Представьте себе, что русская эмиграция совершит возвращение в Россию…
– Какое возвращение? – буркнул Каблуков. – Опять немецкая философия?
– Нет, – начал раздражаться Ребров, он почувствовал, что каждое слово теперь будет оплевано, жалел, что начал говорить, но было поздно, надо было договаривать. – Я хотел сказать… Что, если русские изгнаны, чтобы вернуться в новом качестве? Не сегодня. А через сто лет или двести. Или достижение эмигрантов станет достоянием нового русского народа… А нам, к несчастью, суждено пережить бесславное изгнание, но в этой безвестности нам уготовлена особая участь…
– Какое достижение? – устало скрипнул Сундуков. – Какая участь?
– …обогатить чувства другими красками: утраты, обездоленности, выносить в себе другую Россию, породить новый тип русского человека… новый язык, новое искусство… это возможно, когда ты отрезан от корней и традиции… и вот этот человек впоследствии сольется…
Сундуков рассмеялся, не дал договорить:
– Какая удобная философия! Теория, признаюсь, настолько изящная, что она позволяет ничего не делать вообще! Придумал себе теорию – все вернется, и лежи себе, разлагайся, все равно откопают. Однако теперь я понимаю, что неспроста про вас тогда Терников-ский так высказался…
– Как так? – спросил Ребров.
– Вся ваша философия строится на гнилом фундаменте.
– Неужели?!
– Да, он даже резче сказал. Помнишь, Иван, когда с Северином Цезаревичем и Терентием Парамоновичем остались впятером, до утра проговорили… – Каблуков самодовольно кивал, даже кашлянул для значимости. – Вот тогда он и сказал…
– Интересно, – сказал Борис краснея. – Оказывается, обо мне говорят…
– Да, – сказал Иван, – говорят…
– Как же он тогда выразился, не помнишь? – продолжал искать точные слова Сундуков, слегка наклоняя голову в сторону Каблукова и даже протягивая небрежно руку, будто затем, чтоб Иван вложил в нее бумажку с теми самыми словами; Каблуков только пожал плечами, издал неопределенный звук «ах», дескать – не все ли равно? что тут толковать?; но Сундукову было мало, он хотел окончательно придавить художника. – В общем, так Терниковский сказал: мысли высказываете вы интересные и красиво обернутые, только слушаешь их, как будто находясь в комнате, где воняет дохлятиной.








