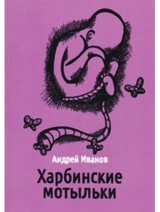
Текст книги "Харбинские мотыльки"
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Андрей Иванов
Харбинские мотыльки
Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
(Екклесиаст 9:12)
Часть I
Глава первая
Терниковский пригласил Бориса в театр, усадил в кресло, влез на сцену и начал орать:
– Посмотрите вокруг себя! Оглянитесь! Кого вы видите? Никого! Пустой зал. Пустые стулья! Как вы думаете, кто меня может поддержать? Все делаю один! Понимаете? Без какой-либо поддержки со стороны, выстраиваю крепость и веду в одиночку войну – безвозмездно! Не за какие-нибудь кресты на грудь или шведские кроны! Нет! Просто так? Тоже нет! Веду войну за Россию! Понимаете? Без России мы – ничто! Пустой звук! Дырка от бублика! Я тут на этой сцене заявляю вам, что в моей редакции, как в штабе армии, все нацелено на то, чтобы спасти великую империю, пока ее окончательно не растащили большевистские крысы! За Великого Князя Николая Николаевича, ура!
Спрыгнул со сцены, отдышался в лицо оглушенному художнику, сказал:
– Ну как? Не хотите поработать над афишей? Пьеса называется «В омут с головой». Как видите, о нашей боли, злободневное… На прошлой неделе закончил. Писал год! Нужно как можно быстрей афишу. Через неделю играем. Репетировать начали месяц назад. Все готово, только афиши нет! Люди ждут. Все оповещены! Афиши нет. Понимаете? Часть средств идет на благотворительные процедуры. Билеты пошли и в продажу, и в лотерею. Афишу приносите послезавтра!
– Как! Так скоро?
– Конечно, премьера состоится 24-го. Чуете рифму чисел? 24-е апреля 1924. Я все продумал. Лучшего дня по астрологическим расчетам и не найти. Для премьеры в этом году самый подходящий день. Нумерация – это очень важно, молодой человек. Числа – в них успех!
– Как-то неожиданно, – подкашливая в кулак, проговорил тихим голосом Борис.
– А что, вас за месяц надо предупреждать? Вы слишком заняты? Много заказов? Не умеете по ночам работать? Забыли, как это делается? Вы художник или не художник?
Борис кивнул.
– Так в чем дело, молодой человек? В вас должно вдохновение бить ключом! Разве вы не испытали сейчас вдохновения? Глядя на меня, не испытали? Я вас спрашиваю…
Борис кивнул и спросил:
– А над декорациями не надо поработать?
– Что? – насупился драматург. – Над декорациями? Какими декорациями? Там нет декораций! Вы что, не понимаете? Пьеса современная, о сегодняшнем, о наболевшем, об эмигрантах!.. Какие к черту декорации? Все будет так, как есть: стол, стулья, дверь, окно. Помещение моей редакции, понимаете? Вы были у меня? – Художник кивнул. – Так что вы спрашиваете? Сами видели: у меня ничего нет. Обыкновенное помещение. Никаких декораций. Никаких костюмов. Мы ничего не изображаем. Играем самих себя. Таков наш путь.
Борис извинился, попросил – если можно – пьесу почитать.
– На всякий случай… Чтоб точнее вышло…
Терниковский мялся.
– А так не можете?
– Могу, но…
– Так в чем дело, молодой человек? Рисуйте афишу так, без задержки. Пьеса – сто страниц! Вы что, за ночь прочтете? Слушайте, нарисуйте на афише российский герб и аэроплан! Сможете?
– Смогу, но все-таки было бы лучше прочитать…
Драматург вздыхал, охал, мял лицо, прохаживался, держась за спину, попросил прийти к нему в редакцию.
– Завтра, – сказал он, – только не позже пяти.
Борис закончил пораньше в ателье, пришел в редакцию без четверти пять. Ему открыла местами напудренная секретарша.
– А его нет, – сказала она, продолжая пудриться при нем, – и не будет.
– А мне не оставляли пьесу?
– Нет, – сказала секретарша, захлопнула пудреницу, окатила художника презрением с ног до головы и грозно добавила: – Никому ничего не оставляли!
Обескураженный, Борис поплелся к себе, на ходу придумывал афишу: аэроплан – герб, – все это как-то…
Случайно увидел Терниковского. Он стоял посередине улицы Яани в распахнутом плаще и отчаянно жестикулировал, пытаясь остановить извозчика. Лошадь ржала и неслась, будто в хохоте убегая от драматурга. Катился трамвай. Трещал с переливами тормоз. Стекла сверкали. Терниковский выругался и впрыгнул в трамвай. Художник за ним.
– Нету копии, молодой человек, нету! Никто не делал копии! Все сам, все от руки. Раздал актерам. Вам нечего предложить. Так что с моих слов рисуйте. Аэроплан – герб – кровавый закат – мрак! «В омут с головой». Постановка Терниковского. Имена актеров: Терниковский, Ложкин и так далее, по списку… Я вам дал список? – Художник кивнул. – Так делайте! Что вам еще?
– Хотелось бы почитать… понять, о чем пьеса.
– Как это о чем?! Я же вам говорю! О нашем положении вещей! О сегодняшнем! О наболевшем!
Взрывы негодования. Слюни. Истерика. Весь трамвай смотрел на него, как на сумасшедшего. Были знакомые лица… Борис ежился. Терниковский опять изображал кого-то, как на сцене. Взмахи руками, угрозы, лозунги, притоптывания. Пятиминутный монолог редактора эмигрантской газеты «Полуночные известия».
– Поняли?
– М-да…
– Действуйте! – И вытолкнул художника из трамвая.
Борис поспешил к себе рисовать. Через неделю он скучал в кресле с контрамаркой в кармане. На сцене и правда почти ничего не было: стол, два стула, квадрат окна и плакат с карикатурой на стене. Как и предполагалось, редактора газеты «Полуночные известия» играл сам Терниковский, его секретаршу играла сама секретарша, любовница Терниковского, только ее звали Элеонора и была она жутко разодета, а на голове было что-то кошмарное. В первые полчаса на сцене практически никто больше не появлялся (мелькнуло какое-то лицо, но, может, показалось). Журналист диктовал секретарше свои грозные статьи, которые Терниковский публиковал регулярно в разных газетах под псевдонимами. Она стучала на машинке, закатывала глаза, вздыхала и ерзала. Еще он совершил три телефонных звонка и получил два (кто-то за сценой во что-то звонил; наверное, трясли колокольчик). Телефона в редакции Терниковского не было – это была хорошая выдумка. Где-нибудь подсмотрел. Говорил он по телефону с теми же интонациями, словно диктовал. Каждый звонок длился не меньше пяти минут. Все это было ужасно скучно. Слались телеграммы. Поздравления. Возгласы. Да здравствует Великий Князь! Ура!
В антракте Лева шептал Борису:
– Все тут. Сегодня все пришли. Сколько народу! Ты подумай, сколько народу пришло смотреть эту чепуху!
Люди прохаживались и вполголоса переговаривались:
– А сколько отделений?
– Четыре.
– Какой ужас!
Во втором действии Борис с изумлением узнал себя в сумасшедшем актере по прозвищу Чацкий.
Элеонора: Господин Терн, к вам художник!
Терн: Пусть войдет!
Вошел Чацкий. Шляпа в руках. На цыпочках. Скрипнул. Присел на краешек стула.
Терн: Так вы художник?
Художник: Да, художник.
Терн: Вы еще и рисуете? А мне сказали, что вы – фотограф.
Художник: Да, фотограф.
Борис вдруг понял, что разыгрывается сцена их знакомства. Все было совсем не так…
Николай Трофимович дал Борису адрес редакции Терниковского. На Ратушной, на третьем этаже. Каменная темная лестница. Стояли какие-то люди, говорили вполголоса. Редакция оказалась не настоящая, какую себе представлял Борис, а обыкновенная небольшая квартирка, обставленная как попало. Секретарша сказала, что его ждут, постучала в комнату к редактору, объявила, что пришел художник, втолкнула в тесную комнату, захлопнула дверь. Зашторенные окна, тусклая лампа. Ушиб колено о табурет.
– Садитесь.
Сел.
Массивный стол: бумаги, журналы, папки, книги. За столом сидел человек странной наружности. Лицо у него было непропорциональное, похожее на отражение в надтреснутом зеркале. Воображаемый раскол шел по щербинке, раздвоенному подбородку, укреплялся в шраме между бровей. Лоб у редактора газеты был выпуклый. Вместо того чтобы прикрыть шрам и безобразный лоб челкой, Терниковский носил пробор. От этого он походил на треснувшую дыню. Одежда на нем сидела очень странно, будто он ее второпях накинул, как застигнутый врасплох любовник из водевиля. За спиной у него висел плакат с карикатурой: обезьяна в буденновке, над которой занесен гигантский палец, и надпись «Дави большевистскую вошь!».
– А что, вы еще и рисуете? – спросил Терниковский.
– Да.
– А Николай Трофимович мне говорил, что вы – фотограф, в ателье работаете.
– Совершенно верно.
– В каком?
– Tidel.
– А, у Тидельманна! На каком языке он с вами говорит?
– На немецком.
– Значит, умеете. Старый черт прекрасно знает русский, прекрасно! Учтите на всякий случай.
– Спасибо, учту.
– Карикатуры можете?
– Могу.
– В какой газете работали?
– В газетах не работал, опыта нет, но вот вам мои карикатуры. Взгляните, пожалуйста.
Борис робко показал тетрадь (дневник и наброски); Терниковский слюнявил палец, листал тетрадь, Борис покашливал и говорил:
– Оставить не могу… так как тут еще и записи… личного характера…
– Вы и пишете? – ухмыльнулся Терниковский, с легкой жалостью.
– Эх, не нужны мне ваши записи. Я сам тут пишу, – вернул тетрадку. – Хорошо. Мне нравится. Если что, я учту, обязательно. Мне надо побольше карикатур на большевиков. Понимаете, с чем боремся? Агитационно-пропагандистская деятельность. В виде карикатур. Карикатура – это большая сила, – постучал пальцем по карикатуре на стене, прямо в морду щелкнул обезьяну. – Нужно что-нибудь такое, чтоб пробрало, как горчица, знаете? Ну, за это возьмемся чуть позже…
До этого – слава богу – не дошло. Газету закрыли. «Кто-то донес», – ругался Терниковский. Его вызывали в полицию. Некоторое время все было тихо. Опять объявился, в другой газете, но заседал по-прежнему у себя, на Ратушной, с обезьяной на стене. Опять пригласил к себе.
– Ребров, вы же фотограф?
– Да.
– Мне нужны фотографии архитектурных памятников, в том числе Петра Первого, и всех православных русских церквей, соборов, часовен – всех, что есть в черте Ревеля. Справитесь?
– Да. Петр есть. Все церкви тоже есть. В моей частной коллекции. И синагога в том числе. Их будет легко напечатать. Правда, бумага нынче дорогая…
– Это оплатим. А зачем синагога?
– Красивый архитектурный памятник.
– Вы – еврей?
– Нет.
– Тогда зачем синагога? У нас русская православная газета, учтите!
– Хорошо, учту.
– Ребров, вы все там же? У Тидельманна?
– Да, и у француза… в частном ателье-студии работаем над подготовкой к выставке…
– Очень хорошо. Познакомьте меня с вашим французом. Идите!
Чацкий ушел, чем-то грохнув за кулисами. На сцене появился капитан: усики, белые перчатки, бутоньерка.
Терн: Ага! Ротмистр Василиск! Вас-то мы и ждали!
Это был Тополев, в офицерской форме, с крестом на груди и – музыкальными часами.
Борис вздрогнул и покраснел.
Терниковский в своей пьесе все намешал. На самом деле Тополев не носил формы и появился в Ревеле несколько позже. В 1922-м. Его где-то подцепил поручик Солодов, говорят, ушел на рынок за картошкой, вернулся с другом. До встречи с Тополевым поручик ничего из себя не представлял. Скрипел и жаловался, чесался. Чубатый, глухой на одно ухо. Выглядел так, будто жил на вокзале в ожидании эшелона, который понесет его дальше, на какой-нибудь невидимый фронт. Каждый день чистил пистолет, натирал пуговицы. Даже не обзавелся гражданской одеждой, так и прохаживался по общему коридору в форме. Со всеми вежливо здоровался: «Тамара Сергеевна, здравствуйте!», – шляпу снимал, справлялся о здоровье. Его сапоги блестели и заглушали в коридоре все прочие неприятные запахи. Клевал носом на заседаниях «Союза верных». Никогда не выступал, но всегда угрюмо говорил, что готов отправиться в бой хоть сейчас. На стуле сидел только одной ягодицей. На генералов смотрел, как пес на хозяев. Увидит папаху Васильковского на Глиняной [1]1
Ныне ул. Виру в Таллине.
[Закрыть], и за ним, как приклеенный. В другой день заметит Булак-Балахови-ча, отдаст честь и хромает рядом. Так и попал в передрягу. Куммель тайком отправил в Россию группу людей, а на границе их встретили. Солодов и еще двое как-то уцелели, скрылись в тумане и болотами, болотами…
Тополев смеялся:
– Честное слово, поручик, что за нелепая история! Вы храбрый человек, но признаться – глупец! Как можно доверять этой старой лисе? Во что вы вляпались?
– Какой лисе?
– Куммель! Да он на вас зарабатывает! Снюхался с поляками. И нашим, и вашим. Ему небось и большевики заплатили, за каждого пойманного офицера тысячу рублей золотом! Направил вас в капкан и потирал руки. А на операцию наверняка из Варшавы миллион выпросил. Никак не меньше! На обмундирование и оружие, шутка ли – военная операция!
Как только появился этот проходимец, Солодов сделался резким, ворчливым и даже здороваться с соседями перестал.
Ротмистр Василиск. Летчик с музыкальными часами…
Борис чуть не упал в обморок, когда услышал эти часы в коридоре редакции. Набросился с бледным лицом на Тополева, схватил за грудки, еле отодрали. Терниковский и Солодов крепко сжали руки художника.
– В чем дело, мальчишка?! – стряхивал пылинки Тополев.
– Часы отца! Вы – вор! Это вы нас обокрали!
– Ну-ну, потише, – Солодов приструнил художника.
– Что за обвинения, молодой человек! – шипел Терниковский. – Что это на вас нашло? По порядку расскажите-ка!
Дали отдышаться, налили вина.
– …в Изенгофе во время сыпняка все вещи родителей пропали…
– Скверная история, – кивнул редактор, – я ее слышал от Николая Трофимовича, какое у вас там горе случилось… Скверно, господа, скверно…
– Да, под Нарвой многие… – хмуро буркнул поручик.
Терниковский сделал знак рукой, мол, дайте художнику говорить.
Борис поник, сидел и рассказывал, глядя в пол, как гимназист.
– Только саквояж с альбомами и аппарат на треноге остались. – Его губы тряслись.
– Ну, ну, – бурчал Солодов.
Тополев пил вино с совершенно отсутствующим видом, он словно и не слушал, как тот говорил – …все документы, все вещи… во время неразберихи увели… – Тополеву было невыносимо скучно, он смотрел на молодого человека, как на муху, словно раздумывая: прихлопнуть или ну ее?..
– …часы отца… всегда при нем были…
– Вы уверены, что это часы вашего отца? – наконец, цинично спросил Тополев, одергивая жилетку.
– Конечно! Я эту мелодию узнал сразу. Два раза чинили, но они все равно запинаются. И всегда одинаково! Это Charles Rouge. Там должна быть гравировка. Дорогому сыну Александру… От отца… То есть моего деда… В день ангела… 27 мая 1892…
– Хм! – Тополев проверил: – Точно!
И, мгновенно оживившись, стряхнув с себя сон, Тополев, как фокусник, показал всем часы, подошел к поручику, подошел к драматургу:
– Прошу убедиться, – говорил он голосом конферансье. – Молодой человек абсолютно прав.
– Успокойтесь, – говорил художнику Солодов. – Это еще не значит, что вы можете бросаться на людей.
– Да. Возьмите себя в руки, молодой человек, – говорил Терниковский подливая вина всем. – Сейчас господин Тополев все объяснит.
– Тут нечего объяснять, – сказал Тополев. – Все очень просто. Проще не бывает. Я выиграл эти часы в поезде по дороге в Ревель. Но раз это ваша фамильная вещица, которая, несомненно, имеет для вас известную сентиментальную ценность, так и быть, часы – ваши, берите.
Борис стоял как вкопанный.
– Ну, берите! – подтолкнули его Солодов и Терниковский.
Борис упрямился. Его ослепил гнев, – теперь часы не имели значения. Он хотел чего-то другого. Более того, он боялся прикоснуться к часам.
Тополев достал из кармана колоду, ловко перетасовал, протянул художнику.
– Снимите карту, – сказал он. Борис снял, Тополев тоже. – Что у вас там? Дама? Черт, – бросил свою, не показывая, – проиграл. Берите часы. Теперь вы их выиграли. И выпьем, черт возьми, за возвращение утраченной собственности и за справедливость!
Выпили. И пили дальше, не успевали тосты произносить. Утром художнику было плохо до жути. Очнулся у себя. Ничего не помнил. Стены колебались. В окне что-то подмигивало. С трудом узнал свою комнатенку. Она казалась тесней, чем обычно. На столике лежали часы. Борис испугался, будто увидел призрак. Спрятал их подальше. Постарался не вспоминать. Два часа проходил по дому с холодком под ложечкой. Часы не давали покоя. Крепился, крепился – не выдержал: отнес Николаю Трофимовичу. Рассказал о случившемся инциденте. Попросил хранить.
– Мне с ними в одной комнате тяжело.
– Понимаю, – вздохнул дядя, убрал в шкафчик под ключ.
Ротмистр Василиск расхаживал по сцене, врал напропалую. Только что потерпел крушение. Угнал большевистский аэроплан.
Тополев возник из ниоткуда; Солодов не помнил, как они встретились. Сильно выпил с полковником Гуниным, полковник угощал, угощал, а потом выругался и испарился, Солодов пошел по Стенной [2]2
Улица Мюйривахе в Таллине.
[Закрыть], шел и пел, вышел к Морским воротам – кто-то рядом подпевает… О воинском звании Тополева – если оно у него было – никто ничего не знал; почему-то стали звать ротмистром; кто-то говорил, что его уполномочил центр, но какой центр, не знал никто; сам он сказал, что его попросили открыть в Ревеле игорный клуб для прикрытия, сами знаете, для каких целей, не мне вам объяснять… Поручик Солодов кивал, а Терниковский улыбался, как довольный своими картами игрок. Все знали, что подобный клуб существовал в Нарве; Тополев на него и ссылался. Все это было настолько туманно, что отчего-то становилось само собой разумеющимся, никто не рисковал толковать его намерения, все делали вид, будто всё понимают. Время от времени, дабы произвести впечатление посильнее, Тополев показывал какую-то визитную карточку, ловко прятал ее в карман, при этом он быстро оглядывался и что-нибудь шептал со страшными глазами. Откуда-то знали наверняка, что он состоял в конфиденциальной переписке с берлинскими монархистами и имел связи с остзейскими баронами. Кто-то написал в Берлин и якобы получил подтверждение (совершенно секретно). Агент, говорили про него, агент Т.
Тополев первым делом попросил Солодова ввести его во все существующие общества Ревеля. Обошли всех, кого знал поручик, в том числе и к оккультистам заглянули, всюду получили немного денег в долг. Тополев был недоволен: ему казалось, что кого-то упустили, он чувствовал, что были еще какие-то организации…
– Чувствую, что это далеко не всё, поручик, вы что-нибудь да упустили, признайтесь!
Солодов кашлял, сопел в усы:
– Может быть, кого-то упустил из виду…
Тополева не устраивала неопределенность; он хотел видеть город насквозь.
– Так, чтоб он был у меня как на ладони, – говорил он, держа яблоко, – понимаете, что я имею в виду, поручик? Чтоб всё знать про всех! Каждое подгнившее местечко. Каждую ссадину, обиду, измену… Кто куда ходит, с кем спит, с кем шушукается, какие игры затевает… Только так нужно жить! А не в потемках! Ничего, ничего, я разворошу это осиное гнездо.
Он обновил свой гардероб, обзавелся белыми шелковыми перчатками, туфлями и ввел в обиход манеру нюхать кокаин.
– Вам не хватает жизненных сил, поручик. Кокаин придаст вам живости. А то посмотреть на вас, так вы сущий старик, хоть панихиду заказывай. Вам пятидесяти нет… или уже есть пятьдесят, а?
– Сорок три, – отвечал Солодов, прочищая горло.
– И такая развалина! Что с людьми война делает! – шлепал перчатками Тополев.
– Мда…
– Нюхайте кокаин, поручик. Это бодрит.
– Да, взбодриться не помешает, – отвечал Солодов.
Каждый день они выходили пройтись на Глиняную, затем шли к «Русалке», прогуливались у «Петроградской» в Екатеринента-ле. Тополев кому-нибудь подмигивал, манерно здоровался с дамами, всем улыбался, сверкал глазами и каждого встречного приглашал «к себе». С глазу на глаз он поругивал Солодова:
– Поручик, почему вы так грязно живете? Что это за место такое? Даже мостовой нет, одна грязь кругом.
– Зато дешево, – отвечал Солодов, – две комнаты и хозяин – немец – спокойный мужчина, с пониманием относится, по-русски говорит.
– Ладно, ладно, только места как-то маловато, салона не откроешь, разве что клуб…
– Клуб? Какой клуб?
– Карточный, какой. В винт играете?
– Еще бы!
– Ну вот…
К ним стали ходить. Подпитываясь кокаином и шампанским, Тополев бегал по Ревелю, посещал важных лиц города, вступал в различные общества. Первым делом объявил себя ветераном-инвалидом, устроил так, чтоб без очереди ему выписали из шведского штаба 300 крон, поставили на небольшой пансион от императрицы Марии Федоровны. Помимо этого, сколько-то марок в месяц он получал в течение года из «Союза верных». И все равно был сильно разочарован.
– Это ничто! – Брезгливо фыркал и взмахивал перчаткой. – За пролитую кровь – такая жалкая подачка. Вот она, имперская благодарность! Этого даже на шампанское не хватит. А у нас целый клуб! Все ходят, и всем приходится наливать, потому что не просто так ходят – хотят угощаться. Клуб без этого существовать никак не может.
Кроме этого Тополев хотел обедать в «Концерте», а ужинать в Cafe de Paris, откуда он обыкновенно являлся за полночь.
– Что делать? – вздохнул поручик.
– Как это что? – удивился Тополев. – Думать, где достать деньги. – Потребовал, чтобы поручик составил список всех русских, которых тот знал. – Я уверен, что кто-то где-то сидит на мягких подушках и перебирает драгоценности, а мы с вами подачками перебиваемся.
В процессе составления списка выяснилось, что было еще очень много организаций, обществ и кружков, о которых Солодов не имел ни малейшего представления.
– Это непростительная безалаберность, поручик. Вы совершенно не интересуетесь происходящим в мире. Начнется война, вы и не заметите.
– Ну, нет, войну-то я замечу.
– Не время спорить, поручик. Я хочу вбить вам в голову одну вещь. Если есть какое-то общество, то нужно все о нем знать. Поймите, даже самые нелепые на первый взгляд организации могут быть полезны для нас. Кстати, мне удалось выведать у проклятого Терниковско-го, что помимо открытых собраний, оказывается, у них проводят еще и закрытые, на которые нас с вами почему-то не приглашают. Как вам это нравится, поручик?! Quelle honte! [3]3
Какой позор! (франц.)
[Закрыть]Нами манкировали, а вам и невдомек! Вы и представить себе не можете, какой скандал я закатил Терниковскому. Теперь мы приглашены к генералу Игнатьеву. Приведите себя в порядок, и побольше блеску в глазах. Вы должны производить впечатление человека решительного, готового на всё, черт возьми!
Он быстро добился права посещать закрытые собрания, требовал, чтоб ему присылали извещения и держали в курсе всех событий и переговоров, которые, как ему казалось, совершались у него за спиной.
– Отсюда все недоразумения и несогласованность действий, что и привело в конечном счете к провалу Белого движения!
Он произносил яркие речи, ничем не отличался от прочих монархистов, даже кое в чем превзошел их: он требовал действия, и как можно более агрессивного.
– Постоянные кровавые террористические акции на территории большевиков могут привести к подрыву доверия власти, а внедрение агентов и отправка пропагандистской литературы должны в конечном счете вызвать в народе волну негодования, чем и надлежит воспользоваться!
Предлагал сбрасывать бомбы на Петроград или приграничные городки, взрывать мосты…
Он поразил всех. Солодов смотрел на него с открытом ртом; только некоторое время спустя, когда они вдвоем усаживались за кокаин, у Солодова начиналось в голове прояснение, поручик прочищал горло и спрашивал:
– Позвольте задать вопрос, ротмистр.
– Валяйте!
– Как, собственно, вы собираетесь осуществить сие…?
– Сие что?
– Бомбардировку Петербурга. Кто полетит на аэроплане?
– Ах, вот вы о чем! Господи, поручик, главное получить деньги на осуществление, а так как масштаб задуманного до дерзости фееричен, думаю, никто не станет с нас строго спрашивать, если что-нибудь где-нибудь пойдет не так. Нюхайте и запоминайте! Нас финансируют за веру и идеи, а не за осуществление задуманного. Поэтому советую вам как можно больше демонстрировать веру и рожать идеи, и не задавать нелепых вопросов!
Тополев предложил организовать партизанский отряд, и его многие поддержали, кое-кто полез в закрома…
Всего в спектакле было задействовано пять человек. У каждого три роли, не меньше.
В антракте Лева смеялся:
– Расскажу Тополеву. Жаль, что он не пошел. Надо, чтоб он увидел себя. Ротмистр Василиск. Сделал из него черт знает кого! Но доля правды есть. Нет, я не имею в виду ограбление, я о другом… Интересно, а будут еще давать или на этом все? Ты не знаешь? Тебя, конечно, он переврал. Чацкий! Сумасшедший художник. Переврал. Ты не такой замухрышка. Терниковский хотел, чтоб я написал рецензию на это. Карикатурный человек! О чем тут писать? О чем?
Борис ушел после третьего отделения. Пошел к Трюде. Нарвал колокольчиков в парке.
Отец Трюде был слепым. У него были саваны на роговице. Они жили вдвоем в холодной тесной квартире на улице Кирику. В тени Домской церкви. Почти все окна на Кирику были задраены ставнями. Единственный фонарь у прохода под арку освещал трещины в стене. Под ним в летние дни плели свои паутины пауки. Все на этой улице питались только его светом. Борис ни разу не видел, чтоб окна в домах горели изнутри, они были черные, завешенные плотными шторами. Фонарь был похож на чугунную колючку, висел криво у самого входа в коварный проход, будто заманивая. Борис всегда спотыкался, каждый раз о новый булыжник. Отцу Трюде свет был не нужен; он давно забыл, что это такое. К нему приходили такие же – древние немцы, иногда русские старухи в истлевших кружевах, пергаментные, восковые. Они сидели, как сектанты, в сумраке мусолили имена, события прошлого века, – говорили тихо, в час по щепотке слов, неторопливо плели паутину. «Так и надо, – думал Борис, – именно так о прошлом и нужно говорить: чтобы никто ничего не понимал». Расползались, шаркая и охая. Трюде шла укладывать отца, Борис делал вид, что уходит, топтался в коридоре, снимал ботинки, за усы относил их в ее комнату. Ему нравилось, как не говоря ни слова она его впускала, покорно стелила постель, просила отвернуться, раздевалась. Она соглашалась только тогда, когда за тонкой, как ширма, стеной начинал похрапывать отец и фонарь гас. Ребров быстро привык к этим правилам, поэтому не торопился. Вот загорятся фонари, пойду. Гулял по парку, рвал колокольчики. Утром так же, с ботинками в руках, он выскальзывал за дверь, надевал их и выходил на улицу Кирику. С головной болью и резью в глазах плелся узенькими улочками вниз. Булыжники под ногами были влажные от росы.
В этот раз не пустила. Не разобрал почему. Шептала и отводила глаза. Из глубины квартиры слышался голос отца:
– Wer ist da? Trude? Wer ist da?
– Das ist Hannah, Vater, – ответила она.
– Hannah? Was will sie denn? [4]4
– Кто это там, Трюде? Кто там?
– Это Ханна, папа.
– Ханна? Что ей надо? (нем.).
[Закрыть]
Борис дал ей цветы. Улыбнулся. Пошел домой.
Где-то лаяла собака. В окне фрау Метцер светился тусклый огонек. Художник предусмотрительно смазал петли, но она чувствовала, как он крался к себе, – она срослась с этим домом.
Налил вина. Закурил. Так и сидел в темноте.
7.10.20, Ревель
В связи с какими-то сложностями, непредвиденными на заводе у Н. Т., – как снег на голову, – мне подыскали комнату у пожилой немки, frau Metzer, теперь я тут, и впервые с того времени опять пишу. Куда-то надо спрятаться. В глазах стоят слезы, в горле ком. Неожиданное выдворение. По глазам и жестам понимал, что самому Н. Т. было все это ужасно и невозможно. Все это понятно; у них подрастают дети; денег не хватает; на то, что мне платят, жить я не смогу, буду искать что-то еще. Н. Т. обещал, что помогать будет, пока что, но объяснить одной экономией никак не получается.
Открыл тетрадь, а там все они – мама, папа, Танюша – еще живые. Выдрал страницы и сжег. Вот как щемит. Как это неожиданно – переехать, и найти эту тетрадь на дне саквояжа, и все разом получить! Лучше б не открывал сегодня. Совсем никогда.
У немки три комнаты сдаются на втором этаже, где я. В одной, заметил, есть неприятный дед, в другой противная пара, злые, бедностью засушенные, по всей видимости, бесплодные, с собачкой и бородавками. Сама немка еще та штучка. Чувствую, натерплюсь я с ней. Есть еще чьи-то дети и мужчина с усиками. Но эти ниже, на первом. Кто в какой квартире, пока неясно. Фрау Метцер сказала, что в прачечной у них работает женщина, приходит с сыном, принимают заказы: стирка, глажка, каждый день. Звонка нет – колокольчик на двери старомодный, медный, глубокий гулкий звук, такой печальный, почти как у нас в ателье был (словно внутри меня дернули). Н. Т. боролся с моими тюками, не справлялся, сундучок родительских вещей не знали, как взять, – чертыхались с ним на винтовой лестнице…
Я бы писал всю ночь. Какое это облегчение! – керосиновая лампа, подушка, стол, стул, тахта, печь и шкап – тут жил музыкант, остались вещи: одеяло, сундук, книги, большие кожаные переплеты, как в библиотеке.
Общая кухня, вход со двора. Я прожил у Н. Т. почти год. Я знал, что это должно произойти, но не был готов. Ни к этой комнате, ни к этим сборам, не был готов к этой тахте, к тому, как мне вручили подушку, ключ на шнурке. Винтовая лестница, ножки стола гуляют. Н. Т. стал искать, что бы такое подложить под ножку стола, – он таким виноватым себя чувствовал, так выглядело во всяком случае. Он сказал: «Все еще 100 раз может измениться! Все!» Только мне отчего-то кажется, что ничего не изменится. Будет только это.
Бедный Н. Т., не хотел бы я кого-нибудь вот так отвезти и в такую вот комнату.
И я ничего не стану писать и даже думать о его жене, – дело и не в ней, а во всех обстоятельствах, – такие тесные бывают дни.
Вход в мою комнату со двора – в этом есть что-то унизительное. Хотя через кухню я тоже могу перейти в общий коридор, спуститься и выйти через парадное, но там печальный колокольчик, и меня просят этого не делать. Видимо, чтобы не мыть пол. Топить самому – занятие, развлечение, и курить, если что, можно в коридоре. У меня есть деньги, надо что-то принести с рынка, если не поздно. Да поздно уж. Почти ночь. Какая быстрая темень. Сбежались тени и теснят. Есть табак. И немного керосину в лампе. Ну, что ж, начинаем обживаться!
Ноябрь
Вспоминал, как мы ехали в Эстонию, стремились в Ревель, какие надежды мы связывали с Н. Т. и его семьей. Непросто мне писать эти слова, но что поделать, вот, пишу. Рассчитывали мы на Н. Т. «Едем не на голое место», – отец так говорил. Все время восхищался его образованием и положением. «Все-таки он там уже больше десяти лет». Когда приезжал к нам, выглядел он, как немец, богатый немец, а не какой-нибудь прохвост. У мамы глаза горели. «Может быть, все это только к лучшему». И вся наша надежда направлена была на него, Н. Т. Никого у матери больше не осталось – старший брат, он нам и в те трудные годы помогал, когда у папы с ателье крах вышел из-за его поездок и экспериментов (мамины долги Н. Т. оплатил, заложенные в ломбард фамильные ценности выкупил, и они долго разговаривали вдвоем). Теперь думаю, а стоило ли надеяться? Что было бы, если б все мы приехали? Вчетвером – как принял бы он нас? Если уж меня не потянули… Да и что тут скажешь: живет он замкнуто, про Русский клуб и Русский Дом ничего хорошего не говорит, только ворчит что-то, хоть за руку и здоровается с русскими, но старается держаться от них подальше. На бридж по субботам к нему только немцы и эстонцы ходят! Хозяйство в доме жена ведет, а она немка: экономия во всем. Меня ни с кем знакомить не пытается. Так, два-три человека. Одно разочарование вышло. Как моя мать была бы в нем разочарована! (Это не горечь обиды во мне говорит, а холодный трезвый ум.)








