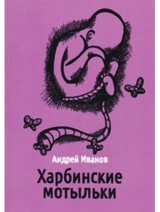
Текст книги "Харбинские мотыльки"
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Что у вас тут? Книги, книги… – говорила Мила. – Вы тут, как в склепе…
Вздохнула, откинула руками волосы, выгибая спину. Он впился в ее шею, потемнело в глазах, волосы упали ему на лицо, он вдохнул их аромат и застонал. Она засмеялась, потягиваясь, и сказала:
– Какой голодный зверь.
Почувствовал ее руку на своем члене. Сжал груди, прижался к ней сзади. Она потянула платье наверх. Он загребал складки материи рукой.
– Какой нетерпеливый…
Платье не давалось, где-то что-то застряло. Она засмеялась, потянула, хрустнуло. Он наваливался на нее, она упала вперед на кресло, засмеялась еще громче. Он задрал платье, стал щупать ее ягодицы, сжимать мякоти, рычать, впиваясь ей в шею. Достал член и прижался к ее голым ягодицам. Потерся о них… возбудился еще сильней, до хрипа…
– Подожди, – задыхаясь, сказала она, вырывая что-то между ног, с треском, раз – и он вошел в нее…
– Не спеши, – говорила она, – не так быстро… не так…
Он прижал ее к стенке, вошел до конца и замер. Потянул за плечи назад. Она подалась, оглянулась на него рабским взглядом. Он улыбнулся, забросил ее густые черные волосы вперед, провел пальцем по выемке, крепко взялся за талию, ударил членом, еще, еще, еще…
15 февраля 1930
Мила коллекционирует безделушки. Но это, как она сама выражается, не простые штучки, а все они когда-то принадлежали аристократам, до дыр изношенные вещи; костяной веер немецкой баронессы; на тень руки похожая перчатка французской маркизы (именно одна перчатка), нитка жемчуга, гребень, корсет… столько хлама! Даже есть игрушки, куколки, механический басенный квартет: мартышка хлопала в ладоши (тарелки, по всей видимости, отвалились), медведь держал обломок трубы, у осла осталась только скрипка, а вместо козла был один контрабас с ключиком, завела: кто в лес, кто по дрова. Первой умолкла ленивая мартышка, остальные долго скрипели и дергались, запоздалые ноты помаленьку отмирали, задевая за нервы, звякали и гудели тревожно.
Она любит фотографироваться в машинах; ей идут мужские костюмы, особенно спортивного покроя, брюки-галифе, военные сапоги на крючках, кожаная шляпка с круглыми очками и здоровенные перчатки по локоть.
Они часто бывают в Париже – там она всегда что-нибудь покупает на блошином рынке; ездят в Ригу и Варшаву, наведываются к антикварам, набивают свои чемоданы всякой всячиной. Мила говорит, что они подумывают открыть свой магазинчик.
В ее шкафчике огромное количество полок и ящичков, каждый ящичек запирается на ключ. Чего там только нет!
«Каждая вещица имеет свою историю». Хмурит по-детски брови.
Когда-то она мечтала стать аристократкой. Так она воплощает свою мечту: ходит по ломбардам, выкупает заложенные обедневшими аристократами браслеты, серьги, кольца…
(Хотя, скорей всего, антиквары морочат ей голову.)
С ней было просто. Он приезжал к Тимофею, останавливался в букинистическом Веры Аркадьевны, та звонила их общим знакомым, все собирались, читали стихи, обсуждали, что попало, вечером она приходила к нему. Когда муж уезжал по делам – он разъезжал с какими-то коммерсантами – Ребров, получив заранее открытку с памятником Калевипоэгу или Барклаю де Толли, с какой-нибудь мызой или мостом, выезжал в Тарту, оставался у нее. Они жили на втором этаже в каменном доме с мансардой на улице Стадиони. В округе было много собак, которые шныряли по пустырю или стаей носились по немощеным улочкам, иногда пробегали стайки крыс, выскочив из-за забора, проскакивали между ног. Дом Засекиных был единственный каменный (не считая кирпичной церкви), окнами выходил на психиатрическую лечебницу – мрачное квадратное здание, в котором ощущалась внутренняя сдавленность, с облупившимися стенами, ржавыми решетками и позеленевшими подоконниками. Прилипнув щекой к стеклу, за окнами сидели больные, высовывали языки, ковырялись в носу; обычно обритые наголо, тощие или до безобразия раздувшиеся, тоскливо посматривали на улицу. Смотреть там было не на что, но сумасшедшие все равно липли к окнам.
– Там есть и женщины, которые показывают себя, – рассказала ему Мила, – снимают с себя одежду, прямо стоя в окне. Очень много сифилитиков. Случается такое увидеть, что потом снится, просыпаешься в поту… Тоска у нас, как видишь. Иногда так возьмет за душу, самой хочется раздеться и на подоконник!
Полное ее имя было Милица, девичья фамилия Пентковская; она происходила из старинного польского купеческого рода; дед был православным, отец не ходил в церковь вообще и по-польски никогда не говорил. Родилась она в Двинске, в крепости, выросла у конюшни. Отец был военный. Умер он внезапно, во время скачек, упал, свернул шею. Мать сильно горевала и быстро умерла. Воспитывалась она в семье дяди, который стал ее первым мужчиной. Мила этого не сказала – Борис сам догадался.
У нее был маленький шрам на лице – это от дочки, случайно поцарапала: она что-то палочкой рисовала на песке, я нагнулась посмотреть, она неожиданно палочку подняла вверх, взмахнула рукой и прямо мне в лицо, чуть глаз не выколола. Я ее не любила почему-то, даже била, часто била, меня раздражали ее одежки, ее возня, мне так было досадно, что я должна с ней все время что-то делать, что она все время от меня чего-то хочет, так хотелось, чтоб кто-то с ней возился, чтоб росла сама, без меня, а она ко мне лезла. Когда бежали со всеми, она тверже всех держалась, совсем не плакала. Голод, холод, грохот, солдаты, выстрелы – никогда не жаловалась и ничего не боялась. А стоило мне ее пожурить, как начинали губы дрожать, и это меня бесило, я ей по губам тогда… А когда она умерла, я сильно разозлилась, но внутри что-то опустело, и появился холод. Хотелось всех вокруг убить. Стервой стала сразу. Хотя, может быть, я всегда ею была. Как ты думаешь, я стерва? Не отвечай. Я сама знаю: стерва. Ненавижу зеркала. Поэтому и не крашусь. Вижу шрам и ее вспоминаю. Не хочу вспоминать. Незачем. Бессмысленно. Я ее не любила. Может, потому и умерла, что ее не любили. Может так быть, Боря? Скажи, может?
– Да, может, – говорил он и просыпался, испугавшись своего голоса.
Случались до удушья тихие ночи. Он просыпался с ощущением, будто лежит с ней в постели. В нем жили ее улыбки, ее руки… Он лежал и думал обо всех понемногу… Люди появлялись в темноте, не давали уснуть. Он вставал, скручивал папиросу и осторожно, стараясь не скрипнуть, шел в коридор; там долго боялся зажечь спичку – осквернить пламенем кромешную тьму. Листья вздыхали, когда он выходил на улицу. Борис шел, продолжая разговор со своими ночными визитерами. Рядом в воздухе плыл луноликий Терниковский, улыбался щербинкой, посверкивал моноклем.
– Ну, и каким вы себе представляете это новое человечество? – спрашивал он ехидно.
– Без убийств, без пещерного оскала, без денег и воли к жизни любой ценой… – шептал в ответ Борис. – Хотя не знаю. Не представляю. Без поиска национальной идеи! Не размахивать факелом в ночи, а просто сообща строить мир… в котором самому последнему никчемному дураку жилось бы в радость, понимаете? Так как-то…
Тут появлялся Стропилин:
– А может, замысел таков, чтоб человек жил в мире, в котором все болтается на ниточке? И в первую очередь сам человек, без гарантий, что завтра его не подвесят?
Призрак Терниковского смеялся, хлопал в ладоши:
– Браво, Евгений Петрович! Что скажете, господин Ребров? Нужно ли новое человечество? Нужно ли, чтоб человек становился лучше?
В голове шумело. Сквозь бельмо смотрела луна. Шуршали клены.
– В конце концов, кто я такой, чтобы решать, что для человека лучше? И нужно ли, чтоб он становился лучше? Как это – лучше? Я всего лишь сделал фрагмент картины. Boriss Rebrov, kunstnik.
2
Весной приехал Китаев. Купил несколько картин, сказал, что обязательно покажет их в Париже. К его удивлению, художник остался равнодушным к этим словам. Китаев списал отчужденность на усталость.
– Много работаете, – сказал он.
– А что толку?
– Как! Про вас в газетах пишут. Молва идет…
– Чепуха…
Китаев водил Бориса по ресторанам, кормил, присматривался: в лице Бориса появились морщины, жесткие, безжизненные; характерная для всех фотографов холодность взгляда. Китаев опять много болтал: Башкиров на задворках Стамбула в захудаленьком ресторанчике на стенах увидел великолепные картины Челищева, купил за какие-нибудь гроши и прогремел на аукционе!
Внезапно пожаловался на объявившихся из ниоткуда родственников.
– С другой стороны, я этим родственникам немного благодарен. Я впервые понял, что хочу убить человека.
Борис с удивлением посмотрел на него.
– Нет, нет, я не собираюсь их убивать – невыносимые людишки! – однако они мне дали великолепную возможность разрядиться, выпустить, что называется, пары. Я действительно хотел их перестрелять, взять револьвер и перестрелять! Но так как я прекрасно знаю, что не смогу этого сделать, ведь я знаю это наверняка, да и нет у меня револьвера, то мне доставляет огромное удовольствие воображать, как я беру револьвер и убиваю их – всех, тетку за теткой, их мужей, их детей… Знаете, как приятно! Они сидят, говорят, а я представляю, будто у меня в шкафчике лежит револьвер, представляю, как я иду, открываю шкафчик, достаю револьвер и – паф! Паф! Паф! Ха-ха-ха! Вы не поверите, такое удовольствие!..
Они ходили по городу, Китаев вспоминал свои первые дни в Ревеле, налеты цеппелинов:
– Как тучи, они медленно плыли в синем вечернем небе, а все вокруг грохотало!..
На углу Глиняной и Никольской бомба разнесла вдребезги витрину антикварного.
– Старика-антиквара в клочья, трех посетителей покалечило, а на мне ни царапинки! Только в ушах свистело три дня после этого, а так – ничего… Судьба!
Все эти дни их возил граф Бенигсен, как всегда, в кожаном шлеме и старой кожаной куртке. Граф подъезжал к дому фрау Метцер, два раз жал на клаксон и выходил из машины почистить сапоги. Художник из коридора смотрел в окно на графа с щеткой и улыбался, стоял так несколько секунд, а потом спускался вниз. Катались у моря… Граф за все эти дни сказал от силы несколько фраз, и те касались погоды и места назначения, скорости или автомобилестроения (кажется, он знал о машинах и аэропланах практически все).
В последний день Китаев решил сводить Бориса в Bonaparte; граф их отвез в Екатериненталь и уехал. Прогулка не удалась: кругом были лужи, все дорожки расплылись. Bonaparte разочаровал. Обветшание чувствовалось уже на тропинке, что вела к ресторану: фонарные столбы покосились, кусты разрослись, кругом был мусор, газеты, пахло мочой. Один грифон потерял свою голову, крылья облезли, львы на пьедестале тоже облупились.
– Эх!.. – сказал Китаев.
Старинные двери требовали починки. На ступенях, что вели в зал, лежала новая дорожка. Стояли пузатые вазы с матерчатыми цветами. Когда художник увидел себя в ресторанном зеркале в полный рост, ему захотелось плюнуть в зеркало: он выглядел угловато. В таком костюме только в гроб, разве что… Ненавижу зеркала, вспомнил он. Китаев заметил раздражение на его лице, и помрачнел.
– Что-то не так? – спросил он.
– Все не так.
– Да, согласен, раньше было все кое-как, а теперь как-то совсем плохонько.
– Да, именно, совсем.
На стенах вместо немецких фотографий повесили каких-то эстонских дамочек с подкрашенными веерами.
– Работы эстонского ателье, – снисходительно заметил художник.
– Пестренько, но так фальшиво пестренько, не правда ли? – поморщился Китаев.
– Да.
Зал был пуст, но по-новому пуст. Всюду было солнце. Столики переставили. На окна повесили ажурный тюль. Сели в тени. Незнакомый кельнер, высокий и угрюмый, почему-то весь в белом, разливал Chablis по бокалам. Очень медленно. Казалось, нарочито медленно. С гримасой страдания. Будто вина ему жалко.
Художник отвернулся.
– Может, уйдем? – спросил Китаев.
– Нет, нет, – смутился Борис, – все это терпимо.
– Правда?
– Да, я ничего другого не ожидал, ведь и тогда было плохо, только по-другому… но плохо…
– О! Сегодня здесь тихо и мирно, и все очень дешево в сравнении с теми безумными днями, когда эстонцы открыли большевикам окно в Европу, здесь была биржа, настоящие торги, столик стоил пять тысяч марок, через этот ресторан неслись вагоны российского золота и бриллиантов! Помните, пару лет назад я вам показывал статуи с отстреленными головами? Это были отпечатки тех времен, когда здесь было ужасно, по-настоящему ужасно. Я тут выдавал себя за француза, паспорт-то у меня французский. Встречался с самим Хромым Бесом, и он не догадался, что я русский, вот что значит французский парикмахер, французский костюм и манеры! Да и переводчик у меня был приятный, старый антиквар, еврей, ювелир, вот он-то как раз и вызывал у них подозрения. Его в лоб спросили, где он жил до революции, и он рассказал им, как его грабили, как били витрины, как разнесли антикварный магазин и вынесли бриллианты, украшения, антикварную мебель… Можете себе представить, как мне хотелось смеяться? Приходилось делать невозмутимый вид, изображать непонимание. Гуковский смеялся старику в лицо, оскорблял и говорил, что он вор – вывез свои сокровища, а теперь шпионит тут, но все равно заключил сделку, а затем и другую. Не могу эти встречи вспоминать без содрогания. Меня выворачивало наизнанку, когда я ходил в их предство. Бумажки, видели бы вы, что за бумажки они мне давали! Какая грязь! Но я перешагнул через себя и сделал тут пятнадцать миллионов! Другие делали больше, много больше… Тогда было модно кричать, что воевать с каннибалами – это торговать с каннибалами, но я никогда не оправдывал себя этим. Понимаете, что у меня на душе? Эх, как бы я хотел повернуть время вспять и все отменить! Пройти мимо всего этого, не въезжать в «Петроградскую», не заходить в этот проклятый вертеп, не ехать затем в Монте-Карло…
Китаев жадно выпил бокал и распахнул портсигар, Ребров тоже выпил. Закурили.
– Именно потому, что невозможно повернуть время вспять, я и пришел сюда.
– То есть?
– Чтобы помучить себя, напомнить себе о той сделке. Там было несколько сделок, ведь я еще и свой пароход дал одному французу. Он на нем в Россию вывез столько хламу! Что они покупали! На что пошло золото России?! На хлам! Одного какао несколько сот тонн! И все намокло, все пошло к чертям на дно! Весь Финский залив был коричневый. Можно было черпать и варить… Эта шушера вагонами вывозила золото, а ввозила всякую чепуху! Молотки, пилы, напильники, чугунные сковородки, алюминиевые кастрюли, точильный камень… Ах, не прощу себе малодушие! Это был такой азарт! Представьте, миллионы текут рекой, тут словно пробило скважину! Ужасное время – все как будто сошли с ума. Нет, завтра же уезжаю! – Засмеялся и, словно оправдываясь, быстро заговорил: – Не поймите неправильно. В последние дни я стал часто менять свои решения. Сам не знаю почему, – стряхнул салфеткой пепел с рукава и нахмурился. – Как неопытный игрок: на красное?.. нет, на черное!.. Не хотите со мной поехать в Гапсаль? Как знаете… А там будет интересная компания. Хотя вы не игрок… Завтра уезжаю, и, кажется, пробуду там с месяц. Дольше месяца не могу находиться в одном городе.
– Почему?
– Преследует странное беспокойство. Нечто необычное. Обзавелся недавно. Возможно, что-то нервное. Например, если засиживаюсь где-нибудь, меня начинают терзать те же видения, что и в снах, только наяву. Не совсем так явственно, но они пробегают в мыслях. И все окружающее становится чем-то вроде скорлупы, в которой эти сны струятся. Трудно объяснить. Представьте, что весь мир – кожура, под которой сок, мякоть, суть – это сон, или то, что составляет сон. В венах бежит кровь, а сон и есть эта кровь, только во всеобъемлющем смысле. Когда это находит на меня, кажется, будто все вокруг намекает на что-то, люди следят, видят во мне нечто невиданное… чёрта…
– Почему чёрта?
– Не знаю. Мне в такие моменты кажется, что каждый, кто ни подойдет ко мне, послан тем сном, который во всех нас.
– Так, значит, сон общий?
– Да, да, я к этому и вел, сон-то общий! Каждый видит свое, а поток один. Это как река. В ней и в лодках катаются, кто-то рыбу ловит, а там прачки стирают… Бывает, разговариваешь с человеком, он тебя слушает, а тебе хочется узелок завязать…
– Какой узелок?
– Появляется ощущение, что все рассыплется сейчас, и хочется узелок завязать. Потому что я понимаю, что в нем и во мне – одно и то же. Оно гудит, как пчелиный рой, и вот каждый из такого роя и состоит, и все вообще… Если не завязать, можно и слиться, перемахнув через плоть, стать кем-то другим, или всем сразу. Все ведь соткано из ниточек и светящихся точек… Но самое интересное, как только выезжаю, все это сразу проходит. А если жду кого-то, не выходя из комнаты, кажется, что придут другие…
– Кто?
– Не знаю. Другие. Кто-нибудь такой, кто все перевернет с ног на голову. Иногда слышу шаги, и все внутри дрожит. И хочется кричать, звать на помощь, в окно выпрыгнуть!
– У меня такое тоже бывает, – улыбнулся художник, – но мне не хочется ехать…
– А меня все время куда-нибудь несет. Тяга к перемене мест, знаете ли. Я почему-то думаю, что это смерть.
Ребров приподнял брови. Китаев нахмурился.
– Да, смерть, таскается за мной повсюду. Прилягу, а она рядом. Неотвязное ощущение, и запах мерещится.
– Какой запах?
– Гнилой картошки.
Борис неожиданно вспомнил ферму Галошина – у него тоже сильно воняло гнилой картошкой.
– Я за последние пятнадцать лет не дочитал ни одной книги, – продолжал Китаев. – Начинаю и бросаю. Боюсь дочитывать. Читаю, а она рядом – читает. И мне кажется, что она шепчет: «Читай, читай. До конца. А в конце – я!», понимаете?
– Кто – я?
– Смерть. Я знаю, что я такой же, как все. Это она мне шепчет. Она ведь всех знает. Каждый носит в себе смерть, она созревает, как плод, в каждом, – и в один ужасный день город, в котором ты остановился, принимает тебя в объятия, как могила усопшего, и ты боишься, что никогда не уедешь отсюда. В той церкви тебя отпоют. С того почтамта пошлют телеграмму о твоей кончине. Может, повезут по этой дороге на кладбище. Некоторое время терпишь, но в какой-то миг все эти мысли становятся непереносимыми, и тогда я собираюсь, бросаю дела и еду. Куда-нибудь. Но даже в пути, случается, настигают беспокойства, сны… Например, ехал из Франции в Германию, задремал в поезде, и мне снится, что сижу у окна, еду, все те же знакомые поля, леса… и вдруг вижу – мост впереди разобран, а мы на полных парах приближаемся…
Он выпил, сделал знак кельнеру, заказал еще бутылку и попросил, чтоб поскорее приносили закуски. Кельнер поклонился, повернулся, и Китаев заметил, что высокий кельнер был слегка горбат (отсюда кажущаяся угрюмость).
– У вас мне спокойней всего, – продолжал он. – Я так привык за эти годы к вашей комнате, что всякий раз, когда еду в Ревель, думаю о вас. Думаю, как прокатимся с графом по Ревелю, съездим к морю, а потом сядем у вас, выпьем домашнего эстонского вина, поговорим… И это меня успокаивает. Еду в поезде и думаю: что вы там опять нарисовали? Чем удивите? Может быть, мне только у вас и хорошо. Но, к сожалению, и тут я ненадолго. Завтра же еду. Потому что всюду одно и то же. Везде действуют одни и те же законы. Человек всюду смертен, конец неизбежен и так далее… Старею. Появилась привычка ходить в одни и те же места. Останавливаюсь в «Золотом льве», хожу в «Асторию» и «Палас»… Сегодня решил посидеть тут. Я боялся, что это место закроют. Когда что-нибудь закрывается, меня посещает тревожное ощущение: не закрылось ли что-нибудь и во мне с закрытием заведения? Понимаете?
– Безусловно.
– Как прекрасно, что вы меня понимаете! И как прекрасно, что никуда не переезжаете! Я вам все время твержу, чтоб вы ехали, а втайне хочу, чтоб никуда не уезжали. Чтоб так и сидели. Чтоб я мог приехать к вам и забыться. Черти в смокингах и бесы во фраках кого угодно сведут с ума. В наше время только в такой комнатке, как ваша, и может быть хорошо. Вам-то как? Хорошо? Вы не тяготитесь тем, что никуда не выезжаете?
– Слепая лошадь годами ходит по кругу, зрячая давно сошла бы с ума.
Китаев улыбнулся и кивнул.
– Понимаю, понимаю…
Он хотел сказать Борису гораздо больше. Он хотел ему сказать, что последние несколько лет художник для него был одной из нескольких ниточек, которые его удерживали над пропастью. Особенно когда он плоско лежал в своем номере, глядя на вращающиеся лопасти вентилятора, представляя, как где-то крутится рулетка, а он лежит тут, как жетон, в ожидании. Вместо этого он поднял бокал и сказал:
– Не зря ходили кругами. Позвольте вас поздравить с окончанием картины и давайте выпьем за это!
– Есть на что к дантисту сходить, – сказал Ребров.
Выпили.
– Сколько лет работали?
– Пролетело незаметно… вот что странно: было тягостно и долго, а теперь – оглянусь – как вчера.
– Вам ведь еще нет тридцати, – заметил Китаев, – вот после тридцати самый ток времени начинается. Годы летят, как листья в октябре.
Помолчали, потягивая вино. Китаев опять заговорил.
– Нет тридцати, а многое успели… Говорите, французу понравилось?
– Он был в восторге. Сам по моему методу собрал парочку подобных вещиц, две недели у него ушло. Французы не любят тянуть, решил взять приступом. Собрать свой коллаж из старой одежды и костюмов, декораций, которые в его студии оставались – вместе возились, мне было интересно, что выйдет, но я ему сразу свое сомнение высказал: такая картина должна собираться не один год – с бухты-барахты ничего не выйдет… Так и получилось. Но надо отдать ему должное – оптимист и художник, удалось сделать недурное произведение, поиграл с осветительными устройствами и достиг интересного эффекта, хотя потом признался, что пустое… красиво и только, нет содержания… нет той пыли времени, которая скрепляет части моей работы в целое, этого у него нет, хотя недурные картинки у него вышли. Я рад, что он понял, что такое с наскоку не собрать.
– Пыль времени… За что-нибудь новое возьметесь?
– За подобное – вряд ли. Так, рисую понемногу… Что-то большое годами вынашивать сил не хватит. Столько лет держал замысел. Хотя я не заношусь. Я прекрасно понимаю, что сам себе придумал это мучение. Зато теперь есть на что опереться. Есть внутри это, а с этим я – художник. И годы эти не просто так прошли. В них толк был. Возможно, мне одному известный, но разве того не достаточно?
– Мне тоже известно, и французу, и тем, кто осветил в прессе вашу работу как необыкновенное достижение, так что не одному вам это известно.
Снова закурили. Принесли закуску и еще вина.
– А вы размышляли о природе вдохновения? – спросил вдруг Китаев.
– Да, конечно, очень часто думаю об этом…
– И что вы думаете, скажите?
– Ну…
– Я вот о чем подумал. Написал, допустим, книгу человек или картину, прославился, получил все, будто кувшин песочком потер, ему и деньги, и слава, и женщины… – Художник улыбнулся. Это приятно щекотало нервы. Ему захотелось рассказать про свою интрижку с Милой, но Китаев говорил так, будто откуда-то подозревал, что у Бориса есть женщины. – Вот только не уменьшается ли от этого шагреневая кожа?
Китаев прищурился. Борис усмехнулся, выпил и сказал:
– Нет никакой кожи.
– Вы уверены?
– Да.
– А что тогда?
– Если б я знал…
Китаев достал из портфеля дагеротип.
– Сегодня из Швеции приедет один коллекционер, Грегориус Тунгстен. Я ему рассказывал о вас. Он хотел бы с вами познакомиться. Вы как, не против?
– Нет, конечно.
– Вот и хорошо. Мы к вам нагрянем завтра вечерком. Посмотрим ваши работы…
– Буду рад.
Они спустились по лестнице. Вечер густел. Пели птицы. Долго шли по парку молча, затем Китаев вспомнил, что беседовал с Терников-ским.
– Говорили о вас.
– Мы с ним поспорили недавно, – сказал Борис раздраженно.
– О чем был спор?
– Так, ерунда. Понимаю, что глупости, а спорю, не могу удержаться. Потому что деть себя некуда. Тут поспорил, там поругался. Тому сплетню влил в ухо. У этого что-нибудь выудил. И – пропал! Раньше я таким не был. Засосало.
– Не лучше ли просто уехать во Францию и жить без этих мыслей? Я мог бы похлопотать о визе…
– С трудом верится, что во Франции лучше. Я от знакомых получаю страшные письма…
– Я бы подыскал вам что-нибудь, студию, ателье… Будете делать картины и дагеротипы, а? Вы все-таки художник, да и по-французски говорите…
– Даже если и так… Я бы хотел, чтоб такая возможность возникла не теперь, а тогда, до Изенгофа, до Нарвы – махнуть всем вместе из Павловска в Париж и – зажить… Никто не воскреснет, если я уеду во Францию.
– Это верно.
На какой-то башне негромко пробили часы.
3
декабрь 1930, Ревель
Стропилина угораздило: съехал, поругавшись с хозяином дома, ко всему прочему, что там в журнале у него было, вышел скверный скандал в школе; но не теряет присутствия духа. Предложил ему к фрау Метцер – все равно пустуют комнаты, и берет немного; сказал, что подумает. – И чего тут раздумывать?..
Тимофей очень вырос; смотрел на него, когда он стихи свои читал и вспомнил, как он стучал по деревянной ноге солдата, которого теперь и в помине нету, наверное.
До того как мы с Левой опять ударились в разврат, был магический момент. Я заметил человека, которого видел на снимках К. (многократно). Мы сидели в кафе возле Михайловских ворот с Тидельман-ном и французом; ждали Тунгстена. Я поглядывал на горбатые спины извозчиков, прислушиваясь к колокольчику в ателье-студии Лемберга (частенько звякал); пили вино, француз и немец меня угощали поочередно, говорили о политике, конечно; оба нервничали и сходились на том, что надо уезжать.
– Клиенты ходят совсем плохо, – говорил Т.
– Мои дела тоже идут хуже и хуже, – жаловался француз.
– Слышите, как часто звякает у Лемберга? – сказал Т., мы кивнули.
– Вот так.
Тунгстен не шел, ждали долго, темнело, перед Ревельским клубом зажегся фонарь, двери клуба раскрылись, и вышел человек. Еще издали он мне показался чем-то знакомым. Он шел в нашем направлении, я с нетерпением ждал, когда смогу рассмотреть его лицо. Он прошел мимо – важный, пузатый, крепкий, усы, как у циркача, и трость; я следил за ним, он вошел в здание банка. Очевидно, делец. На меня это явление подействовало столь ошеломительно, что я забылся. Я был уверен, что это был один из наших клиентов, – я видел его портрет… когда?.. и где?..
Меня отвлек француз; попросил показать им мои фотографии; я неряшливо доставал конверты из сумки, они смотрели и кивали: пустые улицы – столбы – гора булыжников – облетевший куст сирени…
– Вот это и есть Die Neue Sachlichkeit [62]62
новая вещность (нем.) – художественное течение, возникшее в Германии в 20-х годах.
[Закрыть], – засмеялся герр Т.
– О чем вы так задумались, глядя на того человека? – спросил француз.
– Я пытался вспомнить, где его видел. Мне показалось, я видел его на фотографии.
– Борис непременно должен каждому клиенту вернуть его Шлеме-ля, – сказал герр Т. – Вы без этого и дня прожить не можете. Скажите, Борис, а если б вы были дантистом? Что было бы тогда?
Чайка снялась, переплыла через небо на другую крышу.
(рисунок чайки)
* * *
Лева приходил с Никанором. Долго спорили. Никанор насмешливо называл Леву бутлегером. Придумал с этим словом стишок. Много раз читал. Хохотал. Глупо. Лева сердился. Тоже глупо. Никанор совсем исхудал. В нем что-то болезненное, что-то точит его. Много работает. Говорит с отчаянным надрывом. Пожаловался, что у жены плохо со здоровьем (я думал, он ее ненавидит, а он – любит, оказывается). Она не работает, на улицу почти не ходит, до врача и обратно, думают переехать куда-нибудь в глубинку, на природу, подальше от моря.
– В Ревеле погода негодная, – несколько раз сказал, что не раздумывая, не торгуясь берется за все. Целыми днями на керамическом заводе, а по вечерам: кожа, сапоги, туфли, кошельки… Теперь собрал каких-то людей вкруг себя. Говорят о создании колонии.
– Может, так все вместе справимся и совладаем с нищетой, – приговаривал он тоскливо, – может, так будет легче, хоть чуточку легче, если друг другу помогать, выручать друг друга… Все наши что-нибудь да делают руками, кто строит, кто столярничает, есть агроном, аграрную академию заканчивал в Петербурге, работает сейчас у баронессы в Причудье… Хозяйство ее поднимает, заодно место присматривает…
Говорил много, но веры в его голосе я не расслышал. Он так говорил, как молился. Анархизм для него как религия, а Кропоткин с Бакуниным как мессии. Я засмущался. Впервые услышал от него эти идеи, и голосом жалобным так высказанные, мне на душе стало гадко. Нельзя так на людях. Это было стыдно, он как исповедался или как на колени перед нами встал. Лева над ним смеялся. Никанор ему не сказал ничего, посмотрел тоскливо, собачьим взглядом, повздыхал и пошел домой, к жене. Лева сразу принялся его поливать грязью, говорить, что он прижился у пятидесятилетней старухи, немки, толстой и безобразной, живет в темной комнатке с ней в Вышгородской стене, как таракан, и еще смеет жаловаться, что ему трудно! Я сказал Леве, чтоб он замолчал. Так он принялся на меня орать:
– Тебе хочется, чтоб с тобой нянчились. Ты – художник! Ты – особенный! Ты хочешь, чтоб тобой восхищались, видели твою исключительность и нянчились? Твои картинки, твои стишки… Думаешь, кому-то это нужно и кто-то будет нянчиться с тобой, как с Никано-ром его баба? Ты такой особенный, полагаешь, тоже найдешь себе такую жирную домовитую немку? Как там Трюде? Готова принять? Тебе уже поставили урыльник под ее кушеткой? Ты, наверное, считаешь, что мир создан для тебя, все само собой образуется? Нет, мир – слепой жестокий старик, он держит тебя на веревке, как собаку. Ты – глаза его!
Он много всего кричал. Это только часть вопля. Я не дослушал. Выставил. Зол на него был. Но сам подумал, что он прав, в чем-то, не во всем, но был он немного прав: где-то в глубине я ждал, когда помрет слепой, чтобы въехать к Трюде и зажить sans souci [63]63
Без забот (фр.)
[Закрыть]. Не в первый раз.
Мысли эти всплывали и прежде. Фрагменты воображаемой жизни с ней – как фотоснимки – проскальзывали в мои повседневные унылые дни, когда ни о чем не думалось, а только скрипело внутри: вот помрет старик – перееду к ней – не надо будет стольких вещей делать: гладить, убирать, готовить, беспокоиться о жалованье – ведь на двоих нам хватит работы у Т. Я не думал это в виде слов. Я никогда бы не позволил себе это произнести. В уме можно что-то говорить, а что-то прятать от себя, но носить, словно за подкладкой, и тайком грезить картинками. Так вот я грезил. Проскальзывали видения, как пролетает трамвай, пока идешь по Нарвской под дождем, и тебе кажется: повезло этим людям – сидят в вагоне, им там хорошо, у них нет дождя, нет забот. Но это заблуждение, и я прекрасно понимаю, что мои грезы о совместной жизни с Трюде блажь, иллюзия… окончательное поражение. Недопустимое!








