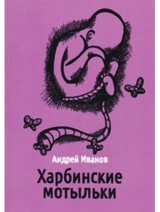
Текст книги "Харбинские мотыльки"
Автор книги: Андрей Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Боюсь, кроме вас, мне больше некому читать.
– Почитай их Ольге, Вере Аркадьевне…
Тимофей смутился.
В поезде Борис старался забыть о нем, но не получалось. Образ Тимофея преследовал его. В воображении портрет мальчика трепетал иной жизнью, по нему словно пробегали блики пламени (было бы страшно фотографировать). Сквозь черты Тимофея проглядывало другое лицо – его матери, и художнику становилось жутко. Он отворачивался в окно, купая глаза в небе, будто стараясь смыть с них образ.
Я не должен думать о нем. Не должен переживать. Плевать на него! Плевать! Я ему никто. И он мне тоже – никто.
Но точно так же, как не мог оторваться, подглядывая за сумасшедшими, Борис не в силах был прервать это мучение: вновь и вновь оживлял в сознании Тимофея. Прогуливаясь по улочкам Ревеля, мысленно говорил ему что-нибудь, чего никому никогда не сказал бы, читал его стихи на каком-нибудь пустыре, не замечая, как вокруг темнеет, – так он доводил себя до нестерпимого умственного припадка.
Что будет потом? – спрашивал он себя. – Что потом? Почему я не могу выкинуть его из головы? Кто привязал меня к этому мальчишке? Зачем? Ведь я ничем не могу ему помочь!..
– Мне наплевать на тебя! – кричал он в пустоту. – Наплевать! Слышишь? Тьфу!
Долго сочинял письмо, в котором придумывал причины, почему больше не сможет навещать его. У меня снова трудности на работе: работы нет. И это правда – работы стало меньше. Мои картины никто не покупает, хотя никаких картин нет. Я задумал новую серию картин. Давно ничего не писал, надо бы взяться за сборку. Ничего не выходит в последние дни. Не пишется. Не тот свет. Свет в этом году совсем мертвый. Ничего не родится. Берешь яблоко, а оно не живое. Так и не написал. Не смог. Это все равно что взять его и поселить в этой каморке.
Февраль 1927, Ревель
Несколько раз снился Париж, только был он в моем сне какой-то петербургский: огромные проспекты, дворцы, фонтаны, толпы людей и экипажи, моторы, над каждой улицей висел разноцветный дирижабль с фонариками, которые мигали, по Невскому проехал поезд, и я спросил кого-то: откуда Невский проспект в Париже? – Мне ответили: C’est le boulevard de Nevski, – и я успокоился.
Собираю картину, а она меня.
Апрель
Времени нет
ножницами воду
делаем вид
Трюде к отцу приставлена судьбой, а я судьбой от всех отрезан. Я почти ничего не делаю, чтобы жить, и ничего не жду. Зачем я нужен? Спрягаю глаголы. Чего ради живу? Идет дождь, смотрю на дождь; идет снег, смотрю на снег. Ветер срывает лепестки – смотрю им вслед. Если жизнь воспринимать не как историю, но единовременное существование всего живого, то получается что-то вроде пыли в луче света.
Как monsieur Leonard сказал глядя на наш семейный дагеротип: II n’y a pas de lumiere sans ombre. Mais en effet tout est lumiere! [51]51
Нет света без тени. Но по сути все есть свет! (фр.).
[Закрыть]
Во всех смыслах верно: всё есть свет (даже там, где тень!).
14-е мая 1927, Ревель
всерьез начал сборку – все валится из рук (попробую в следующую пятницу)
Июнь
ласточки, как тогда, летали, голова разболелась; тучи стянули небо, – как тогда, весь день и особенно вечер был такой, как после «Эрика», только гроза так и не прорвалась, ушла, и где-то за городом
* * *
собирал зеркальную часть Тщеславия. Выставил куколок. Долго крепил и настраивал зеркала так, чтоб они уводили в бесконечность (колоннада – самое трудное). Оторвался, повернулся за чем-то и вдруг понял, что нахожусь в чужой комнате: стою перед столом и не узнаю стол, этого стола не было – лампа, книги, тетради, фотографии – все не мое; и окно не узкое, а широкое, большое, от пола до потолка, с видом на незнакомый город: широкая река и мост над ней, но совершенно точно – не Петербург, – в этом городе я никогда не был. По мосту ехали автомобили, шли люди… Все были маленькие, словно я смотрел на мир с высоты птичьего полета. Перехватило дыхание. Я повернулся к моей картине – все на месте, шагнул в ее сторону и вошел в свою комнату, оглянулся: мой стол, мое окно, и мой вид из окна. Покурил, попил крепкого чаю на кухне, попался фрау Метцер, опять она меня встряхнула вопросами по поводу того, что я не убираю и в коридоре хлам. Кроме того, я так и не внес свою долю на картофель, кабачки, тыкву, мясо, вино и пр. Упрекала. Но как я был рад слушать ее упреки. Как я был рад! Как хорошо! Сказал, что дам денег и заплачу за комнату. В комнату идти не решался. Сидел и чай пил. «На кухне не надо курить, – сказала она. – В коридоре в окно курите! – И опять: – Ну, так будете платить или нет? Когда мне ждать? Завтра? В новом году?» Я предложил ей пойти со мной (все-таки страшновато было одному). Пошли в комнату вместе. С ней комната вела себя подобающим образом, присмирела, ничто не таращилось. Фрау Метцер заметила, что ей все равно, что я тут клею или мастерю, но чтоб после было убрано, и: «Если что-то попортите, сами ремонтируйте!» Я пообещал, что так и будет. Дал денег. Ушла. Выпил вина, успокоился.
* * *
Стропилин отказывал себе во многом. К этому он привык, ибо отказывал себе во многом с детства, – но в последние годы он дошел до крайности, какой никогда прежде не знал, а только наблюдал в других людях и, обнаруживая в себе эту крайность, пугался, потому что не знал, что может за этим последовать. Его пугали умонастроения людей, с которыми он переписывался, и в которых он подозревал ту же крайность, и себя сдерживал, не писал им. Его раздражали лица людей в экипажах, и особенно тех, что усаживались в экипажи у Михайловских ворот, его возмущали лица людей, которые выходили из Ревельского клуба, – и он перестал ходить мимо Михайловских ворот. Его оскорблял вид женщин, что выходили из магазина Mood, их голоса его раздражали; он чувствовал себя совершенно раздавленным после разговора с человеком, который был одет лучше его, а если тот работал в каком-нибудь банке да к тому же говорил по-эстонски, а таких становилось все больше и больше, Стропилина охватывало беспокойство, которое было невозможно унять несколько дней. (Отчасти он понимал, что ненавидит Федорова именно за это; Федоров для Стропилина был сильным источником беспокойства.) Евгений Петрович избегал людей; он переставал здороваться с теми, кому удалось издаться, даже если книга была, в сущности, дрянь. Годы шли, а его книги все не было, работы подходящей тоже не было, как и надежды, что в череде однообразных дней будет хотя бы проблеск. Русские гимназии и школы закрывались. Все трудней и трудней Евгению Петровичу удавалось найти средства для издания журнала, в котором все меньше и меньше желали печататься, а если несли, то безоговорочно упрямствовали, не желали, чтоб он корректировал и делал замечания. Все это его угнетало. Мысли о том, кем будет его сын, не давали покоя…
«…ведь невозможно предугадать, кем станет этот улыбающийся мальчик, пусть он трижды мил, любезен, опрятен, прилежен и т. д. – может быть, в грядущем он станет анархистом, как Колегаев, или, как Ребров, будет ходить, неприкаянный. Был на днях у его дяди, Николая Трофимовича, зашел разговор о племяннике. Вернее, признаюсь, я сам подвел: хотелось услышать, что Николай Трофимович думает о Борисе.
– Борис на отца своего сильно похож, – сказал Николай Трофимович. – Совсем как он. Изобретатель. Я выкупал мамины драгоценности, которые сестра закладывала, чтобы выручить их всех. Он в долги со своими изобретениями залезал. Не умел вести дела. Работал там и тут, все мечтал о собственном ателье. Так ничего и не вышло. Уедет куда-нибудь, увлечется, а потом шлет телеграммы. Все так и утекало на опыты. Движущиеся картинки. Аппарат на колесах. Аквариумная дагеротипия. Фокусничанье. Бедных тоже жалел, сами как церковные мыши…
Мы немножко подвыпили с Николаем Трофимовичем; я – немножко, а он уже выпивши был, когда я пришел, и как еще выпили, он совсем разошелся. К нам подсела жена его, немка, тоже себе налила ликеру, и тут между ними разыгрался небольшой семейный спектакль.
Грета сказала, что Борис к ним приходит и назло сообщает неприятные вещи о том, как другие русские плохо живут, чем пытается задеть, как она считает, Николая Трофимовича, корит его этими россказнями. Например, она рассказала, как Борис приходил к ним как-то насчет писательницы ходатайствовать (насколько понимаю, речь шла о Гончаровой), а после того, как она умерла, приходил, описывал, как прошло на похоронах, говорил о ее несчастном мальчике, которого отправили куда-то в приют.
– Он это не просто так говорил, – настаивала Грета. – Не просто так. Он говорил так, словно мы обязаны были взять того мальчика к себе!
– Ну, что ты, нет, конечно, – отвечал Николай Трофимович.
– И еще подпись твою получить хотел, лотерейные билеты приносил, как будто мы очень богатые благотворительностью заниматься. Он не ради нее это делал, а тебя этим пытался уколоть, – сказала Грета и похлопала Николая Трофимовича по руке, и мне это показалось в высшей степени ироническим жестом. Похлопала нежно, улыбнулась, но все это был театр!
– Да нет, – отмахивался Николай Трофимович. – Зачем бы ему это надо было? Меня уколоть…
– Он обиду в сердце носит. Винит тебя. Хотя если и винить тут кого-то, так меня. Но это не имеет значения, потому что никто не виноват. И ты это должен понять и не думать.
– Да я и не думаю.
– Думаешь, я знаю, думаешь, – сказала Грета, повернулась ко мне и, твердо глядя в глаза мне, произнесла: – Ночи не спит, ворочается, думает.
Грета несколько раз в тот вечер сказала, что девушка Трюде, с которой все мы видели Бориса не раз (они вместе работают), очень хорошая. Несколько раз повторила:
– Я знала ее мать. Хорошая была женщина. Трюде в мать пошла. Ухаживает за слепым отцом. Это очень хорошая девушка.
Несколько раз повторила. К чему бы это? Говорила она так, словно хотела каким-то образом надавить на Николая Трофимовича, чтобы он что-то объяснил Борису. Женить она, что ли, хочет его? Но зачем ей это? В любом случае, Николай Трофимович усмехался, он пропустил ее слова о девушке Трюде мимо ушей.
В конце, когда Николай Трофимович вышел в уборную, Грета мне сказала, что у него со здоровьем что-то совсем разладилось в последние дни. Я это и сам знал, и навещать ходил, – потому и пришел, в конце концов, – она так сказала, точно я не знал этого и забрел случайно. Неужели не поняла?
– Все было ничего-ничего, и вдруг пошло-поехало.
На глаза навернулись слезы! Это было так неожиданно: она схватила платок и заплакала! Мне стало страшно, будто Николай Трофимович не в уборную вышел, а умер.
Я быстро собрался, попрощались, и ушел. В тот вечер у меня было очень тревожно на душе, я шел и думал: никогда не знаешь, как и когда это может схватить. Все это так неожиданно. И то, как жена Николая Трофимовича схватила платок, вышла, заплакав, мне не давало покоя. Точно это сигнал мне был какой-то, знак об отчаянии каком-то, в каком они там находятся.
Может, все это уже в ребенке есть: и смерть его, и обиды, и таланты делать добро и гадости – всё!
Эх, пишу я эти слова и думаю: кем он станет, мой мальчик? Каким будет? Каким его люди воспримут? Будет ли он, как Николай Трофимович? Или, как Борис, будет ходить и обижаться на людей, говорить с ними странно? Как тогда в парке, наговорил бог весть чего, не закончил и ушел, весь загадочный. Или сделается истериком, как Тер-никовский?
Кстати, Терниковский опять оскандалился. Бойкотировал со своими монархистами Милюкова, и теперь его выслали на острова. Наконец-то! Инцидент был очень неприличный. Милюков приехал с лекцией "Грозит ли война Европе?”, но за неделю до приезда по городам уже распространилась мерзкая листовка, по всей видимости, написанная самим Т., в которой он призывал дать отпор предателю Милюкову, саму лекцию Т. назвал "зловредной”. Милюков приехал, ни сном ни духом, я видел его: он улыбался и был очень оптимистично настроен. Не успел он подняться на сцену театра "Эстония”, где присутствовало более ста человек, в том числе чины и государственные деятели, как выскочил какой-то однорукий в сером офицерском костюме северо-западник из бывших “верных”, и давай выкрикивать ругательства в адрес Милюкова. Инвалида немедленно арестовали. Он был не в себе, хохотал и размахивал одной рукой, и та взлетала как-то неестественно, будто неживая. Затем расследование, суд, все наскоро, выслали пятерых, включая Терниковского. Тут же в “Возрождении” появилось анонимное письмо – по насмешливой, залих-ватски-хулиганской манере легко догадаться, кто написал его…»
осень 1927, Ревель
Фрау Метцер была со мной необыкновенно вежлива (я ей вперед заплатил). Улыбалась. Несла в руке букет снежноягодника. Толстые белые ягоды. Шла и любовалась. Никогда не понимал ее страсти к этим цветам. Что в них? Я спускался за почтой.
– Вам там письмо пришло, лежит на столе в кухне, – сказала она, умиляясь букету, и пошла дальше по лестнице. – Наверное, от барышни, – добавила насмешливо.
Все ждет, что я барышень начну водить. Не дождетесь! Сама себе букеты делает. В пятьдесят пять лет с таким картофельным носом ничего другого не остается. На ступеньках несколько ягод попалось, подобрал.
Был у Н. Т., приходил отец Левы; доктор Мозер и еще один, с кем Н. Т. в бридж по субботам играет; говорили о пустяках, Н. Т. вычитал из газеты, что Клеверную уведут под землю, а мост уберут, – обсасывали это. Дмитрий Гаврилович потирал ладони и приговаривал: «Давно пора, давно пора!» Он был так доволен, точно это был им самим задуманный план.
Часть III
Глава первая
1
Вера Аркадьевна написала, что Тимофей и Иван ходили в Новый год на Ратушную площадь, и – случилось несчастье: во время фейерверка одна ракета разорвалась рядом с ними, большая искра угодила прямо в глаз. Борис сперва подумал, что Тимофею в глаз попала «искра», но затем понял, что – нет, Ивану, потому что с тех пор Тимофей все время с ним, в больнице сидел подле койки каждый день, а теперь и вовсе к Каблукову перебрался, и самое страшное – себя винит в том, что случилось. Тимофей тоже написал, в красочных подробностях – используя медицинские термины, описывал процедуры, которые, когда Каблукова отпустили домой, сам делал, выполняя роль сиделки (промывал рану, менял повязки, давал лекарство). Он готовил, стирал, работал, и все равно – задолжали и пришлось съехать. Вера Аркадьевна приютила Тимошу у себя, а Иван лежал в чулане ее букинистического – за ним и Ольга приглядывала, и сторож. Сторож жаловался: Иван по ночам кричит. Спрашивали: что такое? Он отвечал, что задыхается. В конце концов его временно поместили в больницу, где присматривал за бедными туберкулезниками доктор Фогель. Вера Аркадьевна писала, что с этого времени у Тимоши начались странные душевные расстройства, которые она не бралась описывать, настолько они были из ряда вон выходящими. С таким я еще не встречалась, написала она.
Борис собирался, думал, как бы приехать, но не выходило; что-нибудь да отвлекало, не пятое, так десятое. Он был слишком занят своей картиной; точнее – уже не самой картиной (он закончил ее), сколько собой, образом kunstnika и той небольшой популярностью, которую он снискал в узких кругах благодаря выставке. Это событие выбило Реброва из колеи, он совершенно потерял чувство времени. Саму выставку он и не почувствовал. Она прошла как во сне. Будто и не с ним. Его больше поразило то, что картина завершена. Он не верил в это. Все получилось слишком неожиданно. Борис, ничего не планируя, взял и собрал муляж «Башни» в несколько дней. Это было во время его непродолжительной болезни. Он сидел дома и пил горячее вино с медом, возился с тканями, которые раздобыл у фрау Метцер в сундуках на чердаке, пристроил их на стульях, сделал амфитеатр с львами и гладиаторами, заполнил ряды самым разнообразным людом, воздвиг картонный корпус башни из коробок, находчиво обклеил их вырезками из газет и книг, что оставались после художника. Фрау Метцер они все равно не нужны… Сначала было страшно. Книги были толстые, важные, как живые. Кожаные переплеты потемнели, на свету отливали синим. Или это только казалось, что они отливают синим? Если бы не жар, вряд ли осмелился. Казалось, кто-то подглядывает. А как первые страницы вырвал – с корнем (из Abhandlung von der Fuge [52]52
Фридрих Вильгельм Марпург. «Трактат о фуге».
[Закрыть]), дальше щелкал ножницами увлеченно, с некой одержимостью, даже голова кружилась от дерзости.
А что, все равно старье, никому ненужное…
Брал Philosophie des Unbewufiten [53]53
Эдуард фон Гартман. «Философия бессознательного».
[Закрыть], вертел ее в руках, перелистывал, думал: вот читал ее, читал, чувствовал себя дураком, ничего не понимал, мучился, боялся карандашом оставить пометку, а вот сейчас ее ножницами! Брал другую – Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit [54]54
Фридрих Густав Клемм. «Всеобщая история культуры».
[Закрыть]– и не читал вовсе, чик!.. чик!.. Geist der Zeit [55]55
Эрнст Мориц Арндт. «Дух времени».
[Закрыть]– чик-чик-чик!
Выстроил фон из старого задника, который выклянчил у мсье Леонарда, закрепил его теми же книгами, использовал их как подпорки; разместил зеркала, подвесил кусок дирижабля, облака со свечкой в лампаде, одно за другим, круг за кругом выстроил Ад, расставил куколок в нишах, картонных коней – в ванночке с водой и камнями. Сам не заметил, как чулан опустел, и не сразу понял, что готово. Все решили ткани, шептал он себе под нос. И не верил… Нет, не верилось, что вот оно! Двигал лампы, ловил свет, рисовал и фотографировал творение; сбегал к французу, привлек его. Тот пришел со своими осветительными приборами, аппаратом, пластинками. Француз сперва скептически осмотрел гору мусора и побрякушек, сделал несколько дагеротипов, проявил и пришел в восторг. Прибежал, потрясая пластинками: Formidable! Etonnant! Miraculeux! [56]56
Восхитительно! Поразительно! Чудно! (фр.)
[Закрыть]Дивился и рассматривал le montagne de bric-a-brac [57]57
Гора мусора (фр.).
[Закрыть], пытаясь постичь, каким образом весь этот хлам организуется в целое на картинке. Отправились вместе к Тидельманну, показали ему; тот подмигнул Борису, похвалил, купил экземпляр и разрешил вывесить остальные у себя в ателье. Сделали еще несколько дагеротипов, быстро нашлись покупатели. Борис с неделю рисовал le montagne с разных углов, никак не мог остановиться; француз приходил еще раза три с новыми пластинками, принес свой старый «юпитер»; Ребров мехами раздул побольше пыли, которую собрал на чердаке, на газеты, француз не понимал, зачем пыль, пожал плечами, снял сквозь пыльное облако, на следующий день снова прибежал, потрясая пластинками, просил Бориса нагнетать пыльное облако, делал еще и еще снимки с магниевой вспышкой! Пришел Ристимяги, увидел кучу, картины на стенах, хватал воздух ртом, как рыба, прижимал руку к груди… убежал, пришел через день, сообщил: подыскал галерею! Отправились к хозяину галереи Юхану, кроме галереи тот владел «художественным кафе». Юхан сказал, что работ для выставки маловато, свел Бориса с Ханно, художником лет сорока, который жил в башне на улице Лаборатоориуми. Хозяин галереи посоветовал им выставить свои картины вместе. Ханно рисовал, сильно подражая Мунку. Он жил неподалеку от музыканта и поэта. Кажется, гомосексуалисты, подумал Борис. Этим было лет по двадцать пять, и они вели себя совсем неприлично: щекотали друг друга, как дети, и хихикали. Все трое сильно пили и что-нибудь вытворяли: выламывали из стен камни, швыряли ими в кошек, на веревочке соседям под окнами спускали ботинки, мочились на черепичные крыши, выбрасывали в окно подожженные газеты. Они совсем не говорили по-русски, чуть-чуть говорили по-немецки и все время смеялись, им все казалось смешным. Скажут слово по-немецки и хватаются за животы. Ханно бывал серьезным, ему понравились работы Реброва, он оценил дагеротипы. «Такого я еще не видал», – сказал он. Расставил свои работы, все они показались Реброву сильно вторичными, подражательными, но он их хвалил, конечно, тоже. У Ханно было много журналов, они часами просиживали над ними, пили водку и рассматривали картинки, а Ристимяги переводил, быстро уставал, правда, пьянел и плакал, на что-то жалуясь. Поэт с музыкантом все время что-нибудь пели и играли, танцевали и хохотали, заводили граммофон и кричали что-нибудь неприличное вслед ковыляющим прохожим. Они были такие шумливые, у Реброва начинала болеть голова. В башне было холодно. Некоторые окна были заделаны подушками или картоном. Отобрав дюжину картин, что тематически и по цветовым тонам совпадали с «Вавилонской башней» Бориса, сделали выставку, пришло много народу – Николай Трофимович, Соловьевы, Стропилин и пр. Большую фотографию Реброва с Ханно поместили в Vaba Maa [58]58
Свободная страна (эст.) – печатный орган Эстонской Рабочей партии, газета выходила в Эстонии в 1918-38 гг.
[Закрыть], Ристимяги написал небольшую статью. Несколько дней пили… но потом Борис спьяну что-то ляпнул; кажется, что-то вроде того, что эстонское искусство сплошь подражательное, в нем нет ничего оригинального, и уснул в кресле… Проснулся от холода на улице возле мусорного бачка, все так же сидя в кресле, на нем была его шляпа, на коленях лежало пальто, на плечах – снег. Оделся, обиделся, ушел.
Через неделю он поехал в Тарту. Произвел сильное впечатление на местную публику. Приезда ждали с нетерпением. Прочитали статью Ристимяги (там читали по-эстонски); кроме того оказалось, что, пока он пил в башне на Лаборатоориуми, в «Последних известиях» вышла о нем заметка, крохотная, и все же… Для него это был сюрприз, но он скрыл изумление. Неровен час, подумают, деланно удивляюсь – кто поверит, что газет не читаю? У Веры Аркадьевны собралось человек десять… и новые шли и шли… Это был настоящий фурор! Накануне отъезда в Тарту, Федоров сообщил Борису, что помещает в своем журнале его миниатюры, которые не решался опубликовать прежде, и фотографии, добавил, что с нетерпением будет ждать новый материал. Борис и это всем рассказал. Все всплеснули руками: будем с нетерпением ждать!
Ребров пробыл в Тарту три дня. Народ шел. Несли свои стихи, рисунки, фотоальбомы, точно хотели, чтоб он благословил. От стихов сразу началась головная боль; от акварелей заслезились глаза; фотоальбомы вызвали натуральную рабочую усталость и раздражение: они были набиты любительскими расплывшимися снимками («а это я» – перстом тычет в сизое пятнышко), из сорока один стоящий: человек с велосипедом в лесу возле пня, – хозяин альбома признается, что не знает, кто это такой, откуда взялась фотокарточка, но даже не сам человек удался, а блестящий велосипед и орешник с белками (как всегда, что-нибудь безымянное). Было много миниатюрных фотографий, величиной с марку (всюду экономят), – Ребров ненавидел такие заказы, он их делал сжав зубы (самое неприятное, что потом они просят их увеличить). Передавали из рук в руки – смотреть хотели все. Он путался. Фотографии мелькали. Редко встречались фотокарточки иностранного происхождения, они были ярче: более желтоватые – Берлин, более металлические – Париж, в рижских ателье портреты делали с избытком света, в котором растворялось всякое выражение, отчего в глазах появлялся испуг (Ребров ухмыльнулся: латыш, который недолго работал у Тидельманна, проделывал с клиентами тот же трюк – ослеплял лампами, а потом снимал, при этом он всегда улыбался, за глаза его звали Folterknecht [59]59
Мучитель (нем.).
[Закрыть]). Альбомы несли в ужасном количестве; гимназистка попросила экспромтом написать ей в альбомчик стишок; девушки за чаем тихонько пели; сестра Веры Аркадьевны связала шарфик – ему. Мелькнуло что-то знакомое. Ну-ка, ну-ка… Световой овал, наклон головы, дубовая ручка кресла, так и есть – в левом углу родной блинт Tidel. На второй день пришли два местных поэта и три писателя, которые давно печатались, и все их знали, только Ребров не знал. Писатели были много старше Реброва, им было порядочно за сорок, они выглядели весьма внушительно: седые бороды, густые шапки волос, суровые черты. Один приехал аж из Обозерья, про другого говорили, что он не вылезает со своего хутора никогда, а тут – такое событие… он был чуть ли не в прадедовском камзоле! Поэты на их фоне выглядели слегка инфантильными; Борису показалось, что они даже говорили стихами. Писатели величественно сидели, пили чай и на Реброва посматривали. Поэты все время вскакивали, ходили, щебетали с девушками. Борис смущался. Озирался. У него кружилась голова. Писатели говорили узловато, Реброву в каждой фразе чудились скрытые смыслы. Вокруг него разбрасывали сети из имен, названий разных обществ и кружков: Кайгородов, Обольянинова-Криммер, «Черная роза», «Среда»…
– Да, знаю, – отвечал осторожно кунстник, – посещал. Но ведь это все Куинджи. Это не мое.
– А советские художники вам нравятся?
– Филонов.
– А с кем из ревельских художников вы знакомы лично?
– Мсье Леонард, парижский дагеротипист, сейчас проживает в Ревеле. Арво Пылва, покойный.
– А бывали на выставках Ars’a?
– Бывал, но… выставка Добужинского произвела самое сильное впечатление, да, пожалуй, что самое сильное…
– А как вам картины Андрея Егорова?
– Очень нравятся. Кстати, Арво Пылва и Егоров дружили, рядом продавали картины на рынке, я часто их видел вместе.
– Вот как! Расскажите!
И он рассказывал, хотя не был уверен, что человек, которого видел со стариком на рынке, был тот самый глухонемой художник, которого ему показали несколько позже… Но какая разница?
Они расспрашивали о ревельских журналах и личностях, Ребров робко произнес несколько слов о Стропилине. Они пили чай и сопели; художнику стало неловко, он поторопился уйти, сказав, что, собственно, приехал не за тем… а навестить Тимофея и Ивана Каблукова, с которым приключилось несчастье: выбило глаз. Быстро собрались, поехали с Тимофеем в больницу.
Странности, о которых писала Вера Аркадьевна, проявили себя не сразу; всю дорогу Тимофей читал ему свои стихи, художник почти не слушал – он перебирал в уме сказанное, и все представлялись ему эти писатели с поэтами, как они сидят и на него смотрят, он думал о том, какое произвел на них впечатление, пытался увидеть себя их глазами, переживал, стихи Тимофея пролетали мимо, он рассеянно улыбался ему, выловил пару строк и повторил их, заметив – а вот это особенно хорошо – и довольно с него, он много болтает… Да, Тимофей стосковался по художнику, он его ждал, а когда тот приехал, сильно ревновал ко всем: Тимофею казалось, что художник его не замечает, со всеми говорит, а ему так, полслова, и все, поэтому теперь, в цвайшпеннере [60]60
Двуколка.
[Закрыть], рассказывал все, что уже описал в письмах, и сверху того говорил, что был в Риге и Вильнюсе от гимназии, но теперь, когда такое случилось, гимназию надо бросать. Это поразило Бориса, он заметил, что сказав это, Тимофей посерьезнел, напрягся, как перед прыжком или дракой.
– Как это бросать? – спросил Ребров и подумал: а какое мне дело? Я ему кто? Отец, брат, дядька?
– Подъезжаем, – сказал Тимофей. – Вот и больница. – Посмотрел на Реброва чужим взглядом и добавил: – Если бы я не повел Ивана на площадь, был бы у него глаз теперь.
Ребров с ужасом понял, что тот даже в голосе изменился, заговорил, как Иван Каблуков, с той же интонацией, так же злобно выдавливал из себя слова, будто ненавидя их. Только что он был собой, читал стихи, рассказывал школьные анекдоты и вдруг – за несколько секунд – стал совершенно другим, каблуковским волчонком!
– Я виноват в том, что с ним произошло, и должен эту вину искупить!
Тимофей достал из кармана черную повязку, нацепил ее на глаз и так пошел на встречу с Иваном.
На следующий день в книжном Борис случайно встретил Милу За-секину:
– Вера Аркадьевна мне звонила, но я не смогла прийти. Очень жаль! Как рада, что я вас встретила! У мужа гости, они выпивают, курят, обсуждают дела… к нам пригласить, увы, не могу! Но это хорошо: дела – это хорошо. Поначалу совсем не знали, как жить. В Коппеле в таком доме жили, просто ужас, все там болели, туберкулез ходил, сифилис, я в бухгалтерии, потом машинисткой, у нас дочь была, слышали, наверное…
Ребров притворно погрустнел, пробормотал соболезнования. Сказал, что знает, бывал у Гончаровой. Мила говорила быстро и как-то неряшливо, некоторые слова не договаривала и все время улыбалась, снова и снова бросала на него взгляды.
Ей, наверное, за тридцать пять уже, думал Ребров, твердо встречая эти взгляды. Она смеялась, рассказывала смешные случаи «из нашей убогой провинциальной жизни».
Развращена до крайности и даже пошловата… Что становится с женщинами в провинции… В данном случае это хорошо…
Как крепко сидит грудь! Талия и губы…
Зашли в кафе.
– Я Вере Аркадьевне еще тогда сказала, что знаю вас по Ревелю, что вы – такой талантливый художник, такой интересный мужчина! Наконец-то все оценили! – Ребров притворно засмущался, но сам жадно глотал ее вздор, присматриваясь к морщинам у глаз: Не красится… тридцать пять или сорок, какая разница… даже если сорок… такой рот, такие глаза… О! Вот это-то и взводит! Сорок! В ее тело впечаталась похоть… С нею можно многое, чего ни с Трюде, ни с другими не станешь даже пробовать… Все мужчины, что прошли через нее, оставили в ней отпечаток своей похоти… Они вылепили из нее настоящую сучку…
– …так она мне чуть ли не первой позвонила: ваш художник из Ревеля приехал! Сказала: приходите к нам на чай! На чай я не смогла…
– Ну вот, кофе пьем, – сказал Ребров.
Мила улыбнулась, посмотрела на него томно и, хищно понизив голос, проворковала:
– Жизнь у нас тут, Борис, серая. Одни дожди… Одна тоска… Видите, даже такая маленькая вещь, как ваш приезд, для всех нас – событие! Я на чай не смогла прийти, а теперь у меня весь вечер свободный… Вы где остановились? В гостинице или у Веры Аркадьевны?
– В букинистическом у Веры Аркадьевны…
– Какой ужас! В этом чулане! Как вы там живете? Идемте, немедленно мне покажете, это, должно быть, ужасно, и надо непременно что-нибудь предпринять!
Вечерело. Они пробрались в букинистический. Он со спичкой в руке провел ее, обжег пальцы. Нащупал свечи… Зажег.
– Вот так, – развел руками: на столе стакан, в стакане – пусто; свеча в блюдечке на окошке с паутиной. Мила вздохнула, сказала, что, к сожалению, не может его пригласить к себе:
– Мда… Ну и ну! Ну и Вера Аркадьевна! Так же нельзя!
– Ничего, ничего, – говорил художник, чувствуя, как ее духи кружат ему голову, наполняют комнату какими-то другими оттенками. Он смотрел на нее. Мила расстегивала пальто. Шорох ее одежды возбуждал. Он даже слышал ее дыхание. Наверное, сознательно так громко дышит… или тоже возбуждена… Да… возбуждена…
– Эх, выпить бы сейчас! – воскликнула неожиданно Засекина и засмеялась. Ребров развел руками. Она достала из несессера маленькую металлическую фляжку, потрясла ею в воздухе, фляжка блеснула.
– Есть во что налить? А, к черту! – Открутила крышку и, запрокинув голову (шея, ключицы, родинка), сделала глоток, поднесла кружевной рукав левой руки к губам и, зажмурившись, издала горлом звук томления. Протянула фляжку ему. Он быстро отпил. Поймал пальто… Жест: бросьте куда-нибудь… Бросил на топчан. Она отвернулась от него, сдернув с плеч тонкий платок.








