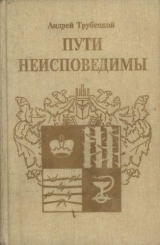
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
Иногда я заходил в зону. Все меня поздравляли, все спрашивали. А один старый режимник-полублатной выразился так: «Андрей, говорят, к тебе баба приехала?» Объяснять, что к Еленке это слово никак не подходит (хотя он имел в виду именно, жену), я не стал и подтвердил, что, да, приехала.
Еленка рассказывала о родственниках и знакомых. От нее узнал о болезни дяди Коли Бобринского, узнал и о женитьбе брата Владимира на Ольге Несмеяновой, дочери А. Н. Несмеянова, с которым мы когда-то познакомились в Лупино. Тогда он был ректором МГУ, а теперь стал президентом Академии Наук. Еленка рассказывала и о том, как заходила к нему (встречу устроила сестра А. Н. Татьяна Николаевна Несмеянова). Александр Николаевич внимательно выслушал Еленку и попросил составить бумагу о пересмотре моего дела, которую он подпишет.
В семейном архиве сохранился следующий документ:
«Генеральному прокурору СССР Роману Андреевичу Руденко
7 декабря 1954 г.
Прошу ускорить пересмотр дела №13/4933-49 Андрея Владимировича Трубецкого, рожд.1920 г., арестованного в Москве в 1949 г. и осужденного ОСО по статье 58.П.16 сроком на десять лет.
Неоднократно он сам, а также его родственники подавали прошения о пересмотре его дела. Прокуратура СССР еще в марте 1953 г. сообщила, что дело пересматривается. Однако до сих пор никакого решения по пересмотру не принято.
А. В. Трубецкой – внук профессора Московского Университета избранного ректором в 1905 г.
А. В. Трубецкой, будучи студентом биологического факультета МГУ, в течение 1946-1949 гг., проявлял большие способности к научной работе.
Насколько я знаком с обстоятельствами дела, у меня составилось впечатление, что приговор ОСО совершенно не обоснован».
Этот текст был подписан А. Н. Несмеяновым и посланная бумага несомненно сократила время моего пребывания в лагере.
8 то время в лазарете «на излечении» находился латыш-портной. Я принес ему погладить Еленкино платье. Как он умилялся, как отгладил! Портной этот (одновременно и писарь хирургического отделения) шил костюмы Векманису и сшил мне из самой что ни на есть дешевой ткани, которая и рядом с шерстью не лежала, сшил, конечно, вручную – и я собирался на свободу.
Еленка привезла с собой журнал «Советская женщина», тот самый номер, где она снята (кстати, в упомянутом платье) на большой цветной фотографии, склоненная над макетом здания: «Молодой архитектор Е. В. Трубецкая восстанавливает разрушенный войной Орел». Журнал я показывал в лазарете. Попал он и в руки вольным. Медсестра показала его хирургу Бондаревой. Реакция ее любопытна: «Нет, это не жена. Я ее видела на вахте. Это совсем другая женщина». У нее не могло уложиться в голове, как это жена з/к по «58» статье может быть на страницах «Советской женщины».
Приятель-фотограф снял нас у стены недостроенного дома возле вахты. На стене хорошо видны те самые камни песчаника, которые мы добывали на карьерах. Жена привезла с собой фотоаппарат, и можно было сделать ох какие жанровые снимки развода, конвойных и прочего. Но я боялся за Еленку. А сейчас задним числом жалею, что струсил. Еленка только сняла меня в дверях нашей комнаты.
Однажды мы были разбужены звуками оркестра. Дело было на рассвете, и мы высунулись в дверь. У вахты играл оркестр, а в открытые ворота в полутьме при едва разгорающейся заре, проходили пятерками безмолвные, как тени, понурые заключенные – ночная смена с шахты, перевыполнившая план.
Таких не шмонали, и конвой, расступившись, только просчитывал, пропуская с ходу в зону. Еще картинка, удивившая мою жену. Прогуливаясь у ворот – сто метров вправо и сто метров влево – мы увидели, как подъехал «воронок», и к нему с вахты вышло человек десять заключенных с вещами. Конвой, вылезший из «воронка», стал принимать их по всем правилам – поименно, статья, срок и т.п. Затем их посадили в «воронок» и увезли. «Что это такое? Куда их?» – спросила Еленка. «На свободу, у них срок кончился». – «Как на свободу? Почему под конвоем?» – «А их по этапу отправляют на поселение, где они живут без паспорта и каждые две недели ходят отмечаться. Отсюда только так освобождают».
В помещении для свиданий у другой вахты, на третьем лагпункте поселился Вадим Попов. К нему приехали престарелые родители, милые, симпатичные люди. Иногда Вадим приносил нам что-нибудь вкусненькое со своего стола. Уже к концу свидания к нам в комнату поселили украинскую пару. Комнату перегородили одеялом.
Но вот и кончились две недели, промчались, как один день. На свидание давали обычно три, максимум пять дней. А у нас получилось столько благодаря счастливой случайности: заболел начальник лаготделения, какой-то пустяк, но понадобился хирург. Операция прошла вполне благополучно, а Векманис (спасибо ему!) попросил начальника продлить мне, своему помощнику, свидание. После операции начальнику надо было пробыть несколько дней в лазарете и отказать в просьбе лечащего врача он не мог. Через несколько дней Векманис повторил просьбу.
Настало время расставаться. На прощание Еленка купила мне трехлитровую банку сгущенного молока, белого хлеба. Момент расставания почему-то не сохранился в памяти. На прощанье я подарил Еленке деревянную шкатулку, инкрустированную кусочками разного дерева, соломкой, сделанную на заказ лагерным умельцем. На плашке карельской березы дата нашей свадьбы и вензель (шкатулка эта до сих пор хранится дома). Расставались мы без особой грусти. Чувствовалось, что старая лагерная система ломается. Но долго ли еще ждать?
Сгущенное молоко и белый хлеб разделил всем хирургическим больным – не сосать же банку одному! [45] 45
Много лет спустя меня больно ударила лживая и грязно смакующая публикация Мирона Этлиса о нашем свидании, напечатанная в первом номере альманаха «На севере дальнем» за 1987 год (она включена в мемуары А.Санддера «Узелки на память»). Я написал письмо в редакцию с просьбой его опубликовать. Свое письмо послал и возмущенный В.П.Эфроимсон, которого я познакомил с этими гнусными «воспоминаниями» Этлиса. Редакция публиковать почему-то не захотела, а Этлис прислал извинение, сославшись на ...«аберрацию памяти» и обещав опубликовать опровержение своих же воспоминаний, добавив в конце: «Теперь, имея Ваш адрес, я смогу прислать Вам то, что предполагаю как публичное извинение». Но вот минуло уже несколько лет, а знаков этого извинения не видно.
[Закрыть]
В те времена свидания давались широко. Оно было и у моего знакомого киевлянина Николая Кабачека. Мне удалось их навестить, и я просил жену Николая заехать в Москву к моим. Потом мне рассказали ее впечатления обо мне: «Пришел длинный, тонкий парень в штанах небесного цвета с цветочками и в белой шапочке». Дело в том, что медики в зоне всегда носили такие шапочки, символ особого положения, охранная грамота. А вот штаны... Нам выдавали бязь на портянки. Из четырех пар таких портянок мне сшили штаны, и я покрасил их метиленовой синькой – химическим реактивом – за неимением настоящей краски. В швах она легла плохо – отсюда «цветочки».
После отъезда Еленки опять потянулись дни лазаретно-лагерной жизни. Я смутно представлял свое будущее: фельдшер без диплома где-нибудь в захолустье – это лучшее, что могло быть. А вдруг разрешат жить в таком большом городе, как Караганда? Я знал, что там работает В. В. Оппель, там осел С. М. Мусатов. Мечты, мечты, а иногда находила жуткая тоска. Сколько еще ждать? В минуты горестных дум время останавливалось. А если не такой город, как Караганда, а какой-нибудь кишлак? Что там делать Еленке? А тем временем людей из лагеря понемногу, очень туго, но освобождали досрочно по пересмотру дела, освобождали «вчистую», то есть не на высылку. Мною было подано еще одно прошение о пересмотре дела, а время шло.
В хирургическом отделении появился новый хирург Титаренко, человек малоприятный. Вот мелкий эпизод, его характеризующий. В нашем отделении был санитар латыш («больной»), существо смирное, исполнительное, очень ценившее легкую жизнь в больнице по сравнению.с шахтой. Титаренко в присутствии начальника санчасти стал прикрикивать на латыша, понукать, показывая свое служебное рвение. Выглядело это омерзительно. По уходе начальника я высказал Титаренко свое мнение и пригрозил, что, если он так будет себя вести, ему не сдобровать, намекая на свои лагпунктовские связи. Подействовало, и больше не повторялось. Любопытно, что впоследствии Титаренко относился ко мне совсем неплохо – тоже характерная черта.
А вот еще один больной-санитар. Немец с литовской фамилией, ни слова не знавший по-литовски, бывший эсэсовец. После войны стал работать корреспондентом западно-германской газеты и был ею командирован (только ли газетой?) на полузакрытое заседание компартии в восточной Германии под видом литовского корреспондента – отсюда и литовская фамилия. Он ходил на заседания, писал репортажи, но был арестован. Была попытка бежать во время следствия – он оглушил следователя, переоделся в его одежду, но у ворот тюрьмы был схвачен и получил 25 лет. Что потом с ним стало – не знаю. Бесперспективность его положения подчеркивалась тем, что даже японцы стали получать посылки из Японии, а им не интересовался никто.
Прошла осень, наступила зима, новый, 1955 год. Встречали его в компании врачей. На стол выставили самое вкусное, что у кого было, и разбавленный спирт. Новый год встречал с нами Тенгиз Залдастанишвили, попавший в лазарет с прободением язвы желудка. Встреча прошла с подъемом, у всех было настоящее праздничное настроение, предчувствие перемен к лучшему.
Глава 10. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Пошел январь 1955 года. По субботам с утра в лазарете устраивались маленькие конференции, на которых врачи делали доклады на медицинские темы. Происходило это в помещении терапевтического отделения. Я всегда старался бывать на них. В ту памятную субботу 29 января, выходя из хирургического отделения, я столкнулся в дверях с санитаром, несшим с кухни два ведра кипятка, сильно парившего на морозе. Вот, подумал я, примета – два полных ведра, да еще кипятка! Пропустив санитара в дверь, я пошел на конференцию. Обычно она продолжалась час, полтора. Уже к концу ее дверь в комнату, где мы сидели, приоткрылась, в щель просунулась голова старшего санитара Альберта. Он обвел всех глазами и как-то многозначительно посмотрел на меня – так, по крайней мере, мне показалось. Затем вдвинулся в комнату и что-то шепнул начальнице. Она ответила: «Мы сейчас кончаем».
Когда я вышел, тот же Альберт, ждавший меня у дверей, сказал: «Андрей, тебе, вроде, освобождение пришло. Тебя офицер ждет», – и повел в комнату рядом. Сидевший там лейтенант спросил обычное в разговорах с заключенными: статья, срок, прочее, а потом зачитал бумажку, что дело мое пересмотрено, срок снижен до фактически отбытого, и я освобождаюсь. Все это было написано на каком-то клочке, не то промокашке, не то обложке школьной тетради – бумажка не была белой. Я попросил дать прочитать мне этот «документ». «Потом, в отделении, у меня его с собой нет». – «Когда мне освобождаться?» – «Сдавай все, что положено, и являйся в спецчасть, в отделение». На том мы и расстались.
Я сейчас же пошел к начальнице. Сдержанно улыбнувшись, она сказала какие-то чуть теплые слова. «Кому передавать все хирургическое имущество?» – «Кому? Наверное, Залдастанишвили, хотя он недавно после операции».
И тут все завертелось. Все меня поздравляли, желали вернуться домой, именно домой, а не на поселение. Надо через бесконвойных дать телеграмму Еленке. О состоянии моей жены в эти дни можно судить по ее сохранившемуся письму к тете Анночке (А. С. Голицыной): «Дорогая моя бабушка! За вчерашний день и сегодня получила пять поздравительных телеграмм. Каждая из них врезалась в гимн нашей радости. Хожу эти два дня и ничего не могу делать, хотя у меня срочная работа. Замечательная реакция на это событие моих сотрудников: весть разлетелась по комнатам мгновенно. Сколько искреннего участия и радости было у всех в глазах. Некоторые женщины молча пожимали мне руки и плакали. Этого я уж никак не ожидала при всем идеальном их отношении ко мне на протяжении всех лет. Я думала, они ничего не знают, а они знали.
Приеду в первой половине февраля. А я боюсь уезжать: вдруг будет от Андрея «приезжай» или «встречай». На почту бегаю два раза в день. Наверное, Ал. Ник. [46] 46
А.Н.Несмеянов
[Закрыть]это сделал.
Боюсь думать о чем-либо, касающегося нашего ближайшего будущего, но если можно, мы приедем в Лупино. Отпуск мне могут дать ненадолго.
Сегодня утром проснулась и почувствовала во всей своей глубине, что Андрейка сегодня проснулся первый раз на свободе.
Сегодня на службе среди всяких пожеланий сказала одна тетенька: «А все-таки Бог есть. Правда-то выявилась».
А у меня масса дел: сдать все имущество по акту Тенгизу, оформить все документы в бухгалтерии лагпункта, а уже половина субботы пролетела. Во всех трех лагпунктах по радио прозвучала моя фамилия – такой был заведен порядок сообщать фамилии освобождающихся. Тенгиз не был формален. Да и кто в таких обстоятельствах стал бы пересчитывать что есть, чего не достает.
Я был настолько занят, так спешил поскорее со всем разделаться, чтобы вырваться отсюда, что как-то и не ощутил всего совершившегося. Но внутри все ликовало. Воскресный день 30 января тянулся очень долго. Я ходил по знакомым прощаться, паковал вещи, которых оказалось довольно много, особенно книг. Часть из них я раздарил. Вечером собрались за столом. За несколько дней до этих событий мне купили за зоной новую шапку-ушанку. Тот же Титаренко шутил, что, если б эту шапку продавал частник, то сделал бы рекламу: «В моих шапках освобождаются!» (Эту шапку потом по очереди носили все мои сыновья, но с годами она делалась почему-то все меньше и меньше и вышла из употребления.)
В понедельник меня сфотографировал наш лагерный фотограф прямо во дворе у стенки барака «на документ». В бухгалтерии все оформили и сказали: «Жди, позовут». Это было самое томительное. Наконец позвали. Попрощался со всеми больными, всем пожелал счастливо выбраться на волю, попрощался с обслуживающим персоналом и пошел на вахту в сопровождении Владимира Павловича, Тенгиза и еще кого-то. Был вечер. Темно. У вахты стояли три человека, таких же, как и я, на освобождение. Последние рукопожатия, и я, окрыленный, и они, остающиеся, какие-то подавленные, разошлись.
Прошли через вахту, вынесли вещи наружу и снова вернулись в коридорчик, чтобы расписаться – в чем – я так и не разобрался. Заняло это совсем мало времени, а когда вышли к вещам, то они оказались полузанесенными поземкой. Подхватив мешки и чемоданы, двинулись в темень от сверкающей огнями по стенам проклятой зоны. Я оглянулся – метель тут же заметала следы. «Хорошо», – подумал я. Кто-то из нас со смехом вынул из кармана ложку, разломил ее на колене и бросил назад.
Так, опять круто, который раз в жизни, началась для меня новая полоса.
Нам велено было идти в Старую зону, там переночевать у бесконвойников, а утром явиться в спецчасть отделения за назначением. Пришли в общежитие. Среди бесконвойников оказался знакомый фельдшер, личность малоприятная. Ну, да Аллах с ним! Посидел я, посидел, да и подумал: «Чего я буду тут околачиваться? Пойду-ка ночевать к Пецольду». Оставил вещи и тронулся. Ох, как было странно идти куда хочешь, идти по своей воле в поселке, заглядывать в окна за занавески, где текла такая далекая и милая своя жизнь, прислушиваться к разговорам встречных. Быстро нашел нужный дом, квартиру. Стучусь. «Кто там?» – «Макс Георгиевич дома?» – «Нет, дежурит». Но дверь открывают. Называюсь. «А я так и подумала, заходите». И пошли тут разговоры, расспросы. Сами предложили ночевать. Это была лагерная жена Пепольда. С ней ее мать-старушка. Дом – полная чаша.
Утром, не дождавшись Пецольда, пошел в спецчасть. Стучусь в нужную дверь. За деревянной стойкой, в глубине комнатушки – старший сержант. Я его немного знаю – когда-то лечил карбункул. Еще раз зачитывает решение о сокращении срока до фактически отбытого. Спрашиваю, чье это решение. Темнит: «Не все ли тебе равно. Освобождают, и все тут». (Вспомнилось, как на Лубянке зачитали бумажку, дали расписаться на обороте, так и не показав лицевой стороны.) «Куда освобождаюсь?» – «А куда повезут». – «А, может быть, можно похлопотать, чтоб самому ехать, куда хочу?» – «Ну, что ж, время терпит. Поезжай в Управление к новому начальнику лагеря, попробуй, а я пока подожду оформлять тебя». На том и расстались – благодетельный сержант! Иду назад. «Да, освобождают, но освобождают хитро: дождались, чтоб минуло 5 лет и 5 с половиной месяцев, и тогда освобождают. Если бы на полгода раньше, тогда подпал бы под амнистию, и кати на все четыре стороны. А тут нет, повезут по этапу. Надо сделать все, чтобы вырвать большее, лучшее!»
Зашел в Старую зону и у знакомого кладовщика (придурки все знакомы) попросил тулуп, чтобы не мерзнуть, добираясь до Управления в Кенгире на открытой машине. Зашел к Пецольду, обнялись, рассказал о своем положении и двинулся.
Кенгир – городок, больший, чем Джезказган, и более благоустроенный. Управление «Степлагом» и рядом лагерь были немного в стороне от города. Долго ждал в приемной у начальника, да так и не дождался приема. От скуки ходил по коридору, читал стенгазету. Одна заметка, вернее, не заметка, а обращение-вопрос к такому-то товарищу, была любопытной: до каких пор он будет пользоваться пошивочной мастерской в личных целях? Пошел к начальнику спецчасти подполковнику Щетинину. Отвечает, что мой вопрос может решить только САМ. День кончался, и я уехал, чтобы назавтра снова добиваться приема. На другой день все то же. В коридоре встретил двух работяг под конвоем, которые что-то чинили. Один из них оказался знакомым по режимке. Он рассказывал, что в доме свиданий сейчас живет с женой испанец-хирург Фустер. В обеденный перерыв пошел к ним, хотя Фустера лично не знал, пошел как к коллеге.
Встретили меня хорошо, угощали и интересно рассказывали. Их история, особенно «жены», любопытна и довольно характерна. Она получила срок за то, что во время войны вышла замуж за американского (или английского – уж не помню) офицера. Офицер требовал, чтобы ей разрешили уехать с ним, но из этого ничего не вышло. Во время войны дело тянули, а после войны – посадили. В таком положении оказались несколько пар – дело было в Мурманске или Архангельске. В Кенгирском лагере эта дамочка, смазливенькая и веселенькая, сошлась с Фустером. Но вот ее повезли в Москву и предложили: или свободу и официальный отказ от мужа-иностранца, или обратно в лагерь. А она и заяви (так она сама рассказывала): «С иностранцем я разведусь и ему откажу, но при условии, что вы освободите моего мужа Фустера». Это ей обещали и тут же выдали чистый паспорт, взяв соответствующую расписку о разводе. Потом был бракоразводный суд. Точно так же поступили еще с несколькими несчастными женами иностранных офицеров. Она же рассказывала, что одна из жен не согласилась разводиться, и ее в конце концов отпустили за границу. (Мне вспоминается судьба Зои Федоровой, нашей довоенной кинозвезды, вышедшей замуж за американского офицера. В тюрьме у нее родилась дочь, которой спустя много лет разрешили уехать к отцу. А сама Зоя была застрелена в своей квартире в Москве при очень странных обстоятельствах.)
О деле этих жен написала одна из наших центральных газет: вот, де, наглые иностранцы и стойкие наши патриотки. Фустер и его «жена» блаженствовали, имея радужные перспективы. Спустя года два или три до меня дошли слухи, что Фустер работает врачем в Подмосковье. Но вернусь к своим делам.
К вечеру я все же попал на прием к начальнику Степлага. Вместо Чечева теперь им был полковник по фамилии Бурдюк, сравнительно молодой еще человек (Чечева не то сняли, не то перевели на другую работу; заключенные предполагали, что это было вызвано восстанием и резней. Был слух, что против резни возражал наш гебист – майор Орлов. Но это могли распространять его люди, а может быть, он, действительно, был против – судить не берусь.)
Бурдюк был деловит, без тени презрения, отчужденности, не старался подчеркнуть мое ничтожество или хотя бы назойливость. Сказал, что в понедельник будет в первом лаготделении, посмотрит мое дело, со слов ничего не может сказать и примет решение. Я вышел. В приемной сидела молодая дама в хорошем добротном пальто и девочка лет четырех, одетая в белую меховую шубку. Вокруг лебезили и заигрывали с ребенком чины. Дама явно была женой Бурдюка.
Дело затягивалось. В понедельник будет неделя, что я на свободе. От нечего делать колол Пецольдам дрова, ходил на колонку за водой, которую здесь давали по талонам. Был в гостях у старого нашего режимника, большого друга Миши Кудинова Леньки Чабанова, очень симпатичного, выдержанного и деликатного человека. Эти качества были у него прирожденными, а сам он был малограмотным. После освобождения к нему приехала семья, и Чабановы жили в бараке рядом со Старой зоной. Помню, как в первые дни лагерного пребывания я наблюдал этот барак через проволоку.
В поселке встретил помпобыта Андрея. Его освободили много раньше, и жил он в каком-то общежитии с местной телеграфисткой. Теперь ему удалось выхлопотать разрешение жить на родине в Узбекистане, куда он и уезжал. «Андрей, вот тебе жена готовая», – говорил он при встрече. Видно, телеграфистке тоже был нужен муж именно здесь, и она была не против сменить одного Андрея на другого.
В понедельник утром я пошел в отделение в надежде увидать полковника. Захотелось пройти мимо карьера, где в 1951 году мы виделись с Еленкой. Для этого надо было сделать небольшой крюк. Размечтался и не спеша пришел в отделение. «А где начальник? Мое дело спрашивал?» – «Нет». – «И ничего не сказал?» – «О тебе – нет». Ну и ну! Прогулял! Ох, как я себя ругал. Рассказываю сержанту все свои разговоры. Говорит: «Ну, ладно, поезжай еще, да торопись. А то уж и так долго тянешь. Надо тебя оформлять».
Опять еду в Кенгир. Опять приемная. В перерыве ходил обедать в офицерскую столовую (Фустеры разъехались – она в Москву выхлопатывать свободу мужу, он—в лагерь). В столовой майоры, подполковники, капитаны и я среди них «белой вороной» в своем черном лагерном одеянии. Косятся, но ничего не выказывают, едим за одним столом, едим жирно, много и вкусно. Да, времена изменились сильно – многих реабилитируют – такие же советские люди, только зря претерпели. Попробуй, цыкни на такого! Да еще новый начальник лагеря ведет себя не так, как прежний. Беды не оберешься!
Наконец вхожу в кабинет. «Ничего не могу поделать. У меня нет таких полномочий, чтобы что-нибудь изменить». В душе все так и опустилось, и тут же мысль – да ведь он и дело-то мое не видел! А полковник продолжает: «Но вот завтра здесь начинает работать московская комиссия по пересмотру дел. Обратитесь туда». – «Но мое дело в первом лаготделении, а комиссия здесь?»
– «Обратитесь к подполковнику Щетинину, пусть пришлет дело». Благодарю и иду к Щетинину. Объясняю, прошу, говорю, что для меня это жизненный вопрос. Обещает, и я уезжаю.
Рассказываю обо всем Пецольду, и возникает мысль ехать нам вместе, и ему просить разрешение на выезд из Джезказгана. Поехали. Долго ждали. Первым вошел Макс Георгиевич. Вскоре он вышел, а я вошел. Большая комната завалена папками. Среди них два майора, обутые в белые бурки, оба плотные, немногословные. Подаю написанное заявление, где все сказано. Пытаюсь сказать и на словах. Обрывают: «Здесь все написано?» – «Да». – «Решение вам скажут в спецчасти отделения». – «Какое оно?» – «Вам скажут, понятно?»
Ухожу не успокоенный, так и не поняв, чего можно от них ждать. Пепольд совсем расстроен. Его и слушать не стали, узнав, что он не из лагеря, а ссыльный и числится за комендатурой. Это не их дело. Грустно двигаемся домой. Эпизод при посадке на машину усугубляет подавленное настроение. В кабине рядом с шофером офицер в полуштатском. Машина стоит – кого-то или что-то ждут. Офицер от нечего делать вылезает из кабины, оглядывается лениво по сторонам, потом вынимает пистолет и стреляет в собаку, пробегавшую по своим делам по противоположной стороне улицы. Попадает, но не наповал. Собака припадает на задние лапы, волочит зад и страшно визжит, а офицер спокойно садится в машину: «Ну, поехали». В кузове нас несколько человек. Едем молча.
На другой день с тревогой в душе иду в спецчасть. И здесь все напряжение этих дней, борьба, волнения и неизвестность – все разряжается. «Ну, куда поедешь?» – спрашивает сержант. – «В Орел, к жене». – «Орел? Это какой области?» – «Орловской». Берет пухлую обтрепанную книгу, начинает листать. «В Орел нельзя. Областной город», – говори какой-нибудь другой». Мучительно думаю. Не знаю ни одного города, а ведь надо поближе к Орлу. Вспоминаю «Леди Макбет Мценского уезда». Говорю: «Давай тогда Мценск».
– «Ну, Мценск можно». Заполняет какие-то бланки, что-то где-то пишет. В соседней комнате дают справку, что я пять лет работал «лоборантом». Хочу получить деньги или облигации – нас уже успели подписать на «Заем индустриализации». Выясняется, что подписать подписали, а деньги еще не сняли.
Выдают отобранные медали «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и медали, принадлежавшие Бобринским, которые изъяли-при обыске у них. Среди них одна «За работу по освобождению крестьян 1862 года». Спрашиваю про орден «Славы». Объясняют, что, чтобы его получить, нужно постановление Президиума Верховного Совета.
Выдали справку об освобождении, проездные документы и предлагают зайти на первый лагпункт за пайком на дорогу.
С трепетом вошел в зону, куда ровно пять лет назад, день в день впервые вступил. Время было рабочее. Никого из знакомых не видел, а задерживаться и искать еще кого-то уж так не хотелось! Получил хлеб, селедки, сахар и вон!
А вечером грустный Пецольд проводил меня к поезду. Он отходил от 31 шахты в Кенгир, где надо пересаживаться на карагандинский. Посидели, помолчали, обнялись, и он сошел вниз, а поезд тронулся. Это было 11 февраля. Проплыли мимо огни и огоньки Джезказгана и исчезли в темени. Прощай!
В Кенгире я забрался в карагандинский поезд на третью полку и забылся. Ехали сутки. Выходил на залитые солнцем сверкающие снегом полустанки и думал о встрече со своими. Будущее представлялось радужным, но туманным. Уже было расписано, что остановлюсь на несколько дней у Мишки Голицына, который с семьей и мать-Еленой (моей тещей) жил под Карагандой, работая там по распределению после окончания геологического института. Михаил должен был встречать меня на станции. Так оно и вышло. Мы обнялись, расцеловались, и он подхватил мои вещи. Уже поздно ночью я попал в уютный дом в объятия мать-Елены и Тамары – Мишкиной жены. А через день двинулся дальше. В Караганде обитали В. В. Оппель и С. М. Мусатов, которых я очень хотел навестить. День прошел в разговорах, а вечером – на вокзал. И Оппель и Мусатов пошли провожать меня.
На вокзале у кассы толпа. Сообразил подойти к милиционеру. Показываю документы, и тот провел меня сквозь толпу к кассе, где я тут же получил билет. Оказывается, было распоряжение помогать освобождающимся быстрее уехать – опыт амнистии 1953 года, когда выпущенные уголовники терроризировали местное население. Билет мне попался в последний вагон. Провожавшие посидели в купе, где, кроме меня, обосновалась молодая пара с годовалым ребенком и девочкой пяти лет. Но вот мы распрощались, и поезд Караганда – Москва тронулся.
Спутники оказались на редкость симпатичными людьми, и за дорогу мы сдружились. Большое впечатление на них произвела интеллигентность провожатых, а на супругу еще и то, что костюм мой был сшит вручную, а не на машинке (портной латыш) – женский глаз это определил сразу.
Москва приближалась, и волнение мое нарастало. Планов никаких не строил, а просто переживал свою свободу, предвкушая встречу с Еленкой, новую жизнь. Какую – я совсем не представлял, а загадывать было трудно.
Но вот и Подмосковье. Поезд должен был придти в двенадцать часов ночи, но опаздывал на три часа. Меня должны были встречать, но будет ли кто? Ведь метро ночью не работает. Поезд остановился, и молодой глава семьи помчался компостировать билеты – им ехать в Донбас, а мы, не спеша, вместе с его женой, детьми, нагруженные до предела вещами, двинулись от последнего вагона. И тут я увидел Готьку, младшего брата, которому было теперь двадцать лет. Он как-то нерешительно двигался мне навстречу. Уже потом он говорил, что в первый момент растерялся – ждал брата из лагеря, а он идет с детьми, с какой-то женщиной, с вещами. Но тут мы кинулись друг к другу. Тут же появились Илларион Голицын, Коля Бобринский, Саша Истомин (дотоле мне незнакомый) и Машенька Веселовская. Объятия, поцелуи. С трудом втиснулись в такси и поехали в Новогиреево, где продолжала обитать семья Веселовских.
В доме всех подняли, переполошили.
Тетя Анночка очень трогательно меня перекрестила, сказав, что все время за меня молилась. Да, это так и было. Ночь коротали за разговорами, а утром – на Курский вокзал. Позвонил тете Машеньке Бобринской (потом она говорила, что голос у меня был, как у птицы, выпущенной на свободу). Меня провожали двоюродная сестра Соня Мейен, Клавдия, жена двоюродного брата Сергей Голицына и ее сын Гога. До сих пор Гогу не знал и подумал, что это особое выражение родственных чувств, но это было, по-видимому, больше любопытство.
И опять дорога, последняя, короткая, всего 6-8 часов. Теперь еду в первом вагоне. Перрон Орла. Уже в тамбуре через плечо кондуктора вижу бегущую рядом с поездом Еленку в шапке-ушанке завязками назад с букетиком в руке.
Наконец-то мы вместе!
Едем на такси, поднимаемся по лестнице того самого дома, куда я так часто писал (ул. Ленина, 37, кв.10), и у порога комнаты перешагиваем через коробку с тортом и бутылку шампанского. Это ее милые сослуживцы.
Начался наш третий медовый месяц... Мы были одни, никто нам не мешал, изредка мы получали напоминания, что существуют родные и близкие, что страшно рады за нас. На работе Еленке дали три дня отпуска, как на свадьбу. Все эти годы она ничего обо мне не говорила. А тут вдруг такое! Надо сказать, на работе ее и уважали, и любили.
Через несколько дней мы отправились в Мценск получать паспорт и прописываться. В паспортном столе капитан милиции спросил: «А почему Мценск?» Объясняю, что жена в Орле, а мне там нельзя. «Но ведь вы здесь жить не будете?» – «Не буду». – «Ну и поезжайте в Орел, там и паспорт получите, там и пропишитесь». – «Не пропишут». – «Пропишут». И, действительно, паспорт дали очень легко, хотя в домоуправлении предупредили, что с такой статьей не дадут. Но либеральные веяния спускались сверху. Прописка прошла тоже просто. Правда, начальница, толстая пожилая чиновница с каменным лицом, принимая у меня документы, в том числе, свидетельство о браке, с презрением проворчала: «Голицыны, Трубецкие, все здесь», – дескать, вот до чего дожили. Меня это развеселило, но в другое время я бы от нее поплакал. А вот при постановке на учет в военкомате, ой, как косо посмотрели на меня: из заключения да еще с такой статьей. Может быть, благодаря ей, военкомат никогда больше меня не беспокоил.
А через месяц я поехал в Москву восстанавливаться в университете. Восстановление произошло этой же весной 1955 года вопреки всем правилам. Первый визит к проректору Азарову был малообещающим – он не захотел даже со мной разговаривать, но после звонка А. Н. Несмеянова стал очень любезен, и все совершилось в один миг.








