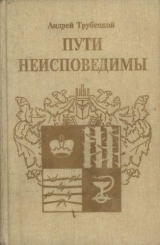
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
Бараки – большие складские помещения с полом из крупного булыжника и без потолков – на ночь запирались. В бараке полно народа, и днем под железной крышей даже при открытой двери жарища и духотища. Если ночью хочешь оправиться, то надо идти в подворотню. Но лучше этого не делать, так как в темноте на кого-нибудь наступишь, и тебя излупят. Народ весь новый, друг другу незнакомый, и отношения между людьми самые звериные. Были и маленькие, сплоченные группки. Но это не улучшало общих отношений. Поначалу я спал в середине барака, и ночью у меня стащили пилотку и ложку. Так и ел без ложки, благо супец был жидким. Затем я перебрался спать к стене, ближе к углу, справа от ворот. В самом углу обитал санитар со своим хозяйством – в бараке только раненые и больные. Санитар был центром обмена и ростовщичества барака, и медициной здесь не пахло.
Лежать на камнях было очень неудобно, так как лежал я только на одном боку. Я все искал наиболее удобное положение – на тазобедренном суставе появился пролежень. У соседа слева была противогазная сумка, и я попросил ее, чтобы принести песок со двора и как-то сравнять булыжники. «Натаскаешь мне, тогда дам», – согласился он, хотя был значительно здоровее и крепче, чем я. Потом отношения с ним несколько наладились, и он даже давал мне лезвие безопасной бритвы побриться. Лезвие это, хотя и было, судя по надписи на нем, английское, но от долгого употребления страшно тупое. Воды и мыла для бритья не было, вместо них – собственная слюна. Сосед справа лежал ко мне спиной. У него ранение было в голову, и вся повязка промокала так, что гной стекал на спину. Воняло изрядно, а я лежал к нему лицом. Были больные и кровавым поносом. Один из них часто выходил совершенно голый, шатаясь и чуть не падая. Потом его куда-то унесли, унесли так же голого и почему-то на железном листе.
Однажды ночью я проснулся от сильной боли в левом боку. Боль не давала дышать, каждый вдох страшно колол и, чем глубже он был, тем сильнее боль. Приходилось дышать очень поверхностно и часто. Но это было мучительно. Вероятно, был сильный жар: очень хотелось пить, весь рот был сухим, и было очень жарко. Все это происходило на фоне какого-то бреда: во мне, в голове или в носу – сидят два человека постарше и помоложе, как будто отец и сын. Они спорят и ссорятся между собой. При этом из носа у меня уже наяву течет, и это мешает дышать. Я хочу втянуть в себя или, наоборот, высморкаться, но и то и другое вызывает страшную боль. Когда мне удается все же это сделать – побеждает один из спорщиков, и все на время успокаивается. Чувствую, что брежу, что все время страшно ругаюсь, ругаюсь вслух, получается что-то вроде причитания, сплошь состоящего из ругательств. Прошу санитара, благо он близко, дать мне попить. Воды нет. И так всю ночь. Наутро я еле встал. Поднимался в несколько приемов, сначала на колени и так далее. С трудом вышел во двор, весь согнувшись на бок, который непрерывно болел. Аппетит исчез, в теле жар. Сколько времени я провел в этом состоянии не помню, но, кажется, не долго. На мое счастье барак начали рассортировывать. Отбирали тяжело раненных для эвакуации. Осмотр был поверхностным, повязок не снимали (за все время перевязок вообще не было). Отобрали и меня. Мне сделалось все безразличным. Отобранных погрузили в крытые повозки и куда-то повезли. Перед отправкой дали по куску хлеба, на который я теперь смотрел равнодушно. Вечером погрузились на платформы с высокими бортами. Где мы ехали, я не видел. Иногда только обращал внимание на верхушки сосен, проплывавших в темном ночном небе. Днем прибыли в Вильно. Долго стояли на станции. Началась разгрузка. Меня ссаживали и скрюченного вели под руки к машине. Как сквозь туман я видел толпу людей, стоявших в стороне, слышались их голоса. Потом смутно помню двор серого здания, коридор и душ. Перед душем стригли электрической машинкой (память и это отметила). Отметила она, как с головы текли грязные желтые струи. Особенно поразил? меня собственная худоба. В мозгу промелькнуло сравнение с фотографиями голодающих индусов: тонкие, как палочки, ноги с непривычно большими коленными суставами, такие же высохшие руки, живота нет, выпирают ребра. И вот тут сделалось ужасно жалко себя, жалко до слез... Потом в белом белье, с чьей-то помощью поднимался по широкой лестнице. Потом палата и кровать у окна. Помню, как женщина-врач выслушивала меня, лежащего на спине. Она припадала ухом к груди, ее густые волосы лезли в лицо и мешали дышать. Эта женщина, Александра Иосифовна Брюлева, впоследствии совершенно случайно сыграла особую роль в моей судьбе.
Глава 4. ГОСПИТАЛЬ В ВИЛЬНО
Так начался последний этап моего плена, более длительный, чем первые два – Гдов и Двинск. О первом у меня остались довольно смутные воспоминания. По-видимому, тут виновата травма и физическая, и психическая. Второй этап оставил яркую картину и был бы последним, если б судьба вовремя не вмешалась. Впечатление от лагеря в Двинске – страшная действительность ничем не прикрытой борьбы людей за существование и мерзость человеческая. Оба первых этапа заняли сравнительно немного времени, месяца полтора.
История госпиталя, куда я попал, была такова: с самого начала войны наши расположили в Вильно, в школьном здании, военный госпиталь. Он быстро наполнился и «перешел» вскоре к немцам, что называется, в полном составе. Я застал в нем еще тех людей, которые попали сюда до падения города. Обслуживали госпиталь преимущественно гражданские лица, местные жители, в основном, поляки. Были – очень немного – и военные врачи, такие же пленники теперь, как и их пациенты. Охрану несли литовцы, но после нескольких побегов раненых их сменили немцы.
Я лежал на третьем этаже в угловой классной комнате с доской и даже умывальником. Теперь в ней стояли четыре ряда коек. Первые дни у меня была высокая температура, дышал я с трудом и все время был в полубреду. Правда, мозг отмечал, что попал я в уже сжившуюся группу людей, достаточно хорошо знавших друг Друга, и отношения между ними были не такие, как в Двинске. В основном, это были люди из местного гарнизона, у некоторых в городе были жены или подруги. Был даже чемпион округа не то по боксу, не то по борьбе. Почти все получали передачи, были сыты, бодры и, я бы сказал, даже как-то веселы. Чистые койки, хорошие классные комнаты-палаты, все в белом белье, обслуживают доктора и сестры в белоснежных халатах, санитарки, нянечки. Все это никак не вязалось с представлением о плене и было разительным контрастом с бараком раненых в Двинске. В общем, это было совершенно не типичное, даже уникальное в своем роде учреждение. (Много позже, в 1943 году, я узнал, что вскоре после моего отбытия из госпиталя туда явился немецкий генерал, страшно разгневался, кричал, что в такой госпиталь надо приглашать комиссию Красного Креста из Женевы для подтверждения гуманного отношения к советским пленным, приказал отобрать матрацы, белье, койки, а затем весь госпиталь передали для раненых немцев. Позже там были власовцы.)
Итак, в тяжелом состоянии я лежал в этом госпитале. Через несколько дней санитар понес меня на руках в перевязочную, где посадил на стол, ноги на табуретку. Чем-то помазали спину. Подошел наш палатный доктор Довгирд, симпатичный, хорошо знавший свое дело поляк, и сказал: «Потерпите немного». Я почувствовал резкую боль в боку, а через некоторое время Довгирд пронес мимо меня большой шприц полный мутноватой жидкости. Мне сказали, что у меня мокрый плеврит, возникший на почве ранения, и что сейчас отсасывали жидкость. Так же на руках санитара я попал в палату, и сразу почувствовал себя лучше. «Пила» на температурном листке резко уменьшилась (в ногах каждой койки висел такой листок, который заполнялся утром и вечером). Через несколько дней температура вновь стала скакать, и процедура выкачивания жидкости повторилась. Но и после этого температура держалась высокой примерно с месяц, мне стали делать вливания хлористого кальция, и я с удивлением переживал разливающийся при этом по всему телу жар.
Ходить я не мог, говорить было очень трудно, так что я лежал молча. Раны на спине заживали медленно, аппетита не было. Жизнь в палате шла своим чередом: выздоравливающих выписывали в лагерь, а на их место поступали новички. Правда, смена людей шла медленно, было много тяжело раненных.
Поднимались мы в семь утра, мылись. Мой сосед слева Петр Прилепин, матрос с подводной лодки, попавший в плен в сухопутном бою под Ленинградом – он был тяжело ранен в ногу – приносил воды, и я умывался. Потом завтрак – чай с хлебом, обход врача, перевязки, обед – капустный суп и на второе конина. Вечером опять чай с хлебом. Заварка для чая – смесь каких-то трав, где преобладала мята. По-польски чай – хербата. Поэтому чаепитие мы называли «гонять горбатого». Чай, конечно, не сладкий, но вволю. Хлеба мы получали по 350 граммов и был он очень хороший, не то, что в Двинске – круто заваренный и, судя по штампу на верхней корке, испеченный еще в 1937 году. Говорили, что привозят его в целлофановых мешках. В палату хлеб приносили уже нарезанным, и все зорко следили, чтобы на подносе было положенное число горбушек – этих наиболее желанных кусков. В нашей палате горбушки получали по очереди. Получивший сегодня величался королем. Если была вторая горбушка, ее получал принц, а вчерашний король назывался подчищалой.
Аппетита у меня все еще не было, и есть не хотелось, хотя паек был очень скуден, а передачи со стороны почти прекратились. Из-за скудности пайка люди ходили в уборную раз в несколько дней, и кто-то пустил довольно удачный термин «ходить козой» – получались какие-то орешки по числу съеденных паек.
Как я уже говорил, обслуживающий персонал госпиталя были жители Вильно, поляки, и говорили они между собой, естественно, по-польски. До этого я никогда не слышал польского языка. Не знал близких к нему украинского и белорусского. А здесь я постоянно слышал польскую речь, прислушивался к ней и однажды очень обрадовался, поняв вопрос доктора к дежурной сестре по поводу вновь прибывшего раненого: «Як выгленда ренька?» – как выглядит рука. Но такие словосочетания, как «брудна белизна» – грязное белье – ставили меня в тупик. Нам сказали, что к доктору надо обращаться со словами «пан доктор». Я почему-то долго не мог заставить себя выговорить это слово «пан». В польском языке «пан» – форма вежливого обращения. Это во-первых. А во-вторых, «пан» – господин, и у меня это слово ассоциировалось только с господином, а к этому нас не приучили.
Нашу палату обслуживали две сестры: одна миловидная, общительная, молодая полька Нюся. Она ходила в деревянных босоножках, и ее бодрую поступь мы узнавали еще издали из коридора. Другая, не помню, как ее звали, была крупной и равнодушной блондинкой. Симпатичную сестру Нюсю я особенно хорошо запомнил по следующему случаю. Как-то она вошла в палату, держа в руках блюдце с огромным, прямо сказочным, печеным яблоком и, что-то говоря по-польски, дала его мне. В жизни я ничего подобного не видал и не едал – так это было вкусно. Верхушка яблока была срезана, середина вынута и туда насыпан сахар. Затем все это было закрыто срезанной верхушкой и запечено. Сестра Нюся нередко приносила мне и таблетки витамина «С». Это тоже было исключением, так как раненые, насколько я помню, его не получали. Другую сестру я тоже запомнил. Ставя банки, она обожгла мне спину, капнув на нее горящий спирт. Сестра этого не заметила, отвлекшись каким-то разговором. Получился большой волдырь. Эта же сестра протирала меня губкой, так как под душ ходить я не мог. Палату обслуживали две нянечки. Одна из них, пожилая, которую мы прозвали «лыжка», раздавая нам из ведра конину и воротя нос от запаха, все время ворчала – «лыжку, лыжку» – на наши просьбы дать ложку добавки. Нас она явно недолюбливала, но с удовольствием вспоминала молодость, проведенную в Петербурге. О второй нянечке, Ноне Стучинской, рассказ впереди. Были еще санитарки, протиравшие полы и окна (как в нормальном госпитале мирного времени!). Одна маленькая, худенькая, с тонкими чертами лица, Бронислава, спорившая с нами, ругавшая нас. Это было естественно: кто-то из ее близких был вывезен в Сибирь. Другая – спокойная, немногословная, типичная крестьянка...
Все это люди, которых мы видели каждый день. Уже сколько лет вспоминаются они с большой благодарностью за все то хорошее, что они нам делали. А ведь мы должны были для них ассоциироваться с режимом, так испортившим им жизнь!
На ночные дежурства к нам приходили и другие служащие. Мне запомнилась сестра Сильвия Дубицкая, симпатичная полька.
Иногда к нам в палату попадала местная польская газета «Гонец цуденны» – «Ежедневный вестник». Мы с трудом разбирали сводки Верховного немецкого командования, сообщавшие о победах на Восточном фронте. Состояние мое оставалось тяжелым, я лежал пластом и почти ничего не говорил из-за болей в боку, а в голове бродили мрачные мысли. Шел октябрь. В газетах сообщалось об астрономических цифрах плененных под Вязьмой и Брянском. Немцы были под Москвой и уже торжествовали победу. Однажды нам кто-то принес русскую газету «Новое слово», издаваемую в Берлине. Это было, когда я уже начал немного поправляться. В газете какой-то эмигрант писал, что вот уже скоро им (т.е. эмигрантам) придется расстаться с уютными и обжитыми квартирами в Берлине и перебираться в разбитую Москву налаживать новую жизнь. Это меня больно резануло и газета стала мне неприятна. (Подсознательно я делил эмигрантов на эмигрантов-родственников, а их было немало, действительно помогавших нашей семье, и эмигрантов, шедших с немцами, к которым я относился отрицательно.) Но эта же газета давала мне возможность, так сказать, теоретически, попытаться найти выход из того положения, в котором я был, предотвратить неминуемую – я это начинал понимать – гибель в плену. Если я выздоровлю, меня выпишут в лагерь из этого рая. А что такое лагерь – я хорошо представлял по Двинску. Так вот, газета «Новое слово» прямо указывала мне на возможный выход из этой ситуации. В ней было объявление, что имеется не то контора, не то какая-то организация, которая помогает в поисках родственников. Был приложен берлинский адрес. Стоило туда написать, как наверняка какие-нибудь родственники откликнутся, ведь их у меня так много. Но мысль эта почему-то казалась постыдной и даже позорной: вот уж теперь настоящая сдача в плен. Но был еще и другой мотив, почему я не хотел воспользоваться адресом: тогда бы моя фамилия попала в широкий свет и, кто знает, не повредило бы это в конце концов там, моим, дома. Вставали перед глазами страшный тридцать седьмой год когда исчезли четверо из нашей семьи, да и многочисленные аресты отца до этого. Но все же адрес этот я запомнил...
Нас стали посещать православный священник и мулла. Любители сидеть на подоконнике углового окна говорили: «Попы идут», – священник и мулла появлялись обычно вместе. Мулла присаживался к татарам и вел с ними тихие беседы. В свой первый приход священник принес образок Николая Угодника и повесил в палате. При этом спрашивал, где повесить. Народ отнесся к этому довольно равнодушно, но подсказали: «Повесь на доску». Образок повесили как раз надо мной (меня уже давно переселили от окна). Молодой паренек из Ленинграда, ополченец, сострил: «Вот, теперь на Трубецкого молиться будем». В то время я был убежденным атеистом, но тут что-то в душу запало. Посещая нас – это было не каждый день, священник читал молитвы, говоря, что нежелающие слушать могут уйти. Некоторые уходили, редкие крестились, большинство равнодушно присутствовало.
Я постепенно выздоравливал, температура перестала скакать, и, главное, я заговорил. Теперь это уже не было мучительно, но ходить я все еще не мог, а аппетит появился. Я стал вступать в жаркие споры, которые возникали в палате. Спорили о причинах поражения на фронте, ругали больших и якобы продажных начальников, ругали колхозы и, вообще, наши порядки. Парень из Новороссийска раненный в обе ноги, ругая наши власти, вспоминал, как в 1933 году из элеваторов порта ссыпали зерно в иностранные суда, а в городе люди умирали от голода. Но и отстаивали и то, и другое, и третье, хотя в нашем поражении никто не сомневался. Рассказывали о вопиющих фактах нашей военной неподготовленности, отсутствии выучки. Немцы же, наоборот, почти во всех рассказах были прямой противоположностью. Приводились примеры их большой справедливости. Но были и другие примеры. Раненный в руку татарин (это о нем спрашивал доктор «як выгленда ренька» – рана была запущенной, и руку ампутировали) рассказывал, как их везли в закрытых вагонах, и среди пленных были тифозные больные. На одной из остановок вагоны обложили соломой и подожгли. Немцы не ожидали побега, и охрана была минимальной – везли долго и не кормили, и люди были ослаблены. В том вагоне, где был татарин, нашлось несколько крепких парней, которые сумели выбить доски и бежать. Нашего татарина ранили в руку, но он удрал и скрывался в деревне. Но рука сильно загноилась, и его привезли в Вильно. Так он попал к нам.
Разный народ лежал в палате. Вот лейтенант Скрипник, украинец, личность малоприятная, любил поучать и неглубоко рассуждать, похоже, политрук весьма средней руки. А вот весельчак и балагур Курдюков из Серпухова с хорошим тенором много нам пел. Двое ленинградцев, по специальности слесари, довольно быстро начали шить туфли на заказ, и к ним присоединился Скрипник. Среди старожилов палаты был молчаливый солдат, которого наши, приняв почему-то за шпиона, пытались расстрелять. На груди у него было несколько заживающих ран от пуль. Как он остался жив – непонятно. Рассказывал, как, переодевшись в гражданское, он выбирался из окружения, набрел на какую-то нашу часть, и вот результат – расстрел за шпионаж. Много прошло народу через нашу палату, всех не упомнишь.
Однажды привезли молодого парня по фамилии Надежкин. Был он в очень тяжелом состоянии и весь кишел вшами. Доктора, осматривавшие его, невольно почесывались. Симпатии сестры Нюси перенеслись с меня на него, она принесла ему такое же, как и мне когда-то, печеное яблоко, посмотрев извиняющимся взглядом в мою сторону. Вместе с Надежкиным в госпиталь прибыло много нового народа, и все в тяжелом, запущенном состоянии. Везли их из-под Вязьмы очень долго и, конечно, в пути не кормили. Люди в вагонах умирали, и были случаи каннибализма.
Среди нас лежал пожилой человек по фамилии Халаев. Был он ранен в руку и все время поддерживал ее за локоть в вертикальном положении. Одно время мы с ним на двоих получали передачи. Вот как это получилось. Сердобольные люди никогда не переводились, и, когда были еще разрешены передачи, раненые получали их довольно много. Передавали матери, жены и сестры наших военных, оставшиеся волей войны в Вильно, выбирая наиболее тяжело раненных. (Много позже я узнал, что судьба этих людей в Вильно была ужасной. Их согнали в некое подобие гетто, а потом расстреляли. Немцы считали их, и может быть, не без основания, базой партизан. Об этом мне рассказал А. В. Комаровский, поселившийся после войны в Вильно и сделавшийся среди литовцев своим человеком.) Так вот, однажды Халаев, спустившись на первый этаж, где можно было переговариваться с пришедшими женщинами, сказал, что вместе с ним лежит его друг такой-то в очень тяжелом состоянии. Все это он мне сообщил и просил написать записку. Так мы с ним стали получать скромные передачи: хлеб, суп, вареную или жареную картошку, овощи. Передавала их некто Ачкасова, жена нашего офицера, добрая душа, большое ей за это спасибо.
Но вот наступил день, когда я впервые за два месяца встал с постели. Сосед Петр застелил мою койку. Голова кружилась, ноги дрожали, находиться в вертикальном положении было очень трудно, и я присел на соседнюю кровать. А дня через два, держась за спинки коек, сделал несколько шагов. Отдыхая по дороге, я добрался до окна и сел на подоконник. Сидеть было неудобно, жестко, сказывалась худоба. С интересом смотрел на улицу. Школа, где помещался госпиталь, стояла на перекрестке. Справа через улицу был фабричный двор, а слева напротив – трехэтажный дом, отведенный под гетто. Многие из нас пытались завязать «телефонный» разговор знаками с населением гетто, но ответов с той стороны не было. В окна была видна частичка жизни собранных там евреев. В одной из комнат они всегда что-то взвешивали на весах, делили. Помню поразившее меня событие из короткой истории этого гетто (я тогда еще не ходил). Однажды ребята заметили какое-то беспокойство среди евреев. Все они суетились, многие плакали. На наш вопрос, что там случилось, санитарки спокойно ответили: «Жидов стрелять будут». Как так? Кого? Каких? «Детей и стариков», – был ответ. Все это никак не укладывалось в голове, до того это было невероятно. Как до, так и после этого с евреев каждый день водили на работу и сопровождал их всегда один немец. К концу моего пребывания в госпитале оставшихся евреев куда-то перевели и дом напротив опустел.
К моменту второго в жизни обучения ходьбе у меня были знакомые и в других палатах. Я подружился с летчиком Виктором Табаковым, москвичом. В самом начале войны он был сбит под Вильно и упал, раненный в горящем самолете. В госпитале Виктор ходил с отставленной на каркасе загипсованной рукой – «ястребок» – и со шрамами на лице. Мы с ним развлекались тем, что составляли друг для друга или для его лежачего приятеля кроссворды. Сестры иногда приносили старые польские журналы с головоломками, которые мы с Виктором решали. Слово «головоломка», по-польски «ламиглувка», нас очень потешало. Вскоре я начал выходить в коридор. Прямо против нашей двери была широкая лестница, ведущая вниз, и только тут я вспомнил, что по ней поднимался в первый день моего появления. В окно, выходящее во двор было видно большое недостроенное здание – костел в стиле модерн. На первом этаже в вестибюле (туда я еще не спускался) стояло пианино, Виктор играл начало какого-то фортепианного концерта. Играл бойко, но дальше нескольких фраз почему-то не шел. Так он разрабатывал пальцы раненой руки.
Выходя в коридор, я облокачивался на парапет над провалом лестницы и нередко разговаривал с нашим санитаром, таким же пленным (это он дважды носил меня на руках в операционную). Он говорил, что белорус, но сдается, что это был еврей. Врачи относились к нему хорошо и, жалея его, в лагерь не списывали. Фамилия его была Беленко, а сам он был жгуче черным. Это был образованный, культурный человек, за словами его угадывалась глубокая тоска.
Внутри госпиталя жили мы свободно, палаты между собой сообщались, люди делились новостями, слухами, посещали земляков. К нам каждый день приходил украинец, раненный в руку. Он садился на койку к земляку и довольно громким шепотом говорил только о еде. Так и слышалось: «Сало в ладонь, галушки со сметаной», – и тому подобное. Нашу публику это выводило из себя, и его выпроваживали. Вообще же, все разговоры даже о самых далеких, казалось бы, от еды вещах сводились к еде. Например, рассказывает человек о своей работе, так обязательно начнет говорить, что и как подавали в рабочей столовой: что вот возьмешь то, а не это или другое, сколько это стоило, как наедался, да как подавали. Любили рассказывать рецепты приготовления различных блюд. В палате даже постановили не говорить о еде, а только на женские темы. Но и эти разговоры не клеились, а получалось что-нибудь вроде: «Пришел я к ней, а она уже стол накрыла...», – и опять понесло. Слушать все это было сладко-мучительно.
Я уже передвигался свободно, ходил в уборную в конце коридора и начинал все крепче задумываться о своей судьбе. Особенно по вечерам, когда долго не мог заснуть, и все эти мысли лезли в голову. Выхода я не видел. Если не фантазировать, а смотреть вещам в глаза прямо, то положение мое было плачевным. Когда-то меня выпишут из этой благодати, а к жизни в лагере я не готов. К нам все время доходили слухи о тамошних условиях, где люди дохли, как мухи, да и по Двинску я знал, что это такое [6] 6
Много лет спустя я прочитал в «Новом мире» рецензию на книгу чешских журналистов «СС в действии», где приводились данные из немецких архивов. Из 4-х млн. советских военнопленных к февралю 1942 года остался в живых 1 млн.
[Закрыть]. Становилось тоскливо. Правда, относился я ко всему пассивно, давая событиям течь своим ходом. Будь я крепок и здоров, то обреченность моего положения, вероятно, заставила бы меня действовать. Тяжелая болезнь, физическая немощь притупила все чувства. О доме, о своих думал я в то время мало, хотя подсознательно в голове всегда стоял вопрос – как они там? Но вместе с тем разыгрывалась и фантазия. Вот кончится война, нас, наверное, всех распустят. Вернусь в Москву. Учиться, вероятно, будет нельзя, надо работать. Где? У немцев? Кем? Что делать? А по Москве, по знакомым улицам ездят теперь уже знакомые, но чужие машины...
В то время, когда я начал свободно говорить, меня, естественно, стали спрашивать (и свои, и из обслуживающего персонала), что я за Трубецкой, спрашивать о родителях. Раньше, отвечая на такие вопросы – устные и анкетные, – я никогда не скрывал истины, что четверо из десяти членов семьи арестованы, не скрывал дворянского происхождения. Но здесь говорить обо всем этом было как-то и совестно и неудобно. Мне это казалось какой-то спекуляцией. Но все-таки говорил. После этих разговоров, а, может быть, и ранее, ко мне стала проявлять интерес санитарка нашей палаты Нона Стучинская, вдова польского унтер-офицера. Она рассказывала, что ее сестра замужем за неким Бутурлиным, что он мной интересуется, и несколько раз приносила мне еду, а иногда и что-нибудь почитать. Однажды сумела привести этого Бутурлина, который, постояв в дверях палаты, молча посмотрел на меня.
Как-то в ноябре месяце вечером, выйдя в коридор, я стоял, облокотившись на парапет над лестницей. Ко мне подошла одна из сестер, которую я знал по дежурствам, и стала спрашивать, как звали моего отца, мать, нет ли у меня где-либо тут родственников. Я ей ответил о родителях и вспомнил, как осенью 1939 года, когда наши войска вошли в Западную Белорусию, дядя Миша Голицын – брат матери – говорил, что недалеко от Барановичей находилось имение дяди Поли Бутенева, мужа тети Мани, сестры отца. Я это ей рассказал, добавив, что полного имени дяди Поли не знаю, и тут же спросил, почему она все это спрашивает. Она ответила, что просто так интересуется, и отошла от меня. Я понял, что все это неспроста, что тут кроется нечто очень важное, и у меня зародилась маленькая надежда, такая маленькая, что я боялся даже думать о ней, как маленький огонек, в котором вся жизнь, но который потухнет от твоего малейшего дыхания. О разговоре этом я, конечно, никому не сказал. Так шли дни.
И вот наступило 22 ноября. Помню, как в палату вошла старшая сестра госпиталя, пожилая, седеющая, строгая и властная женщина, окинула всех взглядом, посмотрела на меня и молча вышла. Можно было не придавать этому никакого значения. Но мой мозг подсознательно ловил все, что хоть как-то касалось меня, и у меня что-то внутри стронулось. А потом вскоре меня вызвали вниз, и тут, еще на нашем этаже, меня взяла под руку сестра Сильвия Дубицкая помочь спуститься вниз. Идя со мной по лестнице, она шепнула: «Ваш родственник пришел». Я уже каким-то чутьем догадывался, что происходит что-то важное для меня.
На первом этаже направо в коридоре сестра Сильвия открыла дверь, и первое, что я увидел в небольшой комнате, был немец, самый обыкновенный унтер. Но сбоку сидел господин – иначе не назову – хорошо одетый, который сказал:
– Здравствуй, я твой дядя.
Был он роста выше среднего, брюнет, с усиками. Я ответил:
– Здравствуйте, очень приятно.
Он сел, я тоже. Дядя, не сводя с меня глаз, спросил кто я и что, а затем поведал, что он двоюродный брат отца, Михаил Григорьевич Трубецкой, сын брата деда Григория Николаевича.
В небольшой комнатке, где мы сидели, кроме нас и немца, была еще одна особа, как я потом узнал, переводчица госпиталя, благородного вида дама, с большой серебряной брошью, низко висевшей на крупной серебряной цепи. Она что-то негромко говорила немцу.
Дядя сказал:
– Я хочу взять тебя отсюда. Ты можешь?
– С удовольствием, если позволит здоровье.
Послали за нашим доктором. Но его, к сожалению, не оказалось. Он дежурил накануне. Пришел другой врач с нашего этажа, осмотрел меня взглянул в историю болезни (в госпитале велось и это) и, по-видимому, не захотев брать на себя никакой ответственности, сказал, что недельку-другую мне надо еще полежать, так как не кончен курс вливаний. При осмотре дядя несколько раз восклицал: «Как худ, как худ!»
Я надел рубашку – наш повседневный костюм рубашка и кальсоны, а дядя поднялся и, прощаясь, сказал, что через десять дней заберет меня, а пока мне будут носить передачи, чтоб немного подкрепить. Мы расстались.
Как я шел наверх, не помню. Не помню, как добрался до койки. В палату началось целое паломничество: приходили, поздравляли, завидовали. Весть, что меня нашел родственник и что меня отсюда забирают, облетела весь госпиталь. Самого меня это совершенно выбило из колеи, я не мог есть, температура подскочила, когда я заснул и как спал – не помню.
Дня через два мне стали передавать персональную передачу, довольно скромную, но весьма для меня существенную: суп, что-нибудь на второе, хлеб. Передачу приносили через день. Я, как мог, делился с соседом, но не скажу, чтоб щедро (да и из чего?). Когда приносили передачу, в палате становилось тихо, и есть мне ее было очень неудобно, и как бы вставала невидимая стена между мной и всей палатой.
Шли дни. Был очередной большой обход. Его делал профессор Михейда, судя по рассказам, большая местная знаменитость, которого иногда приглашали наши врачи, его ученики. Сам он работал во многих местах, в том числе, как говорили, и в немецком госпитале. Был он низкого роста, немного сутулый с густой седеющей шевелюрой и острой бородкой. Доктор Довгирд, докладывая обо мне, что-то еще говорил по-польски, видимо, рассказывая обо всем случившемся. Профессор и вся его свита внимательно слушали и смотрели на меня как на интересного зверя, и это было неприятно.
Итак, шли дни. Минул срок – десять обещанных дядей дней, но он не появился. Прошло две недели – ничего. В душе зашевелился сначала маленький, затем все больший и больший червь сомнения – а придет ли он? А тут еще в газете мы прочли, что издан приказ, запрещающий впредь отпускать военнопленных на работы в сельское хозяйство к отдельным крестьянам. И хотя я, вроде, не подходил под этот приказ, настроение мое падало. Кое-кто из соседей начал слегка подтрунивать, вот, дескать, добрый дядюшка появился и смылся. Я даже просил доктора на всякий случай не выписывать меня, происходит какая-то задержка с освобождением. Довгирд успокаивал, что выписывать меня будут очень не скоро. Дни тянулись, никто не появлялся, и я это переживал страшно, клял себя на чем свет стоит. «Вот, в кой-то раз в жизни повезло, – говорил я себе, – надо было пользоваться этим везением и сказать дяде, чтоб брал меня отсюда сейчас же, на руках неси, но не оставляй тут ни минуты. Так нет, стал играть в благоразумие – если позволит здоровье – вот теперь и сиди!» Доброжелатели успокаивали, но скептиков становилось все больше. Я тосковал страшно. К счастью эта неопределенность длилась не так уж долго. Наступило 12 декабря. В то утро я почему-то особенно хорошо заправил койку, рассказывая, что вот так нас учили в полковой школе. Сделал из простыни белый отворот в ногах шириной 25 сантиметров, взбил кубом подушку, уложил около нее треугольником полотенце, натянул одеяло без единого бугорка и складки. И тут входит в палату старшая сестра и говорит как обычно при выписке в лагерь, но голосом, как мне показалось веселым и бодрым: «Трубецкой, вниз!»








