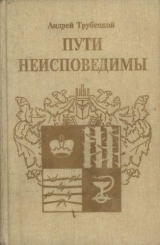
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
Глава 7. НАШ БЫТ
На работу из тюрьмы нас уже не водили. Прогулку давали, но не всегда. Зато каждый вечер выгоняли во двор для проверки. Это было железное правило для всех бараков. Кормили по камерам, и раздатчики, помимо положенной еды, приносили кульки от друзей. У кого была крупа, те приспосабливались варить кашу прямо в камере. Делали это так доставали через тех же раздатчиков куски проволоки и пустую консервную банку, выламывали из нее куски жести пальца в три шириной. Между ними вставляли деревяшку-изолятор, все это обматывали нитками, и к каждой жестяной пластинке прикрепляли провод. Провода подключали в гнездо вывинчиваемой на этот случай лампочки, единственной на всю камеру (лампочка помещалась в воронкообразном углублении над дверью и закрывалась решеткой). Деревяшку с жестянками совали в котелок с водой, и варка таким «электролитическим» способом начиналась. Иногда в тюрьме перегорали пробки, что бывало, когда кашу варили сразу в нескольких камерах. Надзиратели ругались и пытались отбирать орудия варки. Так как провода этих «орудий» были короткие, то варили поближе к источнику тока – на верхних нарах у двери.
При этом не обходилось и без шуток. Кашевар, сидя на верхних нарах с таким котелком, брал его в руки и просил выбранную жертву подержать котелок (жертва выбиралась так, чтобы она была босой). Жертву било током, ибо пол в камерах был цементный, а хозяина котелка не било – он сидел на нарах. Жертва недоумевала, а все веселились.
На этом же полу устраивали стирки – пол как стиральная доска. Спичек не было, и прикуривали от тлеющей ваты. Ее надергивали из полы бушлата, сворачивали в тугой жгут в палец толщиной и начинали яростно катать куском доски от нар. Вата от трения разогревалась и тлела.
Иногда камеры не закрывались, и все ходили друг к другу в гости. Но это делалось все реже и реже, и тогда общение осуществлялось через кормушки, дверцы которых были давно выбиты. В прямоугольную дыру просовывалась голова, причем для того, чтобы просунуться, голову надо было сначала положить на бок, а потом уже, выйдя головой в коридор, придать ей нормальное положение – кормушка по ширине была больше, чем по высоте. В такие минуты тюремный коридор являл собой любопытнейшую картину: в перспективе зарешеченная сквозная дверь, по стенам окованные железные двери с большими висячими замками на засовах, а из середины каждой двери торчит стриженая голова. Головы крутятся в разные стороны, оживленно переговариваются. Нет-нет, одна голова исчезнет в двери, предварительно повалившись набок, а вместо нее так же боком вылезет другая голова и закрутится, завертится, заговорит. А в камере у двери стоят еще двое или трое, ожидающие очереди поговорить и понукающие в спину или пониже слишком увлекшегося говоруна.
Жизнь текла размеренно, коротали время рассказами, мелкими заботами и делами, развлечениями, которые могло предоставить однообразие нашего существования: самодельные карты или шутки вроде такой – еще лежа на нарах, один хватал другого за причинное место, сжимал и требовал: «Пой Интернационал!» Тот благим матом орал: «Вставай, проклятьем ...» Общее веселие.
А вот некоторые типы сокамерников. Сравнительно молодой украинец из Харькова Скоропад, бывший немецкий полицай, за что и получил свои двадцать пять. Был он удивительным рассказчиком, а по манере держать себя и по существу был полублатным. Любил петь украинские песни, а иногда очень верно и хорошо исполнял какое-либо место из классических арий. Слушая его, никак не сказал бы, что этот человек не умеет ни писать, ни читать. Письма из дома ему читали вслух и под диктовку писали ответ.
Другой не менее талантливый рассказчик, рассказчик-артист, который буквально перевоплощался в персонажи своего повествования, будь то главное или же совсем второстепенное лицо («А Аннушка высунулась в окно: «Чево его вы наделали?» – и рассказчик подносил ко рту полусогнутый кулачок и так менял лицо, что явственно виделась старушка-крестьянка). Звали его Иван, фамилию забыл. Работал он трактористом в Саратовской области. Осенью вдвоем с приятелем охраняли хлеб на току. Была у них берданка. Ночью оба заснули, сидя у зерна. Заряженная берданка стояла у Ивана меж колен. Директор совхоза приехал на велосипеде их проверять. Стал будить, а Иван и нажми на спусковой крючок. Того наповал. Что делать? Труп с велосипедом бросили в воду – знать ничего не знаем. Повелось следствие. Убитого нашли, стали доискиваться. По подозрению взяли и этих двух и дознались. Признался второй. Иван говорил, что тот был слаб, был в плену, и на него легче было нажать. Обоим дали по 25 лет – политический террор.
Колоритной была фигура заключенного по прозванию Никола Угодник. Он все крестил: берет ложку – крестит, миску с баландой – крестит, слезает с нар и надевает чуни – крестит, подходит к параше – крестит. В режимку попал за то, что в праздники на работу не выходил. Его силой выволакивали в зону и приказывали работягам нести на шахту. Там бросали в клеть и опускали. Когда клеть поднималась за следующей партией, он по-прежнему лежал в ней и распевал что-то священное. Всегда ходил увешенный крестами, которые делал из мисок – настоящий юродивый. Сталина называл сатаной и «гирисилимусом», заговаривался, пророчествовал. А раньше, как говорили, был блатным. 06 этом свидетельствовали многочисленные татуировки на теле, не всегда цензурные. Николай Вербицкий, один из нашей дружной четверки, оказавшийся одно время в БУРе с Николай-Угодником, наблюдал такую сценку. В камеру попал прибалт-одиночка, то есть человек, не принадлежавший в этой обстановке ни к какой влиятельной группировке, поэтому безответный и беззащитный. К тому же прибыл с барахлом. Полублатные начали его курочить (как курочили бы меня, тогда на карьере, на другой день после отъезда жены, не будь у меня за спиной своей группы). Никола сидел на нарах и участия в этом не принимал, а по обыкновению молился вполуслух, но молился внешне, а душой был, видаю, по старой памяти с курочащими. Ему бросили что-то из вещей, и он, не меняя позы, быстрым движением сунул это под себя.
А вот еще одна запомнившаяся фигура – Валерий Плавтов – крупный блондин. Был офицером-артиллеристом, попал в плен – там перспектива голодной смерти. Пошел служить к немцам. Был во Власовской армии. Человек не глупый, но очень тщеславный. Это тщеславие гнало его в лагере на высокие посты не ниже бригадира. За какую-то оплошность попал в режимку. Около него всегда был кто-нибудь в почитателях, в услужении. Много рассказывал о службе во Власовской армии. Говорил, что принимал участие в ликвидации известного нашего артиста, сына артистки Блюменталь-Тамариной, перешедшего с частью труппы к немцам, но оказавшегося потом, как говорил Валерий, советским агентом. Еще его рассказ из времен службы на «Атлантическом валу» во Франции: группа немецких и власовских офицеров выпивали в блиндаже. Один из власовцев вынул пистолет и начал палить в портрет Гитлера. Его уняли, портрет разорвали и бросили в угол. А вот наш же русский денщик подобрал портрет и отнес куда надо. Дело еле-еле удалось замять. После войны Плавтов оставался в Германии, в американской зоне, но был, как он рассказывал, выкраден нашими и привезен на родину, где и получил те же 25.
Изредка нас водили в баню. Там я ловчил и вырывался на несколько минут в зону, в санчасть, или давал о себе знать. Тогда приходил Николай Чайковский, которому в свое время я помог устроиться в амбулаторию. Николай приносил мне медицинские журналы, которые подолгу оставались в амбулатории от вольных врачей. Эти журналы я изучал и даже конспектировал в камере. Журналы были со штампом санчасти лагеря, и я не боялся, что их «отметут» при обыске – надзиратели медицину уважали.
Но вот нас почему-то перестали водить в баню. Так длилось примерно месяц или побольше. И, о чудо! – завелись вши! До сих пор их никогда не было. Действительно, правы те, кто утверждают, что вши от грязи. Какая гнида может пережить систематические прожарки, а контакта с другими людьми у нас не было уже несколько месяцев? Этот вопрос как-то не обсуждался, а я, имеющий отношение к медицине, собрал как вещественное доказательство пяток насекомых, в основном, с нашего китайца Ван Пинчина, и стал требовать от надзирателя отвести меня в санчасть. Меня отвели в амбулаторию, где стеклянная трубочка, куда я напихал насекомых, большого впечатления не произвела. Начальником амбулатории тогда был пожилой, благообразного вида седой капитан, любитель выпить. Иногда он, будучи навеселе, подходил к проволоке нашего карьера, что напротив лагеря, и начинал вяло нас материть. Ему отвечали тем же.
Увидев вшей, он изрек: «Бани нет, вот и завелись. Всех в прожарку». Нас повели в баню и зверски прожарили все, что можно было вынести из камер.
Была глубокая осень 1952 года. Шел XIX съезд КПСС. Мне в руки попала газета с речью Сталина, на этот раз краткой. Надо сказать, что газеты попадали к нам очень редко. Из них мы узнали о деле врачей (это было позже) и видели развернувшуюся антиеврейскую кампанию. Кто-то из западных украинцев высказал такую вещую мысль: «Ну, раз Ус принялся за жидов – конец ему». Авторы репортажа о съезде, о речи Сталина силились, по-видимому, показать величие вождя, но получилось так, что было видно, как тяжело поднимался на трибуну дряхлый старик. Это описание наводило на мысли... А сама речь, не в пример прежним, была не совсем обычной – откровенный призыв компартиям других стран еще активней вмешиваться в политику («перехватить знамя», что-то в этом роде). Так я понимал тогда эту речь.
Жизнь наша в тюрьме становилась тягостной: прогулок не было, была строгая изоляция по камерам – режим полукарцерный. Вечерами, когда выгоняли во двор на поверку, люди бежали в уборную по-большому. Стали поговаривать о протесте. Для этого существовала только одна действенная форма – голодовка, голодовка коллективная. На одиночные голодовки начальство обращало мало внимания: «Голодай, хрен с тобой, тебе же хуже будет». И только дав наголодаться вволю, если ты сам к этому времени не снимал голодовки, шло на компромиссные уступки.
В тюрьме нас было около трехсот человек. На одной из вечерних поверок условились: завтра еды не принимать, требовать высокое начальство. Утром все камеры отказались взять хлеб и горячее. Вскоре пришло лагерное начальство, кто-то из офицеров: «Почему не принимаете еду?» – «Сами знаете, пусть придет начальник лагеря Чечев». С тем начальство и ушло. Тюрьма затихла. Все почему-то лежали (так было в нашей камере, и, по-видимому, везде), хотя никакого голода, конечно, еще не было. На дворе рассвело, и из того края тюрьмы, что ближе к входу в наш двор, передали, что пришло много солдат. Нас стали выводить по камерам с вещами во двор и тщательно обыскивать. Отбирали еду – голодовка так голодовка. Часть солдат в это время обыскивала камеры (замечу, что во время этого обыска у Миши Кудинова пропали очки, оставленные в камере – как он возмущался!). Естественно, вид отбираемой еды заставил быстрее ее пожирать – у каждого ведь что-то было. Но вот мы снова в камерах. Тишина. Так прошел день.
На следующее утро часов в десять по коридору передали, что во двор вошло большое начальство во главе в полковником Чечевым. Видно, коллективная голодовка всей тюрьмы встревожила их. Вошли в первую от входной двери камеру. Все заключенные лежали на нарах. Какой-то чин скомандовал:
«Встать!» Никто не шелохнулся. Чечев, посмотрев на это, изрек: «Двадцать суток карцера», – и отправился в следующую камеру. Там обошлось спокойнее, все встали и на вопрос, почему объявили голодовку, стали многоголосно объяснять: «Прогулки лишили, в баню не водят, вши завелись...» и т.д. и т.п. Чечев зашел еще в одну-две камеры. Все то же. По остальным уже ходили чины поменьше. В каждой камере разговор кончался вопросом: «Голодовку снимаете?» – «Конечно, какой разговор, нам прогулку и все такое».
В тот же день мы уже ели казенное, а все камеры были открыты, и открыта дверь на двор. Следующие дни нас начали по одному вызывать к сравнительно мелким начальникам и спрашивать каждого конкретнее. Эти опросы имели целью, по-видимому, не только уточнить, кто за что сидит в режимке, и почему объявил голодовку (все понимали, что за это и срок могут намотать, и потому отвечали: «Все объявили, а я, что? Буду отказываться?»), но и найти зачинщиков. Но вызывали не всех. Меня не вызывали.
Верхом либерализации нашего режима был показ кинофильма. Показали его в самой большой камере, разобрав для этого нары. В выборе фильма не мудрствовали и дали, что было – замечательную австрийскую кинокартину «Петер» с красавицей Франческо Гааль, которую я видел еще до войны. До чего же этот фильм не вязался с той обстановкой, где мы жили, где его смотрели – как жизнь марсиан!
Через некоторое время большую часть режимников перевели в четвертое лаготделение, располагавшееся по другую сторону рудника. Убыл туда и один из нашей четверки – Иван Волгачев. Некоторых выпустили в зону, в том числе, и Мишу Кудинова. Нас осталось сто человек.
Вышедшие в зону держали с нами хорошую связь. Она состояла в том, что через высокую стену нам бросали «кешары» – мешки и свертки с едой. Дежурные надзиратели за ними охотились, но вяло. А вскоре нас стали выводить на карьер, что против зоны, выводить с пулеметом, чего раньше не было. Такой знакомый, маленький ДП-ручной с диском ставили метрах в ста от нас, а около него – солдат. Так, под пулеметом нас принимали, под пулеметом вели на карьер (это помимо обычных автоматчиков) и вновь сдавали в лагерь вечером. И вывод и приемку делали, когда все бригады были уже на работе, так что у ворот мы всегда были одни. С нами ходил теперь уже не один, а два надзирателя, которые, не стесняясь, давали нам понять, что в карманах у них полно наручников. Иной вынимал такую блестящую штучку – два плоских кольца из нержавейки, соединенных короткой цепочкой, и покручивал себе на пальце. А один молодой надзиратель стыдился их обнаруживать и, отворачиваясь от колонны, перекладывал наручники из кармана в карман или делился ими с другим надзирателем. Но до наручников дело, в общем, не доходило. Как и пулемет, они были скорее моральным устрашением да еще выполнением какого-то параграфа некой инструкции.
Однажды на карьере один из надзирателей за что-то взъелся на украинца по фамилии Мельник и пригрозил наручниками, а когда нас стали снимать с карьера – пытался выхватить его из рядов и надеть наручники. Конвой был равнодушен к происходящему – другое ведомство – а бригада начала роптать. Надзиратель отложил до приема у лагеря, где надзирателей куча. И вот мы у зоны. Считают по пятеркам, пятерки стоят плотно, и Мельник в центре колонны, в середине пятерки. Все в пятерках взялись без всякой команды под руки и при счете далеко не отходят, а тут же наступают одна за другой, стоят сплоченно. Надзиратели видят, что так просто им не взять намеченного. Тогда всю колонну повернули кругом, отвели метров за сто от ворот и издали стали вызывать по пятеркам, чтобы изолировать пятерку с Мельником. Но и это не удалось. Прошла первая, вторая, третья пятерка, а когда счет стал приближаться к той, с Мельником, вся колонна без команды двинулась к воротам. Конвой равнодушно взирал на все это со стороны – первый счет уже был, и количество голов совпало. Тогда стали запускать в лагерь, и там, в коридоре между двух стен (стена слева с дверью в тюремный двор, стена справа с воротами на пекарню, впереди вторые ворота уже непосредственно в зону), в этом замкнутом пространстве надзирателям удалось выхватить намеченного. Напряжение сразу спало, и здесь надзиратели у внешних ворот допустили ошибку. Они не переждали, пока уведут схваченного, и стали запускать остальных по пятеркам. Но тут вся колонна с шумом ринулась в первые ворота, далее в коридор и кинулась за уходящей группой, которая не успела закрыть за собой вторых ворот. Режимники тут же отбили своего – надзиратели просто его отпустили, и все мы победно вернулись в свою тюрьму.
Все это произошло стихийно, никто ни о чем не сговаривался. Все были возбуждены, и понимали, что так это не пройдет. Но прошло. Правда, вскоре пришли и вызвали по фамилии Мельника. У нас их было двое: герой происшествия – маленького роста западник, говоривший вместо «карцер» – «канцер», и другой, тоже украинец, долговязый парень. На вызов пошел долговязый. Надзиратель его не признал. Да к тому же он номер со спины записал неправильно – некоторые из них были не шибко грамотны. Дело замялось – надзиратели показали себя большими шляпами. Рассказывали, что когда толпа режимников ворвалась в зону и освободила своего, некоторые придурки стали разбегаться.
Вообще, малограмотность надзирателей была не редкостью. Был у нас такой случай, когда в режимку пришел надзиратель с бумажкой и стал вызывать по фамилиям, но споткнулся на первой. Наконец разобравшись, позвал: «Сульфидинин» (надо вспомнить, что препарат сульфидин был тогда популярным средством от гонореи). Такой фамилии у нас не было. Подошедший Иван Волгачев увидел, что там написано «Софидиани», но промолчал, и надзиратель ушел ни с чем. Кстати, этот Софидиани попал в лагерь в группе студентов Тбилисского университета. Остроумный Борис Ольпинский так охарактеризовал его суть: греко-немецкий грузин еврейского толка и турецкой ориентации (мать Левы Софидиани была немкой). Надо сказать, что у Левы иногда возникали странные планы. Например, когда в ларьке почему-то появился горчичный порошок. Лева купил его чуть не килограмм делать горчицу и продавать любителям. Любители были, но горчицу не покупали.
Кончился февраль 1953 года, начинался март. Мы все ходили на тот же карьер. Работы с нас большой не спрашивали, и мы потихоньку ломали камень. Карьер этот лежал на склоне небольшой возвышенности, и с него хорошо был виден весь лагерь, стена которого была от нас метрах в двухстах. Правее вплотную к лагерю примыкала территория дивизиона со зданиями-казармами, клубом, домами семей офицеров. Перед клубом на столбе висел репродуктор, и, если ветер дул в нашу сторону, оттуда бывала слышна музыка радиопередач. С некоторых пор мы стали замечать, что к двум часам дня под этим столбом собираются люди, слушают передачу и потом медленно расходятся. У нас два часа дня, в Москве двенадцать, время передачи последних известий. И так каждый день. Что это? Строились всякие догадки: война? снижение цен? Спрашивали надзирателей – те молчали или отшучивались. От друзей из зоны никаких вестей. Правда, мы особенно и не запрашивали.
Пятого марта после работы мы расположились по камерам отдыхать. Вдруг в кормушку голос надзирателя: «Трубецкой есть?» – «Есть». – «Приготовиться с вещами».
Чудо! Выпускают из режимки, в которой я пробыл с середины декабря 1950 года.
Попрощался с сокамерниками, вышел на лагпункт. Меня невольно удивила его кипучая жизнь после тюремной тиши: сновали работяги, проехала фекалевозка, двигались редкие надзиратели, в окнах бараков огни – уже темнело. Я был выписан на первый лагпункт и, пройдя с надзирателем весь третий, стал стучаться в железные двери, через которые меня проводили в свое время в режимку. Первого, кого я встретил из знакомых, был Миша Кудинов. Он радостно сообщил мне совершенно сногсшибательную весть: «Андрюша, Ус подыхает! Вроде бы уж совсем. Слушай завтра музыку, по ней все ясно будет!»
Ночевали на нарах рядом, а наутро из-за наружной стены стало доносить из репродуктора стенающую музыку. Вскоре весь лагерь знал – умер Сталин. Его смерть совпала с освобождением из режимной бригады, и я втайне усматривал в этом некое знамение.
Внешне как будто ничего не изменилось. По-прежнему все ходили на работу. Я – на жилстрой с бригадой, где был Владимир Павлович Эфроимсон, и первое время вообще ничего не делал – поблажка бывшему режимнику. Потом вместе с В. П. Эфроимсоном стал брать пробы раствора – должность строительного лаборанта – работа плевая. А лагерь бурлил. Удивительные пошли дни. Каких только разговоров и слухов не было.
В один из дней рухнула, подмытая вешним ручьем стена между третьим и первым лагпунктами. Все это восприняли как многозначительное предзнаменование. Но стену тут же восстановили. Лагерная атмосфера наполнялась радостными предчувствиями, мыслями вслух о грядущих добрых переменах, хотя реальных внешних признаков этому не было. Реальной была смерть Сталина. Но все же... Вот любопытная сценка тех времен. Утром надзиратель открывает барак, входит в секцию и кричит: «Подъем!» Затем идет по проходу между нар и как бы сам с собой разговаривает: «Сталин помер, – и после паузы, – да ведь это вам все равно» (правда, он сказал тут другое, непечатное слово).
Огромную и совершенно из ряда вон выходящую активность развил Авиром. Говорил он открыто и откровенно удивительные вещи в лицо офицерам-начальникам: «Вы сейчас должны открыть ворота и всех нас выпустить, если хотите остаться на своем месте и не отстать от событий. Вам здесь скоро делать будет нечего. Вы здесь окурки будете подметать, ведь у вас нет никакой специальности. А нас здесь не будет». Растерянное начальство не знало как реагировать на такую дерзость, а за Авиромом, как за мессией, ходила толпа.
Удивительную, гипнотическую власть на далекие расстояния имел Сталин. Кончился он – властьимущие почувствовали свою неуместность, почувствовали, что их система заколебалась.
У Миши Кудинова с Авиромом был спор, который я разнимал. Авиром утверждал, что к осени мы будем дома. Миша сомневался. В заклад шла посылка Авирома, если он проигрывал, а Миша, если проигрывал, обязывался поить участников спора в ресторане «Прага» в Москве. Интересно, что оба оказались правы – осенью мы были еще в лагере, но позже все оказались дома – все, кроме Авирома. Как я уже говорил, летом 1954 года он скончался в лазарете от гипертонии, так и не увидев свободы. Уже в Москве на квартире у Владимира Павловича я познакомился с вдовой Авирома, пожилой, тихой женщиной, которой много рассказывал о ее муже, таком странном и противоречивом человеке. Миша Кудинов, вспоминая те времена, как-то добавил еще одну черточку в портрет этого человека. Однажды Авиром обратился к нему с таким предложением: «Нам надо повлиять на свою судьбу, надо обратить внимание на наше бедственное положение. Нужна кровь. Я первый пойду на зону, но надо, чтобы со мной было больше людей», – то есть предлагалась провокация со стрельбой. Мишу он убеждал собрать такую команду. Миша наотрез отказался.
Весной того же года Владимиру Павловичу Эфроимсону предложили заведовать лазаретной лабораторией. Когда он мне это сообщил, я сказал: берите меня в помощники. Через некоторое время он стал заведовать той самой лабораторией, из которой его выжили коллеги в 1950 году. Чуть позже у меня состоялся разговор с начальницей лазарета, капитаном медицинской службы Кларой Аароновной Файнблут. Эта встреча была устроена, конечно, Владимиром Павловичем. Начальница спросила, где я работал все это время, и что я могу делать в лаборатории. В конце разговора сказала, что все анализы, сделанные мной, будет подписывать Эфроимсон. Доверяли ему, а не мне; надо мною тяготело долгое пребывание в режимной бригаде.








