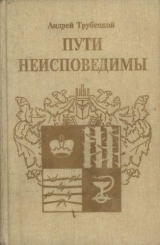
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
Глава 5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЛЕНА
Мне стало понятно, что это значит. Я попрощался со всей палатой, пожелал по-хорошему выбраться отсюда и пошел, провожаемый добрыми словами, одеваться. Внизу был дядя, с которым мы тепло поздоровались, а поодаль стоял немец с винтовкой. Моя одежда, связанная узлом, уже лежала в той комнате, где нас когда-то принимали. Одежду, видно, так и не разворачивали, а только прожарили в дезкамере. Развернул. Все мое: гимнастерка, шинель, шаровары, сапоги. Один сапог сильно порван. Вспомнил, что начало войны помешало его починить. Поясной ремень, сгоревший в дезкамере, рассыпался у меня в руках. Дали другой – он цел и по сей день, пройдя долгий путь. Никакого головного убора у меня не было. Санитар дал буденовку, с которой не была отпорота матерчатая звезда. На гимнастерке следы крови и почему-то одна дыра, хотя на спине их две. Оделся и вышел в коридор. Дядя говорит, что сейчас надо идти в комендатуру, там оформят документы, а уж потом я буду свободен. Предупредил, что если на улице мне будут что-нибудь давать прохожие, чтоб я не брал – могут быть неприятности (позже дядя сказал, что конвой в таких случаях обычно стрелял в берущего).
Мы вышли на улицу. У меня промелькнула мысль, а как дойду? Я оглянулся на здание школы-госпиталя. В окнах прилипли к стеклам бледные фигуры в нижнем белье. Я помахал им, они мне; посмотрел на наше угловое окно, которое было битком забито знакомыми лицами, и со странным чувством смеси радости и грусти, чувством какой-то вины перед моими товарищами зашагал прочь. Было холодно, но не морозно. Шел я бодро, и руки от холода прятал одну в карман, другую за борт шинели. Потом подумал, что вот так Сталина всегда изображают: одна рука в кармане шинели, другая за ее бортом. Подумают – рисуюсь, и перенес правую руку в карман, хотя раньше было удобнее.
Со стороны мы представляли, наверное, любопытное зрелище: тощий, изможденный пленный в незастегнутой буденовке, за ним плотный пожилой немец в очках и с винтовкой, а сбоку по тротуару идет упитанный и хорошо одетый господин – явно одна компания. Встречные дарили меня сострадательными, полными участия и понимания взглядами, так мне, по крайней мере, казалось, а дядя Миша уверял потом, что на него поглядывали косо и даже злобно. Прошли по людным улицам, по которым сновали военные машины, мимо колокольни, стоявшей на площади. Но вот ворота, оплетенные проволокой, а за ними, догадываюсь, Антокольская военная тюрьма, отведенная под лагерь. Шлагбаум, будка с часовым, а рядом с ним огромные соломенные, как гнезда для кур, боты, в которые он, видимо, совал свои ноги, когда они замерзали. За проволокой трех-или четырехэтажное здание, многие окна которого почему-то открыты. В окнах знакомые фигуры пленных, слышно, как женские голоса поют «Калинку». Жизнь вопреки всему! Но вот я вновь за проволокой. В сердце вползает неприятное чувство беспомощности, закрадывается страх. Входим в дом, стоящий слева, и поднимаемся на второй этаж. Попали к какому-то немецкому чину. Дядя Миша разговаривает с ним по-немецки. Чин спрашивает меня (сам или через переводчика – не помню) фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность. Последний мой ответ дядя упреждает, быстро говоря «литовец». Я недоумеваю, но, понимая, что так, по-видимому, надо, киваю головой. Спросили звание. Сказал, что рядовой (как и раньше в Гдове). Все это записывалось. Потом писал что-то дядя, и мы вышли уже одни, свободно пройдя мимо часового. Дядя предупредил, чтобы я шел не по тротуару, а рядом, по дороге, так как красноармейская форма может доставить много хлопот. Он же двигался по тротуару рядом.
Мы прошли мимо той же колокольни, свернули в какие-то улочки и вошли в дом, где жил хороший знакомый дяди, который мне представился как бывший полковник Генерального Штаба, а ныне священник одной из виленских церквей. Я не помню, как меня встретили. Голова шла кругом от пережитого, а ноги не держали. Я свалился в кресло, а дядя Миша стал рассказывать, как он нашел меня и, вообще, как все это получилось.
Оказалось, та самая доктор Брюлева, которая в первый день принимала меня, рассказала в кругу знакомых, что в госпитале военнопленных лежит какой-то Трубецкой. Один из присутствующих – Шульц – знал дядю и сообщил ему в Каунас. Дядя ответил, чтобы узнали подробнее (тогда-то, видно, и расспрашивала меня сестра о родителях). Дядя приехал в Вильно, и ему посоветовали не идти сразу по адресу – так он мог поставить под угрозу людей, сообщивших обо мне, а направиться в комендатуру на поиски родственника. По его просьбе комендатура стала обзванивать виленские лагеря и госпитали. В нашем – дежурной была сестра Сильвия Дубицкая, и отвечала на телефонный запрос из комендатуры обо мне именно она. Она вспомнила, как однажды спрашивали по телефону об одном раненом, а потом его забрало гестапо – оказался комиссаром. Сестра Сильвия подумала вначале, уж не комиссар ли я, но решила, что непохож, и ответила утвердительно. Хлопоты дяди о моем освобождении были недолги. Помог ему справочник – всемирно известный Альманах Гота. В нем сообщаются самые разнообразные сведения, и есть раздел, посвященный родословным русского дворянства. Там прослежен весь род Трубецких, начиная с Великого Литовского князя Гедимина (Трубецкие – Гедиминовичи), там была перечислена вся наша семья, мои братья, сестры (когда я листал этот справочник, у меня глаза на лоб полезли от удивления). Дядя Миша рассказывал, что на коменданта это произвело не меньшее впечатление, чем на меня. Он спросил, откуда все это известно. Дядя ответил: «Великая Германия». Большего не нужно было, и комендант, не колеблясь, дал согласие на мое освобождение. Замечу, что в это время немцы заигрывали с литовцами, разрешили назвать главную улицу Вильно именем Гедимина. Естественно, что на вопрос о национальности я должен был ответить «литовец».
Я долго перелистывал этот справочник. Нашел там всех Голицыных (моя мать Голицына) и, в свою очередь, спросил дядю, откуда все это известно. Все оказалось довольно просто. Некто Василий Сергеевич Арсеньев, которого я помнил еще по Москве – в 1933 году он уехал за границу, – только тем и живет, что пишет родословные русских дворян для Альманаха. Позже я с ним встретился, и он стал сразу спрашивать меня, кто родился, кто умер, женился и тому подобное. Добавлю, что В. С. Арсеньев – крупный историк, специалист по генеалогии не только русского дворянства.
У дяди было два варианта моего дальнейшего помещения: к знакомому богатому крестьянину под Каунасом или в имение к тому самому дяде Поле, о котором я говорил сестре в госпитале. Я был настолько ошеломлен фантастикой происшедшего, что мне было все равно куда ехать. За меня решил дядя Миша – ехать к дяде Поле. Весь этот день я никуда не двигался, отдыхал, приходил в себя. Вечером бывший полковник, дядя Миша и я при плотно занавешенных окнах слушали Москву. В сообщениях информбюро говорилось о наших победах. Я все еще был, как в тумане, но помню, что наши зимние победы вызывали гордость и даже энтузиазм полковника. Он спрашивал меня, как лучше знающего Красную Армия, в чем дело, почему мы вдруг стали побеждать? Не знаю, насколько правильно я отвечал, но помню, что говорил об артиллерии и тяжелых пулеметах на лыжах, от чего он был в восторге. Чувствовалось, что, хотя он и не «красный», но искренне рад нашим победам над немцами: «Они так будут идти вперед пока не кончится снег!» – восклицал бывший полковник. Ночью я не заснул, а впал в какое-то забытье.
На другой день дядя Миша стал меня одевать. Дело в том, что я должен был сдать свое обмундирование, ставшее с момента пленения собственностью немецкой армии. Дядя дал свой темно-синий костюм, который повис на мне, как на вешалке. На голову долго ничего не могли найти. Полковник предложил старомодный котелок, но потом появилась коричневая шляпа с полями. Пальто было тоже дяди Мишине. Обуви взамен не оказалось. Пришлось оставить рваные сапоги и отдавать что-то совсем непотребное. Дядя сокрушался, что заранее не подумал обо всем этом. Плохо помню, как мы сдавали вещи. Помню только, что поясной ремень я утаил, как память и еще потому, что дядины штаны на мне просто не держались. Да и все отдавать было жалко, особенно гимнастерку. Меня поразило, как немецкий каптенармус достал из длинного ящика карточку, где было перечислено обмундирование, числящееся за мной. Вот это порядок!
Вечером мы пошли с дядей к сестре Ноне Стучинской, последнее время в госпитале она была очень внимательна ко мне и дала свой адрес, приглашала заходить. Подниматься надо было на шестой этаж, что мне было очень тяжело. Нона, ее сестра с мужем Бутурлиным и дочь Ноны Тереза, девочка лет 13-14 встретили нас радушно. Выпили за мое освобождение и именины – 13 декабря день Андрея Первозванного. Хозяева оказались людьми гостеприимными очень разговорчивыми и все рассказывали об ужасах советских леи жизни в Вильно, высылке людей в Сибирь. Было уже поздно, и ночевать остались у них. Да и все последующие дни, пока я был в Вильно, ночевал у Ноны. Правда, под конец мне стала надоедать постоянная ругань всего советского и восхваление всего польского: «и покрышки у них на машинах!.. а вот за Польшей,.. и мыло!.. а вот за Польшей», – и так без конца, и опять «высылка в Сибирь»... А я был настроен патриотически, хотя и не спорил, но все эти разговоры стали мне досаждать.
Дядя ходил к каким-то властям, где пытался выхлопотать какую-нибудь одежду для меня. Дали разрешение на посещение только склада обуви. Это оказался огромный сарай, в котором была навалена куча всевозможной обуви и, что меня удивило, не новой и разрозненной. Я сумел подобрать лишь пару тапочек. Позже дядя сказал, что это обувь расстрелянных евреев из гетто. На душе стало тошно. Тапочки мне долго вспоминались. Зачем я их взял?
В Вильно мы провели несколько дней. В один из вечеров в ресторанчике, где подавали кофе-эрзац и пирожные с ноготок, встретились с знакомым дяди. Знакомый дяди Миши оказался сослуживцем отца еще по полку Синих кирасир и, глядя на меня, все восклицал: «Как похож на Владимира». Когда возвращались, дядя спросил, почему я все время шаркаю ногами. А мне просто было тяжело ходить в солдатских сапогах.
Итак, дядя решил везти меня к другому моему дяде, мужу родной тетки, Аполлинарию Константиновичу Бутеневу, дяде Поле. Я не возражал. Имение дяди Поли находилось недалеко от города Новогрудка, и ехать туда было довольно долго. Для путешествия требовалась справка, что у меня нет сыпного тифа, которого немцы очень боялись. За справкой я пошел в госпиталь. Как мне хотелось принести что-нибудь ребятам! Но у меня не было ни гроша, а просить у дяди я стеснялся. В вестибюле госпиталя ко мне подошел Виктор Табаков [7] 7
Много лет спустя я встретился с Виктором Табаковым в Москве. Мы проговорили всю ночь, и в память о былом он посвятил мне трогательное стихотворение. Вот оно:
АНДРЕЮ ТРУБЕЦКОМУТак неожиданно и странно —Поверить трудно... Боже мой!Друг моей «юности туманной» —Андрей нашелся Трубецкой!И воскрешает память сноваТо лето грозное войны,Тот сорок первый год суровый,Когда с ним повстречались мы...Вильно... «Шпиталь еньцов военных»..Бинт из бумаги... риваноль...И голод необыкновенный,Ночи бессонные, ран боль…Польская речь по коридорам,И у подъезда часовой,И дружеские разговорыС тобой, Андрей, мой дорогой!И расставанье в вестибюле,И неизвестность впереди...И ты ушел навстречу пулямС тревожным холодком в груди.И я сегодня рад безмерно,Что вновь нашлися мы с тобой,Далекий друг поры военной —Мой князь – Андрюша Трубецкой!16.06.82. Виктор всю войну пробыл в плену. После Вильно его вывезли в Германию. Пытался бежать, но безуспешно. После войны вернулся домой, и первое время ему, как бывшему в плену, было очень туго. Но после 1953 года положение стало меняться, Виктору удалось окончить институт, он кандидат наук. Нашел однополчан, они его признали, и Виктор получил Орден Славы.
Меня всегда занимал вопрос: кого из пленников сажали в наши лагеря, а кого не сажали? То, что все, бывшие в плену, проходили проверку в так называемых фильтрационных лагерях – это факт. Во время войны некоторые проходили проверку при частях, где служили после плена. По возвращении домой такого человека ставили на особый учет. Я знаю нескольких человек, которые всю войну или почти всю войну были в плену, а наш лагерь их миновал. Игорь Ершов, мой однокашник по полковой довоенной школе, попал в плен, даже не будучи раненым, и почти всю войну пробыл там. Тот же Виктор Табаков. Ни тот, ни другой в наших лагерях не сидели. В Степлаге со мной был некто Соловьев, сидевший как пленный у немцев в Бухенвальде, куда попадали сильно проштрафившиеся люди. Там он был старшим барака. Он это не скрывал. Рассказывал о себе скупо, а в лагере не принято расспрашивать. Имел по приговору 25 лет и не производил впечатление рядового солдата, а скорее офицера. Для лагерного срока, по-видимому, было достаточным, чтобы офицер попал в плен и был старшим барака. А для рядовых? Отказ от сотрудничества с органами, как в случае со мной? Или какая-то большая «вина», чем только плен? А может быть, дело было в «ретивости» фильтрационного аппарата – фактор чисто субъективный?
И еще несколько слов о пленных. Плен в любом виде считался у нас позором. Бывшие в плену – люди даже не второго, а третьего сорта. В анкетах существовал такой пункт: был ли в плену? Бывшим пленникам трудно было устроиться на работу, хорошие места были для них закрыты, так же и поступление в ВУЗ (я был принят в университет по ходатайству двух профессоров, один из которых был лауреатом Сталинской премии). Правда, есть у нас и хрестоматийные герои-пленники. Такого описал Шолохов в «Судьбе человека». Но это лицемерие. Есть и генерал Карбышев – пример того, как надо было бы решать вопрос с пленом. А Муса Джалиль? Если б не расстрел у немцев, то 25 лет наших лагерей были бы ему гарантированы.
Память о миллионах советских военнопленных, погибших в немецких лагерях... Только сейчас начинают об этом говорить, писать, да и то не во весь голос. А вот в Польше чтут их память. Там на местах бывших лагерей, а стало быть, на братских могилах, памятники. В Сувалках такой памятник для 46 тысяч. В июне 1983 года я был в Киеве, и мне показали памятник 68 тысячам погибших военнопленных. В сосновом лесу (теперь это в черте города, но на краю) скульптурная группа из серого камня: сплоченные фигуры, суровые, изможденные мужские лица. Поодаль огромная черная плита с надписью на украинском языке, а у входа в лес врыт прямоугольный в сечении железный столб с перекладиной наверху, чуть приподнятой подобно железнодорожному семафору. Все это ржавое, и негусто оплетено ржавым же железным прутом с приваренными к нему тут и там кусками толстой проволоки. Не то виселица, не то столб лагерного ограждения с колючей проволокой. Кругом тишина, сосновый дух, пение птиц, пронизывающие хвою солнечные лучи. Посетителей нет. Но вот откуда-то возникли два пожилых человека. По их виду, сгорбленности, худым лицам я почувствовал, что это бывшие военнопленные, и не ошибся. Мы со спутником подошли, разговорились. Они сидели в лагерях недалеко отсюда, хлебнули всего, но счастливы тем, что остались живы...
[Закрыть]. Чувствовалось, что он ждал, что я что-нибудь принесу. Я рассказал о слышанных мною передачах из Москвы, это было хоть что-то. Как я ругал себя за щепетильность! Надо было попросить денег у дяди Миши и купить ребятам хоть табаку!
Дядя сумел подбить на поездку в имение каких-то местных спекулянтов, обещая вместо платы «златые горы» в имении, и вот декабрьским вечером мы тронулись в дорогу. Было темно, шел снег, и открытый грузовик оставлял на асфальте черные мокрые следы. Все расположились в кузове, и кто-то из спекулянтов дал мне для тепла свой шарф, а когда мы еще шли к машине, мне бросилось в глаза, как спекулянты ухаживали за дядей Мишей, стараясь нести его чемодан, и как дядя слабо сопротивлялся. Ехали ночью, и я мало, что видел. В городе Лиде фары скользнули по разрушенным остовам домов, нащупали нужное место, и мы, совершенно закоченевшие, попали в жаркую, ярко освещенную комнату какого-то трактирчика, хорошо знакомого спекулянтам, согрелись самогонкой и – дальше. Где-то немец шофер, такой же спекулянт, сбился с пути, и спекулянты из кузова кричали ему: «цурюк – з повротем». Сочетание этих слов мне было очень смешно, и только много позже я понял, что слово «з повротем» это перевод немецкого «цурюк» – назад. Ночью вызвездило, и стало сильно подмораживать... Но вот грузовик остановился около какой-то ограды. Все зашумели, стали звать сторожа. Он откуда-то возник, открыл ворота, и мы въехали во двор. Лучи фар скользнули по полуразвалившимся стенам, машина описала полукруг и остановилась у одноэтажного белого дома. Появились заспанные люди, и мы вошли в темный коридор. К нам приблизился пожилой, сутулый, улыбающийся человек, и дядя Миша представил меня: «Вот твой племянник Андрей, а это дядя Поля». Дядя Поля приветливо встретил меня и повел в комнату отсыпаться. Начался следующий этап моей жизни.
ЧАСТЬ II
Глава 1. В ИМЕНИИ «ЩОРСЫ»
Если на географической карте соединить линией города Минск и Новогрудок, то в месте, где линия пересечет Неман, находится село Щорсы. Чуть в стороне от села старинное имение того же названия. История его уходит в далекие времена. В Польше эти места считаются историческими. Мицкевич не раз упоминал Щорсы в своих творениях, и, будучи уроженцем Новогрудка, он нередко приезжал в Щорсы, о чем можно судить по его письмам. Расцвета имение достигло во времена Екатерины II, а владел им поляк граф Хрептович. Он выстроил дворец с флигелями и прилегающими службами. Хрептовичи были образованными, культурными людьми. До первой мировой войны в имении находилась богатейшая библиотека с уникальными памятниками письменности. Последний Хрептович был очень богат. Достаточно сказать, что он владел 150 тысячами десятин пахотной земли, многочисленными фольварками (хуторами), сыроварнями, мельницами, винокуренным заводом. У графа не было прямых наследников, и все это перешло к Аполлинарию Константиновичу Бутеневу, единственному наследнику по женской линии. Это было еще до революции. А. К. Бутенев женился на моей тетке, сестре отца, тете Мане – Марии Сергеевне Трубецкой. С другой стороны, сестра дяди Поли тетя Маша была женой Григория Николаевича Трубецкого, брата моего деда и матерью дяди Миши, вытащившего меня из плена. После революции семья Бутеневых эмигрировала во Францию, где у них была небольшая недвижимость. Имение Хрептовича поляки сильно обкорнали, оставив дяде Поле 250 гектаров пашни и 10 тысяч гектаров леса. Дядя Поля стал графом Хрептовичем-Бутеневым, жил во Франции, а в имении сидел управляющий. Так было до 1934 года, когда в Польше был издан закон, по которому землевладельцам предлагалось жить на своей земле. В противном случае земля национализировалась. Дядя Поля переехал в Щорсы.
Надо сказать, что после Первой мировой войны все жилые строения в имении, да и все хозяйственные постройки, были в плохом состоянии. В 1915 году здесь стоял фронт: за Неманом наши, в имении немцы. Главная часть дворца сгорела. Сгорели оба флигеля, остались стены. Дядя отстроил почти заново здание библиотеки, сделав из нее хороший двухэтажный дом для своей семьи. Дом этот имел два крыла; в западном – кухня и ванна, во всей остальной части – комнаты, в центральной – небольшой зал с камином и библиотека. Все многочисленное семейство дяди жило в отстроенном доме до сентября 1939 года. В день перехода советско-польской границы – 17 сентября – наши войска были уже в имении. Дядя Поля полагал, что времена другие, что это не 1919 год и опасаться нечего, что он, конечно, не сможет преподавать свою любимую историю, так как не знает «политграмоты», но языки преподавать мог бы. Его вторая жена (тетя Маня скончалась за несколько лет до этих событий), бывшая учительница музыки детей дяди, собиралась преподавать музыку. Мысленно они уже выбрали себе город Одессу, справедливо полагая, что в имении жить будет нельзя. Но дядю посадили, а жену выслали на восток. (После долгих мытарств она через Иран, Африку и Италию вернулась во Францию, где впоследствии описала и издала свои «приключения».) Имение было разграблено, а детям удалось пешком пройти еще не установившуюся как следует границу. Причем их задержал патруль полевых, а не пограничных войск. Задержали и отпустили, иначе они остались бы здесь. Дядя сидел в тюрьме Барановичей, и, как он рассказывал, следствия никакого не было. В первые дни войны тюремная охрана разбежалась, и все заключенные оказались на свободе. Дядя вернулся в имение, которое в его отсутствие было совхозом. Немцы отдали имение бывшему хозяину, и дядя поселился во флигеле. Вскоре в имение приехал старый управляющий Малишевский с семьей, проведший два года в Вильно. Он вновь стал управлять имением. Это был пожилой, седой, крепкий и подвижный человек. На поля часто выезжал на велосипеде, по-русски говорил хорошо. Жена его была русской – особа властная, но недалекая. С родителями приехали три сына: старший Леопольд с женой Вандой, средний Боб и младший, почти мой ровесник, Андрей. С ними появился Ежи (Георгий) Гарда – знаменитый польский баритон, живший до войны в Италии, где он пел в театре Ла Скала. Летом 1939 года Гарда приехал на гастроли на родину, да так и остался из-за войны, осев в Вильно, где жила его мать. В 1941 году Ежи хотели, было, перетянуть в Москву как первоклассного певца, но вновь началась война. Леопольд был знаком с Гардой и, по-видимому, рассчитывая на скорый конец войны, предложил ему переждать это время в имении, где отец был управляющим. С Гардой впоследствии я очень сдружился.
В имении жил еще Вячеслав Александрович Данилов, бухгалтер, каковым он и был до 1939 года, а вместе с ним в одной комнате – Ступницкий. К моменту моего появления немцы национализировали имение, сделав директором Ступницкого. Был он «фольксдойчем», наполовину поляк, наполовину немец. Таких жаловали [8] 8
Впоследствии, когда мы жили в Новогрудке, я узнал, что немцы расстреляли Ступницкого. Говорили, что за связь с партизанами. По словам Гарды, хорошо знавшего жену Ступницкого, та уговаривала мужа уезжать. Но ему было жалко, как она вспоминала, расставаться с огромным резным и очень ценным буфетом, который он случайно и по дешевке приобрел. А, может быть, не буфет держал его, а жена чуяла неладное?
[Закрыть].
Все эти люди жили во флигеле, а бывшая библиотека пустовала («Белый дом»). Во флигеле жила еще старая няня детей дяди Поли Анна Михайловна, поехавшая с ними в эмиграцию. Это был тип настоящей няни, преданной семье до конца, добрейший и милейший человек. Она была неграмотна, но по разговору чувствовалось, что это няня аристократов. Здесь же жила старая-престарая экономка имения панна Леонтина, служившая еще у старого графа Хрептовича. Была она очень мила, но с возрастом склероз у нее зашел так далеко, что она нередко путала давно прошедшее с настоящим. Во флигеле же обитала мать управляющего Малишевского, молчаливая, седая и полная старуха, обожавшая сына и ненавидящая его жену. Та, кажется, отвечала ей взаимностью. Жена Малишевского полностью ополячилась, но русского языка не забыла. А вот мать управляющего по-русски никогда не говорила, по-видимому, из принципа. На всю эту компанию готовила кухарка, пожилая женщина по прозвищу «Шереметиха», получившая его за то, что к месту и не к месту приговаривала: «Вот, когда я служила у графа Шереметева...» Ей помогала Нюшка Рубан, девица немолодая, поджарая, очень бойкая на язык. Обе они жили в деревне. Комнаты убирала Катя, которая и до 1939 года занималась тем же. Эта тихая, слегка косящая молодая женщина жила в домике садовника с отпущенным военнопленным украинцем Костей, считавшимся ее мужем. Вот все те люди, которые меня окружали.
На другой день после завтрака и разговоров с дядей Полей я пошел прогуляться. Выйдя из флигеля, я сразу вперился в развалины дворца. Его уцелевшая высокая центральная часть была даже закрыта крышей, хотя местами белая жесть была содрана и выпирали крутые ребра стропил. В стенах глядели пустые окна. Остальная часть здания была без крыши, а флигель напротив имел только переднюю стену, да и то уже разбираемую, видно, втихомолку. На фасаде дворца была укреплена длинная широкая доска с надписью на латыни: «Pace et libertate» – «Мир и свобода». Большой двор замыкался металлической оградой с решетчатыми воротами (ночью мы взывали у этих ворот к сторожу), на которых был укреплен герб Хрептовичей – стрела, застрявшая в длинном усе; легенда говорит, что кто-то из Хрептовичей имел такие длинные усы, что это событие вполне могло иметь место, и как будто так оно и было. Справа и слева между флигелями и оградой были голые стены каких-то строений, стоявших друг против друга, но еще более раздвинутых. Это создавало хорошую перспективу для самого дворца. Строение, примыкавшее к разрушенному флигелю было складом зерна, а к жилому флигелю – одна из четырех сторон своеобразного каре, построек для дворни (дединец, как его называли), с собственным внутренним двором. Кроме жилых помещений, там были и конюшни. Все, в общем, продумано. В стене складов и дединца были сквозные, сводчатые проезды.
Я пересек двор и прошел мимо развалин флигеля, выйдя в довольно запущенный парк. Позже дядя Поля мне подробно о нем рассказывал, показывая редкие породы деревьев – плакучий ясень, пирамидальную липу и др. А сейчас меня поразил стоявший на поляне против дворца огромный дуб, которому было много сотен лет. Он как-то расселся в стороны, и из одного пня поднималось несколько растрескавшихся мощных стволов, и, чтобы они не развалились, их, видно, еще в давние времена стянули железными полосами.
Полосы эти глубоко въелись в тело дерева и местами заплыли наростами. В парке были запущенные дорожки и замерзшие пруды, на одном из которых, взломав лед, ловили рыбу. Тут же вертелся один из виленских спекулянтов. За парком к северо-востоку простирались луга, а за ними далекий синий лес. Окраина парка была прореженной, здесь заготавливали дрова для имения. Впоследствии я нередко подходил к лесорубам, рабочим имения. Часто пила вместе с деревом распиливала засевшую в нем пулю еще со времен Первой мировой войны. На северо-запад от парка через поле виднелись строения, обнесенные стеной с башенками по углам. Это был важный придаток имения – «мурованка» – от слова «мур» (стена) – все основные службы, хлев, конюшни, навесы для сельхозинвентаря, жилье.
К обеду я вернулся усталый. Спекулянты были недовольны: обещанные дядей Мишей «златые горы» не оправдались, они увозили немного рыбы, одного или двух баранов. Уезжал с ними и дядя Миша.
Странный он был человек. Жил все время во Франции, окончив там два ВУЗа по радиотехнике. Один из них был на юге Франции, где дядя помимо науки, увлекался боем быков. В 1938 году во Франции стали призывать на военную службу эмигрантов. Дядя Миша «внутренне воспротивился» (как он выражался) и стал подыскивать страну, приняв подданство которой, он освобождался от воинской повинности. Проглядывая список посольств, наткнулся на литовское. «Ба, Литва, провинция России, поеду туда!» К его удивлению, сам посол встретил дядю и его брата. Видно, посол был человеком сведущим и, когда ему доложили, что аудиенции просят князья Трубецкие, сообразил, что пришли потомки Гедимина. Подданство было устроено быстро, и дядя Миша переехал в Каунас (брат лишь изредка навещал его). В Литве его удивили две вещи: католичество, которое там процветало, и литовский язык. И то, и другое ему казалось странным и даже лишним в бывшей провинции Российской империи. На каунасском горизонте дядя был фигурой крупной. За ним, как тень, ходил соглядатай, почти не скрывавший своих обязанностей. Когда приезжал брат дяди, соглядатаев становилось двое. По словам дяди, власти побаивались чуть ли не переворота: два Гедиминовича, да еще из Парижа. Не знаю, насколько все это было именно так, но эти рассказы дяди Миши помню хорошо. Почему дядя остался в Каунасе, когда Литва стала советской, не скажу, не знаю. Он стал работать на радиофабрике, попал в ударники, и местная газета написала, что в таком-то цехе «социалистически визжит пила – это работает сознательный товарищ Трубецкаускас». Дядя говорил, что эта заметка его сгубила: фамилией заинтересовались, кому положено было заинтересоваться. Думаю, что не в заметке дело. Просто пришло такое время. Дядя Миша «сел» и сразу начал путать следствие, чтобы выиграть время, так как понимал, что война не за горами, и что немцы наших попрут. Он выдавал себя за чистокровного литовца, отрицал родство с моим отцом, требовал дополнительных выяснений. Сидел довольно долго и в камере выучил литовский язык, чем еще более путал следствие. Рассказывал, но как-то беззлобно, что его били, подвешивали за одну руку, удивлял его мат женщины-следователя, многие специфические и особенно яркие выражения которой он запомнил. Дальше события у него развивались, как у дяди Поли. Началась война. Охрана разбежалась. Правда, разбегаясь, успели расстрелять заключенных в нескольких камерах. Все это произошло за день до прихода немцев, чему способствовала вооружившаяся часть местного населения. В следственном корпусе дядя нашел свое дело, из которого взял на память фотографию – фас и профиль – снятую, как он говорил, после побоев. Тип получился, действительно, преступный.
Немцы заигрывали с литовцами и давали им большую волю, а литовцы теснили все русское, в том числе, и православную церковь. Как глубоко верующий человек, которому были близки интересы православной церкви в Литве, Михаил Григорьевич взялся представлять ее интересы перед властями. Вот, что представляло собой положение дяди к моменту, когда он вытащил меня из плена.
Итак, я стал жить в имении. Все мне казалось очень странным. Был плен и перспектива медленного а, возможно, и быстрого умирания в лагере в обстановке голода, унижения, бесправия, и вот теперь вольготная сытая жизнь под крылышком помещика, графа, пользовавшегося уважением окружающих и властей, жизнь, где бояться нечего, где можно делать, что хочешь. Так, по крайней мере, я думал вначале. Действительно, первое время я ел, спал, гулял. Да это мне и было необходимо. Потом, когда я оправился и окреп, дядя Поля говорил, что вид у меня был такой, что у женщин я не мог возбудить никакого другого чувства, кроме жалости.
Жившие в имении относились ко мне с большим уважением: племянник всеми почитаемого графа, да еще сам князь, да из немецкого плена, да после тяжелого ранения. Но чувствовал я себя в этой обстановке не совсем в своей – тарелке. Ведь всю жизнь из Меня выбивали чувство принадлежности к дворянскому сословию. Постепенно вырабатывалось ощущение, что это несмываемое, опасное клеймо, как черная кожа в давней Америке. Такое происхождение сулило лишь беды, унижения и уж, во всяком случае, большие неприятности. В сознании так и осталось, что родители «лишенцы», что меня не приняли в восьмой класс «ввиду социально чуждого происхождения» (а я так хотел учиться! И отцу стоило многих и долгих хлопот, чтобы все же приняли), а 1937 год? Несмотря на все это, я не отряхивал прах земля родной со своих ног, и люди из моего ближайшего окружения, вероятно, стали это постепенно чувствовать. Это сказалось и на моих тогдашних знакомствах.
По соседству в дединце жило несколько семей, которые в прежние времена назвали бы, пожалуй, дворней садовник Юшкевич, прозванный за усы «батькой Сталиным», на что он очень обижался. Жил он с женой и двумя детьми-подростками. Его старшая дочь Марыля работала медсестрой в Новогрудке, иногда бывая в Щорсах. Рядом с Юшкевичами – столяр Яроцкий, невероятно словоохотливый человек, затем кузнец старик Малой с такой же старой и молчаливой женой. Кузнец и столяр сильно не ладили между собой. Жил там сторож Лавникевич (его почему-то не любил дядя Поля) с семейством. Старший сын сторожа был механиком и недавно женился на «восточнице» [9] 9
Там так называли тех, кто приехал в Западные области с востока после 1939 года.
[Закрыть]Дусе, беженке, которая с началом войны пробиралась на восток к своим куда-то в Воронеж, да так и осела в Щорсах, найдя там свое семейное счастье. Жил там конюх, личность ничем не примечательная. Было там еще семейство Бузюк. Он – маленький шатен с висячим носом, она крупнее его, тип провинциальной красавицы, жгучая брюнетка. Оба не первой молодости. Были у них: дочь Галя в маму и сынишка в папу. Галя мне поначалу приглянулась, но когда я почувствовал, что приглянулся ей раньше – вот ведь как устроен человек, – интерес мой к ней пропал. Родители Гали всегда приглашали меня на семейные и календарные праздненства, где папа залихватски играл на гитаре, слабенько подпевая. Няня Анна Михайловна, относившаяся ко мне удивительно сердечно и по-родственному, всегда повторяла, чтобы с Галей не оставался с глазу на глаз и держался от нее подальше, «а то вон она какая нахальная». Бузюки были учителями маленькой школы в две комнаты, располагавшейся тут же.
В мурованке тоже жило несколько семей: сыровар Мефодий Сачко (няня произносила «Сачок»), Там же жил старик Гинц, что-то вроде старшины всех этих людей, худой, высокий и властный поляк. Его сына Колю я сразу запомнил по разговору, слышанному в первый день. Он советовался с Даниловым, как лучше «раскулачивать» трактор, брошенный в поле отступавшими частями. Потом я его часто видел удящим рыбу на Немане.
В деревне Щорсы дядя познакомил меня с семейством местного священника, где мы встречали Новый, 1942 год. В семье был сынишка и две дочки. В числе гостей был глава местного полицейского поста – белорус. Когда часы пробили двенадцать, а компания была уже навеселе, полицай вынул пистолет, сунул его в форточку и, как ни просил дядя Поля: не надо стрелять, пусть этот год будет без выстрелов, выпалил несколько раз в воздух. Дядя был очень недоволен. Потом мы с младшим Малишевским не раз захаживали в дом священника, где нас привлекали веселые поповны. Младший Малишевский был моим тезкой. Кто-то так нас назвал, и мы стали так звать друг Друга, а за нами и все остальные. Няня, которая поддерживала в себе аристократический снобизм с оттенком шовинизма – она не любила семейство Малишевских – не раз говорила мне: «Что это вы позволяете им так себя называть?» Мне это было все равно, а «им», по-видимому, импонировало: племянник графа, сам князь и тезка.
В деревнях Болотце и Щорсы, расположенных довольно близко друг от друга, жило человек пять отпущенных пленных. Костя, украинец, обитавший в имении, быстро меня с ними познакомил. Особенно близко я сошелся с двумя молодыми людьми, жившими в Болотце: Михаилом, бывшим санинструктором, и Василием. Первый – общительный, симпатичный – был родом откуда-то из южных областей. Он жил у крестьян Кореневских в «примах». Так в Белорусии называли молодых мужей, переходивших жить в семью жены. Их дом был на редкость гостеприимным. В длинные зимние вечера там собиралась деревенская молодежь на посиделки или «на кудельку». Девчата приходили с мотками кудели, прялками, садились у стенок на длинные скамейки, крутя в пальцах веретено, нажимая ногой на педаль столь же древней, но более совершенной прялки. Кто-нибудь из парней приносил скрипку (гармошка была не в моде), и вечер шел весело и незаметно. Миша все подбивал меня идти в «примы» и через свою жену даже подыскал невесту – девицу пригожую, с хорошим хозяйством. Но в «примы» идти мне что-то не хотелось.








