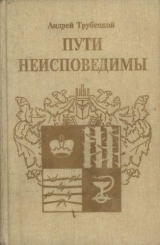
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Глава 3. ЛУБЯНКА. КАМЕРА № 46
Все тот же провожатый ввел меня в здание с намордниками на окнах и передал человеку уже в форме. Этот, спустившись в подвальное помещение, повел по коридорчику с множеством дверей. Здесь же находился надзиратель, который открыл одну из них. В маленькой комнате меня обыскали по той же схеме, что и в Ярославле. Потом поместили в малюсенькую комнатушку полтора на полтора метра, если не меньше. Как я узнал позже, такие камеры называются боксами – ящиками. Почти все пространство занимала тумбочка, показавшаяся неимоверно большой. На тумбочке лежала черная плоская пепельница. Сбоку впритык стояла табуретка, с которой дотянуться до двери не составляло никакого труда. Кругом тишина, но, если сильно напрячься, то иногда слышны какие-то шорохи, да тихий «разговор» водопроводных и канализационных труб в глубине стен. «Одиночка», – подумал я. Неужели уж такой я большой преступник, что меня привезли в главную тюрьму страны, да еще посадили в одиночку? Я помнил, что при арестах отца сажали всегда именно сюда, на Лубянку, так что это как бы свой, знакомый дом. Эта мысль странным образом успокаивала и даже утешала.
Время шло. Принесли не то завтрак, не то обед. Я уже решил, что здесь и буду все время сидеть и потому, изловчившись, чтобы не особенно было заметно в глазок в двери, стал расчерчивать на табуретке шахматную доску, отломив для этого небольшой кусок пепельницы. Черные поля начал закрашивать синим концом карандаша-горошины. Но вскоре меня вывели без вещей и провели через двор в главное здание. Там сфотографировали – фас и профиль – старинным кабинетным аппаратом, обшитым планками красного дерева, который своим мирным и добропорядочным видом никак не подходил к этому мрачному учреждению. Комната, где фотографировали, по-видимому, выходила на улицу. Она имела большие зарешеченные окна, стекла которых были закрашены белой краской. Эти окна старого здания можно было видеть с улицы, но теперь все перестроено. Затем снимали отпечатки пальцев, каждого по отдельности и всей кисти целиком. Для этого пальцы обмазывали черной мастикой и прикладывали к бумаге. Потом предложили вымыть руки. Возле умывальника лежала много поработавшая щетка и кусок хозяйственного мыла. Все эти подробности остро запечатлелись в памяти. Затем какой-то капитан описывал мою внешность. Делал он это сноровисто, бесцеремонно и деловито рассматривая детали моего лица. Это было и забавно, и неприятно одновременно. Так оценщик в комиссионном магазине принимает вещи. Меня вновь водворили в бокс, а через некоторое время повели в баню. Там постригли под машинку. Я смотрел на падающие волосы, и большая горечь разливалась в душе. После мытья под душем одели во все казенное, и я подождал некоторое время, пока мои вещи проходили прожарку (сколько их было потом!).
Вновь сидение в полной тишине. Но вот какие-то звуки доносятся справа. Приник к стене и, где-то рядом и в то же время очень далеко, услышал два голоса. Один солидный, мужской – другой совсем юный, девичий. Девичий голос что-то объяснял. Мой бокс располагался рядом с помещением, где обыскивали. Теперь там обыскивали какую-то совсем девочку.
Потом на лифте меня поднимали куда-то наверх. Лифт железный и разделен створками на две части: одна внутренняя для заключенного, внешняя – для конвоира. Створки были закрыты неплотно и в них виднелись проплывающие вниз лестничные площадки, каждая с большой железной дверью, выкрашенной в светло-зеленый цвет. У каждой двери надзиратель, в дверях форточки, как кормушки. На одном этаже кормушка была открыта, и надзиратель, чуть склонившись к ней, не то просто смотрел внутрь, не то разговаривал с кем-то, мне невидимым. На стене около каждой двери обычные фонари, большие параллелепипеды с тонкими черными контурами и диагоналями. Внутри белая стеариновая свеча. Это на случай, если погаснет свет. Вспомнилось, что такое случилось однажды по всей Москве.
Наконец лифт остановился, меня вывели, и я опять пережил процедуру стандартного и подробного обыска. На этом этаже помещалась канцелярия тюрьмы, которая только теперь официально меня принимала. Затем меня спустили на третий этаж, провели через железную дверь с кормушкой-форточкой и ввели в коридор, разветвляющийся на другие коридоры. Тут поместили в длинную, узкую камеру без окна с деревянным очень узким, как лавка, топчаном – тоже бокс. А через некоторое время, уже к вечеру, вновь вывели в коридор и впустили в камеру, где находилось шесть человек. После одиночного пребывания в полной тишине эта камера показалась многолюдной, а своим движением производила впечатление даже шумной. Это была комната средних размеров с высоким потолком, на котором был виден простой, но все же фигурный карниз, с большим зарешеченным и закрытым щитом окном, с паркетным полом. (Говорили, что раньше здесь размещались номера гостиницы.)
Первые слова, которыми меня встретила камера, были: «Не бойся, тут следователи не бьют». Встретили хорошо, дружелюбно и сочувственно. Дверь камеры вновь открылась и надзиратели внесли железную койку. Разместился я на ней поближе к параше. Таков закон. По мере освобождения мест и, следовательно, «старения» новичка, он передвигался подальше от параши. Лучшими местами считались углы у окна. Как раз раздавали ужин, и я в ответ на гостеприимство новых соседей поделился остатками пищи еще с воли. Угощались с удовольствием, хотя голода не было. Удовольствие заключалось в том, что пища эта была не казенная. Угощались и расспрашивали о новостях с воли, так как жили здесь в полной изоляции, а предыдущий новичок попал в камеру более месяца назад. Масса вопросов, но ни одного – о причине моего ареста.
Перед самым отбоем в десять часов послышались звуки отпираемого внутреннего замка. Все насторожились. Вошел надзиратель и, обратившись ко мне, спросил: «Ваша фамилия?» – «Трубецкой». – «Приготовьтесь на допрос», – и вышел. Следует сказать, что такой способ вызова на допрос не типичен. Возможно, это было сделано для новичка. Как правило, вызов на допрос происходил следующим' образом: вошедший надзиратель спрашивал всех по очереди их фамилии. Все замирали – допрос, процедура неприятная. Опросив всех, надзиратель указывал, кому приготовиться на допрос. Система продуманная, ошибки не произойдет, даже если надзиратель вошел не в ту камеру, где находится вызываемый. Да к тому же, еще одна игра на нервах. Подготовка к допросу заключалась в общении с парашей, что было присоветовано мне сокамерниками.
Дверь вновь открылась, и я с замиранием сердца вышел в коридор. Надежды, что мой арест недоразумение, которое сейчас выяснится, и я буду выпущен, у меня не было, хотя такая мыслишка где-то таилась. Я понимал, что имею дело с безжалостным, подлым и злым механизмом, и что именно такой будет разговор. Меня интересовало, в чем я буду обвинен.
Пока запиралась камера, меня поставили лицом к стенке, затем подвели к двери на лестничную клетку. Здесь коридорный надзиратель в присутствии другого надзирателя-конвоира поверхностно обыскал меня, осмотрел ботинки, попросив зачем-то повернуть их вверх подошвами. На лифте проехали один этаж вверх, затем в сопровождении надзирателя-конвоира пошли довольно длинным коридором. На поворотах надзиратель ставил меня лицом к стенке, а сам, во избежании случайных встреч, заглядывал за угол или щелкал каким-то особым способом пальцами и языком, давая знать о себе возможному встречному. Для этой же цели служила и электрическая сигнализация: на каждом повороте были выключатели. В коридоре местами стояли большие шкафы из крашеной фанеры – так называемые сундуки. В случае встречи двух заключенных одного сажали в сундук, пока не проведут другого. За все время я только один раз побывал в таком сундуке. (Любопытно, что глагол «сажать» здесь, в этой системе, приобретал одно и только одно значение.)
Коридор вышел в небольшую узкую проходную комнату с окном. У окна стол, на нем большая раскрытая книга. Одна страница ее пустая, а на другую положен металлический лист с прорезью в одну строку. В эту прорезь меня записали, записали и часы моего отбытия из пределов тюрьмы, а я расписался в конце строки – так тюрьма вела учет движения заключенных. Здесь меня еще раз поверхностно обыскали. У книги дежурила почтенного вида надзирательница с планкой ордена Ленина на груди. «Наверное, и мой отец проходил мимо нее», – подумал я. Дверь из комнаты вывела на большую, широкую лестницу, пролеты которой были затянуты металлической сеткой (позже в камере мне говорили, что эта сетка со времен самоубийства Бориса Савинкова, бросившегося в пролет этой лестницы). Один марш лестницы и вновь лифт, так же разделенный надвое, лифт более современный, чем старомодный лифт в тюрьме. Около лифта сундук. Выходим. Дверь. Коридор вправо и влево. Вправо – в старое здание, влево – в новое. Идем налево. Комната N 555а. Конвоир стучится. Входим. Довольно просторная комната с окном во двор. В комнате три стола: два у окна лицом друг к другу, третий – справа от двери напротив шкафа. Слева от двери тумбочка и стул. Между тумбочкой и левым столом кожаный диванчик. За всеми столами работающие, что-то пишущие военные – два капитана и майор. На диванчике еще один человек в пиджаке, но в галифе и сапогах. Как вскоре выяснилось, это был мой следователь, лейтенант Виктор Шелковский, еще очень молодой человек, блондин, внешне напоминавший одного из наших студентов – Мишку Виноградова. Начал он:
– Ну, рассказывай, в чем виновен?
– Мне нечего рассказывать.
– Так мы и поверим! А ты знаешь куда попал?
– Знаю, в МВД.
– В МВД? – переспросил он чуть ли не с отвращением, мой ответ, по-видимому, обидел его.
– А знаешь ли ты разницу между МВД и МГБ? Ты сидишь в МГБ!
– Ну, в МГБ, – ответил я, стараясь показать свое равнодушие к этому обстоятельству.
Дальше последовал длинный монолог о том, что только чистосердечное и полное признание всех моих вин может облегчить кару органов и т.д. и т.п. Слушая все это, улавливая особенно тон этой речи, я стал догадываться, что это стажер, а сидящие за столами – экзаменаторы, а я – материал, на котором учатся. С каждой фразой Шелковского это впечатление крепло и под конец даже развеселило меня и развлекло. Затем весь разговор пошел вокруг моей биографии. Теперь, сидевшие за столами чины, которые, казалось, были погружены в свои собственные дела, отрываясь от них, перебивали меня, сбивали меня, переговаривались на мой счет репликами между собой вроде: «Вот врет, вот врет!» Поначалу эта свора, действительно, меня несколько сбила с толку: я пытался отвечать и возражать каждому. Меня удивил их единый и солидарный фронт отчуждения и гадливости, презрения и ненависти ко мне. Но скоро я понял, что это хорошо сыгранная команда, что это система: унизить, сбить с толку, заставить потерять веру в себя человека неустойчивого, намутить воду, а затем ловить в ней. Я стал спокойнее реагировать на все эти выпады и наскоки, а они продолжали источать и зло, и наигранное возмущение мной «чистых и честных» людей [31] 31
«24-го вечером опять потребовали меня, и я нашел то же собрание. Сегодня вопросы были многочисленнее; два, три человека спрашивали меня разные вещи в одно время с насмешками, колкостями, почти ругательствами, один против другого наперерыв. Я, наконец сказал: «Господа, я не хочу отвечать всем вместе; каждый спрашивает разное; извольте спрашивать меня по порядку, и тогда я буду отвечать». Г.А.Голенищев-Кутузов (с громким хохотом): «Нет, эдак лучше, скорей собьется!» (Из «Записок князя СЛ.Трубецкого», изд. ред. журнала «Всемирный вестник», 1906 г., с.18-19.)
[Закрыть]. Но вот один из них встал и ушел. Мой следователь сел на его место писать протокол. Здесь также все строилось на оскорблениях, стремлении унизить, показать, что я чуждый и сомнительный человек, которому нет места в нашем обществе. Если бы я был проницательнее и зная статьи Уголовного кодекса, то по всему этому догадался бы, что меня собираются причислить к категории социально-опасных, куда относятся, между прочим, и проститутки, и подвести под статью «7-35», что и было потом сделано. Но что было потом – будет ниже.
Для очернения и набрасывания тени использовалось абсолютно все: и то, что я жил в одном месте, а прописан в другом, и родители, и фамилия. На листе первого протокола допроса так и стояло: «такой-то, из князей». Причем, эта редакция появилась после многих моих возражений против каких-то совершенно неприемлемых словосочетаний. Велась спекуляция и на фамилии жены. Ее самое пока еще не задевали, но на следующих допросах следователь несколько раз пытался и ее ввести в круг лиц, обсуждаемых здесь, старался дать понять, что и она может быть «привлечена». Поводом служили, например, Еленкины записные книжки, изъятые при обыске, книжки с цитатами из Анны Ахматовой, считавшейся тогда чуть ли не криминальной фигурой. Нередко Шелковский прохаживался и насчет Еленкиното происхождения. Но далеко не заходил, не имея, по-видимому, инструкций. Это меня несколько успокаивало.
Первый допрос касался начальной части моей биографии. Тогда же, в тот вечер, с соблюдением всех процедурных по форме и срокам подробностей мне был предъявлен ордер на арест. (Длительные и многократные общения мои с Шелковским постепенно открывали эту натуру чиновника-бюрократа, соблюдавшего все внешние формальности закона, и по мелкости своей да, пожалуй, из-за отсутствия опыта, не пускавшегося во «все тяжкие», как это делали другие матерые следователи. Этот мелкий и мелочный человек был нужным исполнительным винтиком в дьявольском механизме [32] 32
Уже в 60-х годах я встретил Шелковского на улице, в проезде Серова. Так мне, во всяком случае, показалось. Низенького роста, конечно, повзрослевший, навстречу мне шел очень на него похожий капитан госбезопасности. Встреча была настолько неожиданной и молниеносной, что я так и не решил, надо ли его окликнуть. Было любопытно, что он уцелел в чистке органов после крушения Берии и «разоблачения культа личности», когда многие коллеги моего следователя исчезли с лица земли вообще, а многие лишились мундира. Но этот вот уцелел. Да оно и понятно. Повторяю, был он человек мелкий, исполнительный. При встрече он, по-видимому, не узнал меня.
[Закрыть].) Наконец допрос кончился. Шелковский вызвал по телефону конвоира, и я тем же путем вернулся в уже спящую камеру, расписавшись в «железной» книге. И около нее – вход в тюрьму – и перед камерой меня вновь обыскивали. Следующий допрос состоялся только через две недели.
Как я уже сказал, в камере помещалось шесть человек: экономист Крамер, некто Астров – бывший известный бухаринец, художник Боков, студент-геолог Степанов, инженер-экономист Майский и молчаливый, простецкий на вид украинец, фамилию которого я забыл. Опишу их и их дела насколько помню.
Крамер Исаак Израилевич (или Израиль Исаакович) сидел уже второй раз, то есть был повторником. Первый раз он сел в 1937 году по статье «58-7» – экономическая контрреволюция. Как он рассказывал, ему «пришили» эту статью за финансовую операцию, которая была вполне законной, но ее представили незаконной и баста. Тогда все могло быть, и Крамер получил десять лет. Провел он их на Колыме и спасся только благодаря тому, что смог устроиться санитаром, а потом фельдшером в лагерной больнице. Когда узнал, что я учился на биофаке, то прямо сказал, чтобы в лагере я говорил, что я студент-медик. «Кто в любых условиях живет, так это медики», ~ добавил он. Позже я почувствовал всю правоту его слов. После отбытия срока ему удалось вернуться в Москву – обстоятельство по тому времени весьма редкое. В Москве ему сделали операцию по поводу рака горла, вставив трахеотомическую трубку, так что разговаривать он мог, только зажав ее. 1949 году Крамера арестовали, для проформы вели следствие, но следователь был откровенен и без обиняков сказал: «Нового у вас ничего нет, за старое мы вас не судим, но жить в Москве вам нельзя». Болезнь его прогрессировала, и месяца через два-три после моего появления Крамера взяли от нас в довольно тяжелом состоянии. Крамер много и интересно рассказывал о лагерной жизни и нравах и любил приводить всегда к месту лагерные пословицы, поговорки, словечки.
Впервые он него я услышал такую притчу о нашем положении: «В сильный мороз летел воробей, замерз и упал на землю. Тут проходила корова и накрыла воробья кучей теплого навоза. Воробей отогрелся, высунул голову и начал чирикать. Пробегавшая мимо кошка услышала его, вытащила из навоза и съела. Так вот, – заключал Крамер, – не всяк твой враг, кто тебя обкладывает. И в говне можно жить. Попал в говно – не высовывайся и не чирикай. И не всяк твой друг, кто тебя из говна вытаскивает». Крамер был человеком умным, опытным и стойким, и мы, новички, много от него получили. Правда, в камере не все были новичками.
Следующий житель камеры № 46 третьего этажа – Валентин Николаевич Астров – в свое время был крупным человеком. В конце двадцатых годов он был редактором «Ленинградской правды», журнала «Коммунист», кончал институт Красной профессуры. В 1937 году он чудом уцелел, хотя и сидел. Говорил, что тогда его спас очень большой человек, но кто это был – Астров не называл. Сидел в закрытой тюрьме в Суздале, из которой вышел в ссылку в Воронеж. Часть войны был в армии, а потом ему удалось вернуться в Москву. Астров обладал замечательной памятью – наизусть по главам декламировал он нам «Евгения Онегина», «Графа Нулина». Очень интересно рассказывал о событиях, предшествовавших Февральской революции в Смоленске, о самой революции. Говорил, что до ареста начал писать об этом времени книгу. И, действительно, на рубеже 60-х годов на прилавке киоска «Союзпечать» я как-то обнаружил книгу: Астров – «Огни впереди». Листаю – слово в слово знакомое мне содержание. Позже вышла вторая его книга «Круча» о борьбе оппозиционеров в стенах института Красной профессуры. Так, по крайней мере, мне тогда показалось, когда я листал ее у прилавка. Она изобиловала официальными штампами, и читать ее мне не захотелось. Сидел Астров уже больше года, но не только в нашей камере. У него был хороший голос, и он нередко напевал под сурдинку, очень тихо, русские романсы, арии из опер. Рассказывал, что иногда подрабатывал в церковных хорах Москвы (вот уж, действительно, «и Богу свечка и черту кочерга»). Одновременно работал в каком-то учреждении. В разговорах был осторожен, все действия властей – настоящие и прошлые – оправдывал, говоря, что так надо, так необходимо, что все это вынужденные меры. Его довольно часто вызывали на допросы, но держали недолго. Говорил, что все время дает устные или письменные справки о тех или иных лицах, учреждениях, организациях, что было вполне правдоподобно, ибо фигурой он был крупной, а памятью обладал феноменальной. Когда в камеру попадал новичок, Астров ничего не спрашивал, а садился на свою койку и, закрыв глаза, только слушал, что спрашивали другие, и ответы пришельца с воли. Как человек, давно сидящий, он получал дополнительное питание – белый хлеб с маслом. Получали ли все, давно сидящие; такой «доппаек» – не знаю. После ухода Крамера к нам прибыл новичек, но из опытных повторников. Получилось так, что у меня с этим новичком установились хорошие отношения, и он сообщил мне, что считает Астрова камерным стукачем. По-видимому, это так и было. То, что в камере есть стукач, стало ясно по одному эпизоду, о котором расскажу в своем месте. Со своих кратких допросов Астров возвращался довольно спокойным. Но однажды его продержали долго, и вернулся он явно расстроенным. Оказалось, что следователь предъявил ему обвинения по большому наборов пунктов <58» статьи: тут и измена, и контреволюция, и террор, и групповая агитация. Это грозило 25-ю годами. Ну что ж, дружба дружбой, а табачок врозь, – ему предъявили все обвинения бухаринской группы [33] 33
В «Литературной газете» за 29 марта 1989 года было напечатано покаянное письмо В.Н.Астрова «Как это произошло», характеризующее и его самого, и его подлую роль в бухаринском деле. Комментируя предсмертное письмо Н.Бухарина («Известия» ,№ 226 от 13 октября 1992 года), его вдова А.Ларина пишет, что во время следствия «..делись допросы профессиональных провокаторов, в том числе его бывшего ученика В.Астрова, завербованного ОГПУ еще в конце 20-х годов». На это утверждение А-М-Лариной Астров отреагировал 27 февраля 1993 года письмом в «Известия» (№ 38). В нем такая фраза; «Когда мне по окончании следствия (в апреле 1933 года) предложили подписать обязательство сообщать НКВД об антисоветских высказываниях или действиях в окружающей меня среде, я не нашел возражений и безоглядно, не предвидя всех возможных последствий, ухватился за это, как единственную для меня доступную «ниточку», хоть как-то связывающую меня с партией, к которой я прирос с юношеских лет». Это «обязательство сообщать» мы чувствовали в камере. Астров тут же утверждает, что «полностью требований «рассказать о террористической деятельности правых» я все-таки не выполнил...»
Отсутствие в покаянном письме в «Лит.газете» факта признания подписки сотрудничать с органами Астров объясняет тем, что тогда, в 1989 г. он «был связан еще обязательством неразглашения подробностей работы органов госбезопасности». Далее он утверждает «Мои показания против него» (Бухарина – А.Т.) «(на очной ставке в присутствии Сталина и других членов Политбюро) не были решающими в его судьбе... К тому же на самом процессе они не фигурировали».
Точку на всем этом ставит комментарий «От редакции «Известий»: «Из справки, подготовленной на основе архивных материалов для комиссии Политбюро ЦК КПСС... Установлено также, что один из основных «разоблачителей» Н.И.Бухарина – В.НАстров являлся секретным сотрудником НКВД и использовался в разработке дела «правых». Обращает на себя внимание подчеркнуто агрессивное поведение В.Н.Астрова на очной ставке в Политбюро 13 января 1937 г. по отношению к Н.И.Бухарину. Из стенограммы этой очной ставки видно, что, давая на Н.И.Бухарина показания, В.Н.Ас-тров усердно старался «разоблачить» и себя (...). За это «усердие» В.Н-Астров вскоре после очной ставки по указанию И.В.Сталина 9 июля 1937 года был освобожден из под стражи, а уголовное дело на него прекращено. В деле имеется резолюция Н.И.Ежова: «Освободить. Оставить в Москве. Дать квартиру и работу по истории».
Позже, в декабре 1943 г., в личном письме Л.П.Берии (оно хранится в деле) В.Н-Астров ставил свое поведение в особую заслугу, подчеркивая, что он «способствовал «разоблачению» не только Н.И. Бухарина, но и АИ.Рыкова, других «правых», и на этом основании просил своего могущественного адресата оказать содействие в восстановлении его в партии» («Известия ЦК КПСС». 1989, п 5, с.84).
Реплика Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП/б/1937 г.: «Что касается Астрова, то у меня впечатление такое, что он человек искренний, и мы с Ворошиловым его пожалели...» («Вопросы истории». 1992, №№4-5, с.ЗЗ).
И последнее об Астрове. Году в 1958 я встретил Астрова в метро. Он ехал с двумя женщинами средних лет, вероятно, дочерьми, был в дорогой зимней шапке и хорошо одет. Я сидел, а он стоял против выхода у других дверей. Я все приглядывался к нему и, наконец, определенно узнав, в первый момент даже хотел встать и подойти, но, вспомнив, кто он, раздумал, хотя уже встал с сидения. Встал и подошел к выходной двери, облокотившись о поручень и машинально заложив правую руку за борт зимнего полупальто. На станции «Электрозаводская» они стали выходить. Вышли его спутницы, а он все медлил, потом как-то сжавшись, боком, опустив голову, проскочил мимо меня уже перед самым закрытием дверей. У меня не было никаких плохих намерений в отношении Астрова, но, видимо, совесть его была нечиста, если он так явно струсил и забоялся человека, который его, как он понял, узнал.
[Закрыть].
Теперь о художнике Бокове. Как рассказывали, появление его в камере было не совсем обычным. Когда к нему обратились с первыми вопросами и расспросами, он ответил, что сначала спросит начальство, можно ли с такими людьми разговаривать, и довольно долго молчал, считая, что здесь враги и политические преступники, а он попал по недоразумению, которое вот-вот выяснится. Следующий номер, который он выкинул, была совершенно серьезная просьба к надзирателю послать его работать, наколоть дров. Сел он за то, что, будучи комсомольцем двадцатых годов, присутствовал на собрании группы, принадлежавшей к троцкистской оппозиции. Кого-то из этой группы взяли и выспрашивали, кто на каких собраниях присутствовал. Названных арестовывали спустя четверть века после собрания. Впоследствии людей с такой «виной» я встречал довольно много. Боков был человеком добродушным и очень тяжело переживал это несчастье. Следствие у него проходило спокойно, он все подписывал. А в 60-х годах я его случайно встретил, сильно постаревшего, поседевшего. Я назвался, он вспомнил меня, засиял, заулыбался, как будто вспомнил доброе старое время, представил жене. И мне было приятно встретить его, пережившего то страшное время, добродушного, незлобивого и мирного человека.
Следующий – Юрий Степанов, он же Бен Долговязый, он же Командор Черного Легиона. Юрий был студентом 5 курса геологоразведочного института, родом из Таганрога, где у него остались старики родители. Дело, по которому сел Степанов, было довольно любопытным. Их было человек шесть-семь; молодежь, но не зеленая, а повидавшая жизнь, прошедшая школу войны, а некоторые и оккупацию. Позже я довольно близко сошелся с тремя однодельцами Юрия. Дело этой группы состояло в следующем. Сколотилась «теплая» компания студентов-геологов, вместе проводившая свободное время, вместе выпивая. Как это ни странно, их, в общем, уже взрослых людей, объединяла романтика пиратов. Когда шел кинофильм «Остров сокровищ», они всей компанией устремлялись в кинотеатр. Клички выбирали из того же пиратского лексикона: Крошка Джонни Фоке – ячменное зерно (Николай Федоров – здоровенный парень) или Боб Гарвей – Борис Горелов – персонаж из «Детей капитана Гранта». К этой кличке была добавлена приставка «Шмаленая челюсть» (у Бориса было ранение в голову) и т.п. Второразрядные московские ресторанчики были у них под своими, соответствующего стиля вывесками: «Три пескаря», «Телега и лошадь», «Корзиночка». Название своей группе они дали высокопарное – «Черный легион». Был у них и свой «пиит», слагавший пиратские песни, гимны и стихи – студент медик Вадим Попов. Но за этой романтической и несерьезной декорацией была и более глубокая суть. Корни ее лежали, по-видимому, в неудовлетворенности и отсутствии той перспективы в жизни, на которую они могли бы рассчитывать. Бен Долговязый и Боб Гарвей во время войны жили в оккупированном Таганроге, Борис даже был вывезен в Австрию, а Бен попал в плен, бежал и с большим трудом добрался домой. Уже поэтому таким людям дороги у нас были закрыты. А ребята были энергичные, умные, достойные. Николай Федоров – Крошка Джонни Фоке – фронтовик офицер-артиллерист – вернулся с войны с наградами. Для него этих ограничений не было. Но это был человек тщеславный, карьерист (позже я хорошо его узнал). Он явно не удовлетворялся перспективой быть просто геологом. Чуждым элементом в этой компании был Вадим Попов, но он от нее откололся еще до ареста. Что было у других членов этого «легиона», не знаю. Но неудовлетворенность и бесперспективность у основного ядра заставила ребят искать какой-то выход. Они его нашли в побеге за границу, к которому и стали готовиться. В то лето все они, геологи, были в экспедициях, преимущественно, в пограничных районах: Бен – на Тянь-Шане, Боб – на Памире в районе Хорога. Его задачей было постараться намыть золота, на которое много ставилось, да еще разведать возможность перехода границы. Там, в экспедициях, они и были арестованы.
В камере Бен с удивлением рассказывал, что следователь был прекрасно осведомлен о мельчайших подробностях всех событий и даже разговоров «Черного Легиона». Бен ломал голову, откуда они так все знают, как раскрыли их группу? Мы строили всяческие догадки, а ларчик открывался, оказывается, очень просто. Я уже говорил, что Вадим Попов отошел от этой компании и что он писал стихи. С Вадимом я оказался в одном купе вагонзака (то есть вагона с заключенными) на этапе, и он все рассказал. Вадим стал посещать литературный кружок молодых поэтов в Сокольниках. В кружке он познакомился с девицей, тоже любительницей поэзии, но внедренной туда органами для наблюдения и осведомления. Она близко сошлась с Вадимом, он ей читал стихи, в том числе, и так называемые антисоветские, за что и сел. Следствие у него так и шло по его одному делу – антисоветская агитация, хотя Вадим никого, кроме этой стукачки не «агитировал».
Оформляя дело, следователь все время твердил, что это присказка, что сказка будет впереди – избитый их прием. Вероятно, от этой же стукачки следователь знал, что у Вадима были друзья, и однажды, как это они обычно делают, задал вопрос, когда спрашивал о друзьях: «А как называлась ваша организация?» – «Черный легион», – ответил тот. Следователь снял трубку и, набрав какой-то номер, спросил кого-то: «Ну, как? Признался? Назвал? Говорит «Черный легион?» И этот тоже признался. Говоришь, начал рассказывать? Ну вот». Из этого разговора, разговора только для него, Вадим уяснил, как и рассчитывал следователь, что кто-то уже сидит и уже раскололся, то есть стал признаваться. И Вадима понесло...
Следователь выжал из него абсолютно все вплоть до мельчайших подробностей, фраз, эпизодов. Знание следствием всего этого так обескураживало потом Бена. Следователи, по рассказам Бена, ржали, как жеребята, слушая всю эту галиматью и ребячество, но дело свое знали и оформляли без смеха на серьезный лад. Клички были записаны только «Бен», «Боб», «Фоке» и т.д. – без всяких добавлений. Ребята, как впрочем, большинство народа, отрицательно относились к МГБ. Бен даже как-то выразился в компании, что не моргнув глазом, ухлопал бы какого-нибудь полковника из этой публики. Так появился 8-й пункт – террор – причем, было сказано, что готовилось покушение на представителя власти. Все стряпалось в таком же духе и, хотя дело больше походило на чеховский рассказ «Мотигомо-Ястребиный коготь», вся группа получила по 25 лет спецлагерей.
Иногда с допросов Бен приходил мрачный. Однажды он рассказал, что жена дала ему развод (много позже, уже на свободе Бен поведал, что он сам просил развода, но потом, уже на воле они вновь соединились, и теперь у них взрослая дочь). Это его страшно расстроило, и мы утешали его как могли. Бен все это переживал тяжело, и в такие времена на него нападала черная меланхолия. Угрюмый, он бродил по камере или неподвижно сидел с мрачным видом, углубившись в свои невеселые мысли. Стал покашливать, и это расценил как начало туберкулеза (в лагере у него, действительно, обнаружили туберкулез). В такие минуты его бодрость и оптимизм испарялись. По натуре он был оптимистом. С Беном мы часто спорили о самых разных вещах, много играли в шахматы и тоже спорили. Временами пиратская и блатная романтика из него так и перли, это был какой-то пунктик, и он внешне старался походить на блатного. При всем том, несомненно, был умным и незаурядным человеком [34] 34
Спустя много лет мы встретились с Беном у Бориса Горелова, с которым я сдружился в лагере. Сидели у Бориса дома и выпивали, вспоминая далекое прошлое – шел 1975 год. После Лубянки Бен был в Воркуте. Он там провел много времени в туберкулезном отделении лагерной больницы, где помогал патологоанатому ЛД.Крымскому (позже я познакомился и с ним). После реабилитации (теперь все члены «Черного легиона» реабилитированы «за отсутствием состава преступления») Бен остался на Севере, работал геологом на шахте. Заслужил почет, уважение, орден Трудового Красного Знамени, три шахтерские «Славы», написал и защитил докторскую диссертацию и не без гордости говорил, что он единственный доктор наук на всю Воркуту, но во многом остался все таким же любителем блатного пошиба. Вспоминая .совместное сидение в камере № 46, Бен сказал, что я однажды его сильно обидел, заявив, что бежать заграницу – это жизненная ошибка. Он был обижен и поэтому помнил, хотя многое из тогдашней жизни забыл начисто.
[Закрыть].
Следующий сокамерник – Майский Владимир Львович (кажется, так) – работал инженером в одном из многочисленных московских почтовых ящиков. Сел он за то, что в далекой молодости не то выступил на каком-то троцкистском собрании, не то подписал какую-то «не ту» бумагу, будучи еще только комсомольцем. Его следователь из кожи лез, чтобы доказать, что сегодняшнее антисоветское поведение Майского – прямой результат тогдашней троцкистской позиции. Майский был человеком экспансивным, легко возбуждающимся и следователь, видимо, не плохой психолог, нарочно «заводил» своего подопечного, чтобы тот, воспламенившись и потеряв контроль, что-нибудь да и сболтнул. Благодаря Майскому, нам стало ясно, что в камере сидит «наседка». Как-то придя с допроса очень возбужденным, он сказал, что следователь его обвиняет в антисоветской критике нашей литературы, отрицании, в частности, такого произведения как «Кавалер Золотой звезды» Бабаевского. Когда Майский успокоился, его осенила мысль вслух, что этот материал следователя – из камеры, так как на воле он не читал «Кавалера» (прочитав в камере эту книгу, экспансивный Майский, не стесняясь в выражениях, ругал ее). Еще запомнился рассказ Майского о сыне Берии – инженере у них на работе. Был какой-то банкет, на котором присутствовал молодой Берия. Одним из участников банкета был рассказан случай, как он предотвратил побег заключенных, работавших на этом предприятии. Рассказ был явно рассчитан на внимание Берии-младшего. Тот, действительно, обратил внимание, отозвавшись явно неодобрительно о действиях рассказчика: «Не надо соваться не в свое дело» [35] 35
Года за два до этого мне довелось видеть, правда, мельком Берию-старшего. В университете в нашей группе училась студентка Лейцина, маленького роста, изящная, с тонкими, очень правильными чертами лица – еврейская красавица. Жила она у Никитских ворот, и мы иногда вместе шли с занятий вверх по улице Герцена. Однажды нас обогнала правительственная машина. Я ее услышал по характерному низкому гудку, когда она была еще сзади, и, насторожившись, поглядывал через голову спутницы, кто это едет. Машина прошумела, и я увидел рядом с шофером Берию. Не доезжая до консерватории, машина остановилась около какого-то лечебного учреждения. Из машины почти одновременно вышли двое: женщина, скрывшаяся в подъезде дома, и «лазоревый» полковник, который начал прогуливаться взад и вперед по тротуару около машины. Ехавший сзади ЗИС, крытый брезентом, разом замер на середине улицы. Он был битком набит охраной. Все ее члены сидели в напряженной позе, подавшись вперед и сверля глазами все вокруг. Мы продолжали пяти и прошли мимо машины. Берия, положив руки на портфель, стоявший у него на коленях, повернул голову направо и рассматривал пешеходов. Было заметно, что он обратил внимание на мою спутницу. Мне запомнились его крючковатый нос и водянистые глаза осьминога за стеклами пенсне, глаза, провожавшие мою спутницу. Мы миновали машину. Через некоторое время я вновь услышал сигнал машины, и Берия обогнал нас. Теперь он уже активно рассматривал мою попутчицу, а я еще раз внутренне содрогнулся. Лейциной встреча эта была не замечена и, кажется, прошла без последствий.
[Закрыть].
Совсем немного о шестом сокамернике, молчаливом украинце, который деловито готовился к лагерю – сушил сухари. Фамилии его не помню и так и не знаю, в чем его обвиняли, что-то очень путаное. Вероятно, ему было что скрывать, он все помалкивал, зная или интуитивно чувствуя, что в камере есть уши следователя. Арестован он был на одном из московских вокзалов, и как будто в его вещах нашли гранату. Рассказывал о службе в армии на Западной Украине, где был шофером. Однажды он ехал лесом, и его остановил небольшой отряд наших внутренних войск и просил довезти в город Его удивило, что все солдаты были очень молчаливы, а в городе слезли на тихой улице далеко от казарм. Это показалось подозрительным, и он доложил своему начальству. Как выяснилось позже, это были переодетые бандеровцы. На этот рассказ Астров отреагировал так «Вы обязательно расскажите это следователю, обязательно. Это может очень вам помочь». Возможно, Астров что-то знал о деле украинца.
Когда освободилось место Крамера, прибыл новичек, некто Ядров-Ходоровский. О его национальности трудно было сказать что-либо определенное. Возможно, он был еврей. Вид у него был южанина, а манера говорить – одессита. Он не вошел, а вполз в камеру, держась за стенки. Как он говорил, у него было окостенение позвонков, из-за чего всякое движение было затруднительно. Правда, у меня было некоторое сомнение и даже подозрения, что Ядров несколько утяжелял свое состояние, человек этот прошел многое и был достаточно опытен. В заключение он попадал второй раз. Первый раз сел в 1934 году, когда его обвинили в том, что он передал немцам какие-то чертежи. Даже нашли человека, через которого он передавал. Ядров требовал очную ставку. Ставку дали. Свидетель твердил свое: через него были переданы секретные чертежи. Тогда Ядров пошел на хитрость.
– Да, сознаюсь, чертежи передавал.
Следователь рад, спрашивает:
– Какие чертежи?
Ядров спрашивает свидетеля:
– Чертеж резервуара был?
– Был.
– А чертеж помпы был?
– А специальная игла была?
– Было, было, – следователь все записывает.
– И приложено описание?
– Да, приложено.
– Так я тебе чертеж примуса передал, подлец ты этакий! – и, набрав полный рот слюны, плюнул лжесвидетелю в физиономию. Так лопнул этот мыльный пузырь. Но это стоило года сидки. Теперь же ему предъявили обвинение в том, что он хранил антисоветскую литературу. За таковую приняли политические карикатуры, публиковавшиеся открыто в 20-х годах, и изъятые у него при обыске... в 1934 году! Но помимо этого Ядрова обвиняли в каких-то древних связях с эсерами.
С момента ареста прошло почти три месяца, а Ядрова ни разу не вызвали на допрос, не предъявили обвинения. Это было явным нарушением уголовно-процессуального кодекса. Ядров уже предвкушал, какой скандал он поднимет в наш век соблюдения формальностей. Но вот его вызвали на допрос. Вернувшись, он рассказал, как следователь ужасно нажимал, заставляя подписать какую-то явную напраслину. Ядров упирался, и следователь, сдавшись, пошел на попятный, приняв то, что говорил Ядров, и протокол был подписан. Перебирая в памяти ход допроса, Ядров вдруг начал страшно себя ругать. Только в камере он сообразил, что протокол был датирован не сегодняшним числом, а двумя месяцами раньше. Так, его, умудренного опытом человека, провели и одновременно обошли нарушение законов. Возможно, следователь был предупрежден тем же Астровым о намерениях Ядрова и разыграл этот психологический этюд.








