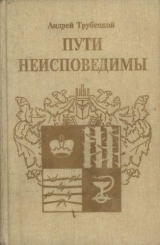
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Днем делать было нечего. Кто спал, кто читал, играли в карты, шашки, шахматы. Вечером раздавалась команда по-польски: «До модлитвы!» Отряд выстраивался, все снимали фуражки, держа их на левой полусогнутой руке. Один читал молитву – все хором повторяли. Мы также пристраивались на левом фланге и, сняв фуражки, стояли по команде смирно. Эти минуты своей суровой торжественностью глубоко врезались мне в память: вечерний лес, в небе еще светло, а под деревьями уже густые тени, тишина, и только приглушенный хор полсотни голосов, почти шепотом повторяющих «Отче наш».
Мы попросили Конву брать и нас на акции, назначать в патрули и стали, как и все, патрулировать дороги и просеки в окрестностях отряда. Выходили в кромешной тьме, часа в два—три утра, вчетвером – три поляка и один из нас. Мне попадался один и тот же маршрут; вдоль большака к опушке леса, с которой, когда рассветало, можно было видеть деревушку Махарце и кусок шоссе Августов-Сейны. Выходя на большак, мы двигались вдоль него медленно и настороженно. Иногда были слышны пугающие крики дикого козла, и это успокаивало – значит никого, кроме нас, поблизости нет. Когда выходили на опушку, уже светало. Поляки поглядывали на родные хаты – ведь многие были из этой деревни. Спустя положенные часы возвращались в лагерь. Посылали нас и в караул. Эти посты располагались в трех-четырех местах поодаль от лагеря, охраняя непосредственные к нему подступы.
Как я уже сказал, оружие мы получили после присяги. Правда, Иван получил винтовку почему-то до присяги. Вообще, он довольно скоро сделался не то, что всеобщим любимцем, но, во всяком случае, очень популярным. В нем подкупали удивительная непосредственность, незлобивость, простота, веселый нрав, а порой и детская наивность. Будучи в карауле и стоя на посту, он выпалил из винтовки в белку, прыгающую по веткам. В белку не попал, но шуму было много, не обошлось и без скандала – выстрел – это ЧП, но Ивану сошло. Слабостью Ивана было «млеко» – молоко. За ним он мог уйти за тридевять земель, оставив более важные дела.
Насколько я знаю, другие польские отряды жили такой же размеренной жизнью, сохраняя свои силы и особенно не докучая немцам. Там так же, как и у Конвы, кадровые младшие командиры обучали молодежь, проводя занятия по тактике, материальной части оружия. Точь-в-точь, как в нашей армии, в мирное время. А вот боевых действий при мне не было. Но сказать, что их совсем не было – неверно. Отряд Конвы только что вышел из окружения под деревней Червоны Кшиж. Это был тяжелый прорыв, и его эпизоды все время обсуждались в отряде. Много говорили об успешной акции, когда из больницы в Сувалках из-под носа немцев выкрали раненых партизан. Вот тогда-то и видел Сергей на улицах города большое количество немецких патрулей. Были и нападения на немецкие посты. Но все это ограниченные действия. И это можно понять. Немцы жестоко мстили за активные действия, расстреливая и вешая заложников, уничтожая деревни. Такая судьба постигла деревню Червоны Кшиж. Как, зная все это, нападать, если пострадают твои близкие? Правда, у нас в Белоруссии нападали, и население страдало. Но, может быть, белорусские партизаны были в большом числе не из местных жителей, а направляли их действия из Центра?
На акции мы ходили довольно далеко. В одном из таких дальних походов я участвовал. Ходили чуть ли не под самые Сувалки, от которых нас отделяли полоса леса, озеро Вигры и поля. Возвращались нагруженные: пароконная телега была доверху наполнена всякой снедью, тушами кабанов, а в придачу к ней был привязан бычок, прихваченный у богатого фольксдойча. Как расправлялись с хозяином я не видел, так как стоял в охранении. При переезде той же злополучной дороги Августов-Сейны мы напоролись на немецкую засаду, вернее, напоролся наш головной дозор. Вот как это получилось. Дозор из трех человек, шедший далеко впереди, вышел на дорогу, которая была, это знали, самым опасным местом на пути. Они долго стояли на дороге и уже собирались уходить, как вдруг в предрассветной дымке заметили зайца, который вел себя довольно странно, явно не зная куда ему двигаться – то сделает несколько прыжков в сторону партизан, то от них. Дозор постоял, так и не поняв, что с зайцем, и стал возвращаться, чтобы сказать, что дорога пуста. В это время ударил пулемет, и один из поляков был убит наповал. Немцы, которые сидели в засаде, видя, что партизаны вышли из леса, долго стояли, а потом стали уходить, видимо, решили не упустить хоть эту добычу. При первых звуках пулемета мы замерли, а когда примчались двое оставшихся в живых, тихо развернулись и пошли в обход засаде. Удивительна была та пара коней – как она всегда тихо себя вела! Позже, днем, на место засады ходили товарищи убитого и там же похоронили его. Это был молодой парнишка, которого я еще толком не знал среди всей массы партизан.
Вскоре к нам в отряд прибыл сам Заремба – глава партизанских отрядов, дислоцированных в Августовских лесах – тот самый Заремба, за голову которого немцы обещали сувальчанам всякие блага. Заремба был легко ранен, причем, ранил сам себя, перезаряжая пистолет. Выстрел произошел, когда он сидел, поджав ноги, и пуля прошла мягкие ткани бедра и икры. Ранение легкое, а меня, как владельца аптечки, просили делать перевязки. Добрая половина отряда ходила на хутор, где скрывался раненый Заремба, и его на повозке привезли к нам. Прибыли и его телохранители, интеллигентные, молодые парни. И клички у них были более романтичные: «Орлиный коготь», «Тур», «Паук», и рассказы только героические. Сам Заремба был довольно типичным представителем той части польской интеллигенции, которую нельзя назвать лучшей: самодовольный, самовлюбленный и спесивый. Зарембе импонировал Васька и импонировал, по-видимому, потому, что слыл старшим лейтенантом. Васька часто бывал в шалаше Зарембы, играл в преферанс. Через некоторое время Зарембу, а стало быть и отряд, посетило высшее начальство – инспектор Земств – тоже кадровый офицер, но более скромно себя державший. (Много позже произошла темная история, в которой по приказу Земсты был расстрелян один из командиров, после чего Земсте пришлось бежать и скрываться.)
Третьего мая по поводу польского национального праздника – Дня Конституции – предполагалась изрядная выпивка. Недалеко от лагеря был установлен самогонный аппарат. Все здорово выпили, и в это время из деревни Махарце прибежала девчонка с вестью, что понаехало много немцев, которые, по всей видимости, собираются на облаву. Несмотря на хмель, все быстро собрались, погрузили несложное имущество и Зарембу на повозку и тронулись лесными тропами на новое место. Перешли Августовский канал и где-то на его южной стороне, на краю огромного болота, расположились лагерем. Там к нам примкнул другой отряд, в составе которого было много интеллигентной молодежи. Были и две-три панны. Одна из них по кличке «Атма» (Дыхание), как выяснилось, была школьной подругой Верочки Бибиковой. Ходила эта панна в брюках и на боку носила крошечный пистолетик. Его величина вызывала шутки партизан Конвы. Дух присоединившегося отряда был иным, чем дух отряда Конвы, в составе которого были, в основном, крестьяне. Чувствовалось еле заметное разделение, не классовое, а сословное, что ли. И в отряде Конвы были девчата – тоже очень мало – но это были простые, крестьянские девушки. Присутствие панн рождало настроение ухаживания (может быть, это казалось мне по молодости), но иногда я видел, как вполне интеллигентная парочка прогуливалась, ведя светский разговор, чего никогда не было у Конвы.
Во второй половине мая пронесся слух, что в Августовские леса пришел советский партизанский отряд. Мы заволновались. Конва сказал, что как только будет установлена связь с советскими партизанами, мы можем переходить.
Николая и Димку, как хорошо знавших станковый пулемет Максима, Конва попросил достать этот пулемет, спрятанный в выгребной яме (попросту в уборной) у крестьянина в деревне около местечка Липск. Группа партизан вместе с Николаем и Димкой ходили за этим пулеметом. Пулемет вытащили из уборной, где он пролежал с 1941 года. Даже после многократных промываний он попахивал. Кроме этого недостатка, у него не хватало спусковой тяги. Димка и Николай нарисовали, какой она должна быть, и поляки передали этот чертеж кузнецу в деревню. Надо сказать, что с деревней у партизан была налажена очень хорошая связь. Так, однажды нам предложили, если мы хотим, написать письма оставшимся в Кенигсберге знакомым. Я воспользовался этим предложением и тотчас же написал Наде о нашем положении, конечно, в иносказательной форме. Поляки сказали, что можно ждать ответа. Не исключено, что это была продуманная форма проверить нас польской контрразведкой. Но тогда эта мысль мне не пришла в голову.
Вскоре подошел день нашего ухода в советский партизанский отряд. Пошло нас трое: Васька, Иван и я. Николая с Димкой поляки просили задержаться чинить пулемет. Перед нашим уходом Васька и Николай договорились, что на первое время они расскажут о себе выдуманную историю, умолчав о настоящей биографии. Николай прямо так и заявил, что выложить все сразу опасно, за такие дела могут и расстрелять, что надо сначала посмотреть, как к нам отнесутся, надо себя зарекомендовать, а потом уж и рассказывать правду. Доводы были убедительны, и мы согласились. Тогда же мне показалось, что такое разделение Николая и Васьки не случайно, и станковый пулемет был скорее предлогом, а не причиной этого разделения. Но даже и это можно понять: Николай, как более осторожный, не хотел, по-видимому, лезть на рожон.
Итак, нас пошло трое. Проводниками были партизаны Конвы. Идти было довольно далеко, и по пути мы заночевали в польском отряде Зайца. К вечеру, когда мы подходили к этому отряду, нам встретилась группа в пять человек из нашего, советского, отряда. Это были крепкие, низкорослые, белобрысые ребята, одетые сугубо граждански так, как одеваются в деревнях: кепочки, пиджачки, брюки, заправленные в сапоги. Правда, пиджачки сзади оттопыривались пистолетами в кобурах, а на плечах висели автоматы новой конструкции, которых я еще не видал – ППД (пистолет-пулемет Дегтярева). На первый взгляд это оружие было некрасиво и даже уродливо по сравнению со стройной винтовкой: толстые, короткие обрубки с массивными дисками поперек, со скошенным спереди кожухом. Мы назвались. Земляки равнодушно взирали на нас. Старший, выше всех ростом, скуластый, сказал: «Ну, что ж, давайте переходите», – и мы разошлись в разные стороны. Я почему-то думал, что первая встреча будет более волнующей.
Ночевали мы в отряде Зайца. Вечером сидели у костра и поджаривали ломтики свинины на палочках. К костру подошел командир отряда, еще молодой человек с правильными чертами лица. Одет он был во френч и имел хорошую строевую выправку. Присел к костру, завел какой-то незначительный разговор. В отряде Зайца было обилие девушек. Оказывается, при отряде существовали курсы медсестер. Заяц был в близких отношениях с советским отрядом. На другой день мы довольно поздно двинулись в дорогу. К провожатым из отряда Конвы присоединились два партизана отряда Зайца. По дороге, на одном из привалов, ко мне подсел Васька и попросил прослушать биографию, которую он сочинил. В ней, конечно, все выглядело иначе, чем было на самом деле. Это соучастие, в которое меня втягивал Васька, было неприятно. Я только пожал плечами, что Васька счел, по-видимому, за одобрение. Ведь молчание – знак согласия. Листок с автобиографией он разорвал на мелкие кусочки и сунул под мох. Совсем к вечеру мы долго шли по топкому болоту, выбрались на сухое, прошли метров четыреста по еле заметной лесной дороге, свернули вправо, прошли еще метров двести, и вдруг нас окликнул русский голос: «Стой, кто идет?»
Глава 2. В ОТРЯДЕ № 14
За небольшим бугорком мы увидели троих партизан. Почему-то бросилось в глаза, что один из них был в сером комбинезоне. Остановили нас, спросили. «А, знаем. Подождите». Мы присели, а один из них ушел в темный прогал чащи. Пока ждали, я рассмотрел ручной пулемет ДТ (Дегтярев танковый). Тут же тлел костер, именно тлел, а не горел. Ушедший скоро вернулся еще с двумя партизанами: «Ну, пошли». И мы вместе с полякам тронулись за провожатыми. Пройдя метров сто еле заметной тропкой, вышли на узкую, длинную и неровную поляну, по сторонам которой виднелось несколько тлеющих в темноте костров. Около них кучками сидели партизаны. Нас обступили, посыпались вопросы: «Откуда, кто такие?» Подошел кто-то, видно, из начальства, показал костер, около которого можно расположиться, спросил, хотим ли мы есть. Есть не хотелось, плотно поели еще у поляков. Присели у костра. Мне запомнился разговор партизан: они слабо переругивались, причем, один упрекал другого в том, что тот когда-то был немецким полицаем. Скоро меня позвали к командиру.
Возле шалаша и такого же тлеющего костра сидело несколько человек, но кто из них был главным, я тогда не понял. О нас, видно, уже знали. Стали спрашивать о Кенигсберге, Германии, как нам удалось бежать, как попали к полякам. Разговор носил непринужденный характер. Затем я стал рассказывать о жизни польских партизан, о том, что они, в общем-то, с немцами не воюют, а накапливают силы. Здесь меня оборвали на полуслове, переведя разговор на какие-то свои дела. Только потом мне сказали, что на этой беседе присутствовали два польских партизана, аккредитованных при советском отряде. Естественно, мне не следовало говорить в их присутствии такие вещи.
«Ну, послушаем сводку», – сказал один из сидевших у костра. Он посмотрел на часы и кого-то позвал: «Вера, включай». Послышались звуки настройки радиоприемника и затем громкий голос Москвы. После сводки – такие знакомые звуки боя часов Спасской башни и незнакомая музыка вместо Интернационала. Я пошел спать. Лагерь был тих, партизаны спали под навесами из лапника, обращенными к потухавшим кострам.
Я долго не мог заснуть. Совершилось то, чего я ждал, к чему стремился. Как-то меня примут? В глубине души копошился голос сомнения и страха. А другой голос успокаивал: ведь я не совершил никакого преступления и ничем не связал себя с немцами. А первый голос где-то попискивал: «А фамилия, а половина семьи репрессирована, а родственники белоэмигранты, у которых ты жил?» – «Да, но ведь тут среди партизан, оказывается, есть бывшие полицаи, и они на тех же правах, что и все остальные. А потом нас так хорошо приняли, без тени предубеждения, без признаков недоверия». Все эти мысли, новая обстановка, ощущение воплощенной мечты и какие-то подсознательные опасения ко сну не располагали.
Утром после завтрака появился белобрысый парнишка и сказал, что сейчас с нами будет говорить командир. Мы отошли в сторону, и скоро подошел среднего роста крепкий человек подчеркнуто гражданского вида, в серой рубашке с запонками, в глаженых брюках, черных чистых ботинках, без головного убора. На его брючном ремне не было никакого оружия. Вид у него был такой, как будто в выходной день человек пошел прогуляться в лес недалеко от дома. Мы вытянулись. «Не надо, не надо, располагайтесь», – сказал он и опустился на землю. Мы присели около него. Командир был немногословен. Попросил каждого из нас подробно рассказать автобиографию с упором на момент пленения и жизнь у немцев. При этом посоветовал говорить правду и ничего не скрывать. Мы поочередно рассказали свои истории. Васька – выдуманную. Я чистосердечно решил рассказать все, но почему-то побоялся рассказывать о своем путешествии по Германии. Потом командир сказал, чтобы мы все это написали. Кроме того, он подробно расспрашивал о военных объектах Кенигсберга. Мы рассказали обо всем, что знали, и, конечно, о виденных из вагона признаках расположения какого-то крупного штаба в районе станции Поссесерн. Спрашивал он и об известных нам «изменниках Родины». Здесь мы ничего не могли сказать.
После беседы и написания автобиографий нас троих направили в одно отделение к простому и симпатичному парню – Сашке Афанасьеву. В отряде было принято называть всех, а особенно начальство, по именам: командир – Владимир Константинович (майор Орлов, настоящая фамилия Цветинский), начальник штаба – Федя (лейтенант Князев), начальник особого отдела – Костя (Хмельницкий, настоящая фамилия Бондаренко) и т. д. Кстати, Костя – был тем самым рослым скуластым парнем, которого мы повстречали в лесу, когда подходили к отряду Зайца.
Отряд этот оказался не простой, а специальный, и действовал он от воинской части № 38729, от Разведывательного управления Генерального штаба НКО СССР. Поэтому и должности: начальник штаба и начальник особого отдела отряда, как и само название отряда – Кастуся Калиновского – все это была фикция, все это было выдумано Владимиром Константиновичем для конспирации, как много позже мне рассказал Костя. Федя – был старшим радиооператором, а капитан Бондаренко – заместителем командира по агентурной разведке. Ядро отряда составляли десантники: командный состав, разведчики, радистки, разведчицы, связные, подрывники. Девчат было довольно много, около восьми. Когда я их увидел, то удивился – зачем они здесь, совсем молоденькие, маленького роста, что еще больше подчеркивало их молодость. Десантниками были ребята, хотя и молодые, но, что называется, из ранних. В Августовские леса отряд пришел из-под Вильно, а до этого был под Минском, пришел с разведывательно-диверсионными целями. К моменту нашего появления партизан было человек сто пятьдесят. В это количество входил отряд-попутчик, настоящий, что-ли, партизанский отряд имени Александра Невского. У них были колоритные папахи, пулеметные ленты, которыми перепоясывались некоторые из партизан, и другой подобный реквизит далеких времен (как раз из отряда Невского были те партизаны, которые переругивались по поводу службы одного из них в полиции). Да и вели они себя, не стесняясь, а здесь была как-никак Польша. Это и явилось, кажется, одной из причин удаления их на восток Владимиром Константиновичем. Я не был свидетелем расставания отрядов, так как находился на задании (очень скоро нас стали посылать наравне с другими на всяческие задания, вооружив самозарядными винтовками), но это расставание, говорят, было довольно бурным. Наш командир выпроводил их просто под дулами автоматов. После этого нам поменяли винтовки на автоматы ППД, но я забежал вперед. При отряде была еще одна совершенно самостоятельная группа «Сибиряка» – Геннадия Желвакова. Как я узнал позже, действовала она не от Наркомата Обороны, а от Наркомата Госбезопасности. Видно, в глубоком тылу были у них собственные интересы. Сам «Сибиряк» запомнился мне тем, что постоянно напевал блатную песенку «Ростовская пивная». Роста он был среднего, коренастый, курчавый и конопатый, и производил впечатление полублатного. Впоследствии и эта группа отделилась от отряда.
Как я уже сказал, нас определили в отделение к Сашке Афанасьеву в третий взвод. Им командовал лейтенант Павлов, и фамилия его законспирирована не была. Был он человеком простым и мало чем выдающимся. При первом же разговоре Павлов также попросил нас рассказать биографии. Меня он даже переспросил: «Трубецкой? А настоящая фамилия какая?»
Дня через два прибыли Николай и Димка. Я, улучив удобный момент, сказал Николаю, что бояться нечего, что в отряде есть бывшие полицаи, и отношение к ним вполне терпимое. Николай ответил, что лучше подождать, что надо сначала хорошо себя зарекомендовать, а уж потом открываться. Я не соглашался, но убедить его не мог.
Одной из первых работ в отряде было строительство бани. Кроме нас, ее строили и несколько более опытных в этом деле партизан. Выкопали яму размером два на пять метров и глубиной больше метра. Пол и стены выложили слегами. Для того, чтобы они ложились друг к другу плотнее, каждую следующую надо было крутить вдоль длинной оси до тех пор, пока она не прижималась наиболее тесно к соседней. Если уж слега совсем не подходила – брали другую. Из таких нетесаных, с корой, слег сделали скамейку. Стенки бани подняли чуть выше уровня земли, настелили крышу, обложили все это мхом и засыпали землей. Внутри в углу на два больших камня положили старый ржавый диск от автомашины, получалась топка. На диск клали кучу камней поменьше. Перед мытьем баню долго топили, и камни раскалялись. Тогда выгребали угли, а воду тем временем грели снаружи на костре. Те, у кого были вши, во время мытья развешивали свое белье над раскаленной грудой камней. Пару поддавали, выплескивая воду на камни. Любители брали березовые веники, так что в бане стоял знакомый запах жара и веников. Баня настоящая, на славу. В таких партизаны мылись и зимой.
Столовая была под стать бане: два длинных стола из тех же нетесаных слег под елками. Долго задерживаться в столовой не давали комары, которых здесь в окружении болот было несметное количество. Большие, рыжие, они с ходу, вернее, с лету, погружали свои длинные носы в тело. Только понес ложку ко рту, а на руке уже сидит чуть ли не десяток этих тварей. Так же подолгу нельзя было задерживаться в уборной – выкопанный ровок в стороне от лагеря. Там было даже хуже, чем в столовой, так как места «посадки» комаров не видны. В шалашах устраивали дымокуры: старые, проржавевшие консервные банки с дырочками на дне. Туда клали шишки, поджигали и вешали у изголовья.
Одним из моих первых впечатлений была политинформация, которую читал партизанам начальник штаба Федя (я уж так и буду называть его начальником штаба). Политинформация, как и ее автор, своего рода шедевры. Он, длинный, черный в низеньких сапожках гармошкой. На боку, вернее, почти у колена деревянная колодка с маузером, которую он для удобства подкладывал под себя, когда садился. Надо сказать, что маузеры уже тогда были оружием не современным, а даже, пожалуй, архаичным. Но пользовались они колоссальным авторитетом. Ношение колодки с маузером было чем-то вроде аксельбантов, но это у людей особого склада. У Владимира Константиновича маузера я не видел. На задания он брал легкий ППШ (пистолет-пулемет Шпитального). Да и Костя выбирал то, что поменьше весом. Так вот, подложив под себя колодку маузера и усадив вокруг себя всех свободных партизан, Федя начинал нечто на тему «Моральный облик советского партизана». Видно было, что он большой любитель поговорить, и говорил долго. «А есть как? Вот который и сделает и ничего, а другой и сделает и пойдет, и пойдет. А что получается? Нет, я спрашиваю, что получается? Который понимает, тот знает, а тот понятия не имеет, и все так, а нам глазами моргать. Или возьмем еще. Ты ему одно, а он тебе другое. А все почему?...» – и так в течение, по крайней мере, часа. К счастью, таких политинформаций было, кажется, только две. Но эта мне запомнилась хорошо. Владимир Константинович знал эту слабость Феди поболтать. Когда тот не к месту пускался в назидательные рассуждения, грубо обрывал: «Ну, хватит тут политинформации читать», – и Федя замолкал.
Как я уже упоминал, нашим отделением командовал простой и симпатичный молодой парень Сашка. Родом он был не то из Энгельса, не то из Саратова. Рассказывал, как вывезли в 1941 году всех немцев из республики на Волге. НКВД забросило к ним «немецкий десант». Те укрыли его, и этого было достаточно [20] 20
В 24 часа на восток страны было выслано 367 тысяч немцев. Вот цитата из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал..., следовательно, немецкое население Поволжья скрывает в своей среде врагов Советской власти»..
Как это характерно для СССР: сделать провокацию, а потом наказать весь народ. А выселение других народов, а отношение к людям, попавшим в плен, да просто оказавшимся на оккупированной территории?
Так что же такое была Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии? Сплав героизма и подлости, жертвенности и беззакония, святого выполнения долга и нечеловеческих лишений, государственной преступности и обмана, лицемерия и грубого просчета, погубившие миллионы жизней, исковеркавшие судьбы людей? Наверное, да.
[Закрыть]. В отряде был еще один взвод, которым командовал Миша Когут, бывший студент Минского института физкультуры, бежавший из плена, человек с большим партизанским опытом. На нем я впервые увидел солдатскую гимнастерку нового покроя со стоячим воротничком и дырочками для погон. Гимнастерка мне понравилась; уж больно ладно она сидела на Мише, чему причиной была, конечно, и его стройная широкоплечая фигура.
Я близко познакомился с одной из радисток отряда Леной Потаниной, москвичкой, с Донской улицы. На этой же улице она училась в школе № 15. А в этой школе, отданной в 1939 году под воинскую часть, я начинал свою службу в армии. Наши солдатские койки стояли чуть ли не в ее классе. Костя – начальник особого отдела отряда (впредь я так и буду его величать, хотя, как я уже отмечал, такого отдела в отряде не существовало), человек с юмором, хорошо знавший Москву, всегда трунил над Леной, говоря, что Донская улица только тем и славна, что по ней покойников возят в крематорий. На это Лена обижалась, а я брал ее сторону, хваля улицу за тишину, тенистость.
В отряде находилась жена нашего офицера, служившего в пограничном гарнизоне, кажется, в Гродно и пропавшего без вести в самом начале войны. Звали ее Люся, и попала она в отряд еще до нас, а как – уж не знаю. Это была полненькая смазливая блондинка. Таких всегда много в военных городках – типичная офицерская жена. Люся иногда исчезала на несколько дней, выполняя, по-видимому, роль связной разведчицы.
Остальные партизаны – люди средних лет и молодые ребята – были, в основном, бывшие пленные, так или иначе вырвавшиеся из лагерей. Были и так называемые примы, женившиеся на крестьянках и принятые в семьи, а теперь ставшие партизанами. Мне хорошо запомнился Федя Кузнецов, так как у нас с ним оказались общие знакомые по Сувалкам. До войны он работал на Урале инженером, а в войну попал в плен и в Сувалках входил в ту самую группу мастеровых, которую водил на работу описанный мной пожилой немец-конвоир. Эта группа бежала, но, чтобы не подводить сочувствующего и доброжелательного конвоира, бежала не с работы, а из лагеря, перерезав колючую проволоку. Бежало их четверо, дошли они почти до Вильно и там наткнулись на отряд Владимира Константиновича. Федю, как имеющего знакомых в Сувалках, взяли с собой. Я довольно близко с ним сошелся. Это был уже немолодой, порядочный, добродушный и симпатичный человек.
Среди партизан был один со странной в той обстановке фамилией – Немцев. Звали его Лешка. Но все почему-то обращались к нему только по фамилии, хотя друг друга называли по именам. Рассказывали, что по этому поводу бывали недоразумения. Кричали: «Немцы!», – а отзывался он. Звали его, а среди партизан поднималась паника. Я присоветовал, было, звать его «Бей немцев», – на турецкий лад, но это не привилось. Так и остался он просто Немцовым – опасная была фамилия.
В отряде были и крестьяне из Белоруссии. Помню двух братьев Череповичей. Один, молодой, вскоре погибший, когда группа Миши Когута ходила взрывать узкоколейку (по ней немцы вывозили лес) и напоролась на немецкую засаду. Раненого Череповича отбили, но он скончался, когда его принесли в лагерь. Старший тяжело переживал гибель брата. Об одном из партизан Лена рассказывала, что в начале похода он все помогал ей нести питание к радиостанции и был разочарован, узнав, что это электрические батареи, а не еда. Помню еще одного партизана, пулеметчика Гришу. Ходил он с каменным лицом в черной кубанке. С таким же каменным лицом пел тонким голосом свою любимую песню: «О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ». Пел удивительно старательно и, надо сказать, неплохо. А вот другой певец – Ваня Петров, до войны работавший в цирке, молодой блондин. «Скажи мне, князь, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» – пел он очень правильно. Были в отряде и старые партизаны, старые по стажу, не знавшие плена и жившие по лесам еще с 1941 года. Об одном таком, чернооком и белолицем парне, Лена говорила, что он настоящий бандит. Ему обычно поручали резать и разделывать коров, которых у нас вскоре появилось целое стадо.
При отряде всегда находились двое поляков, что-то вроде военных атташе дружественных вооруженных сил. Надо здесь сказать, что когда отряд пришел в Августовские леса, то есть в Польшу, то между Владимиром Константиновичем и одним из польских командиров – Зайцем – был заключен договор, определяющий взаимоотношения нашего и польских отрядов. В договоре определялась общая цель – борьба с немецкими оккупантами и были такие пункты:
1. Взаимная помощь в случае нападения немцев на одну из сторон.
2.Все боевые операции советского отряда согласуются с польской стороной.
3. Пункт об офицерах связи при советском отряде.
4. Участие советских партизан в акциях, проводимых польскими партизанами. Помощь польской стороне оружием.
5. Польская сторона содействует советскому отряду в вопросах пропитания, а также дает своих проводников.
6. Отряды не занимаются вопросами политики, оставляя это своим правительствам.
Одного из военных «атташе» я хорошо помню. Кличка его была Кавка (Галка). Это был уже немолодой человек, бывший лесничий, малоразговорчивый, но, видно, толковый. Вооружен он был охотничьим ружьем, один ствол которого был нарезным. Кавка иногда уходил в лес и возвращался с косулей на плечах. Ее он всегда отдавал на кухню. Второго «атташе» я не запомнил.
Надо отдать должное нашему командиру в том, как он дипломатично вел линию взаимоотношений с поляками. Ведь мы находились на территории Польши среди отрядов Армии Крайовой, подчинявшихся правительству в Лондоне, и отношения с поляками были очень не простыми. Стоит вспомнить 1939 год, когда мы, сговорившись с Гитлером, напали на уже почти разбитую Польшу и заняли ее восточные области, или вспомнить Катыньское дело – расстрел нескольких тысяч польских офицеров, попавших к нам в плен (мы уверяли, что это сделали немцы, потом стали в этом сомневаться, а теперь признали, что это наших рук дело), или депортацию тысяч и тысяч поляков в Сибирь и Казахстан в 1939-41 годах – все это порождало очень тяжелое чувство по отношению к нам. И надо было быть большим дипломатом, чтобы жить с отрядами АК не враждуя, а помогая друг другу. Ведь полякам ничего не стоило выдать нашу стоянку немцам. А немцы, как стало известно, были очень обеспокоены появлением советских партизан непосредственно у границ Восточной Пруссии. В объявлениях, расклеенных в Сувалках и Августове, они обещали большие блага за выдачу нашего отряда. Любопытно, что польские партизаны АК под Вильно были совершенно иначе настроены по отношению к нашим – враждебно. Здесь же все обстояло по-другому: взаимопонимание, взаимопомощь и не только партизан, но и местного населения. Впрочем, это было одно и то же. Так, например, когда надо было сдавать немцам скот, крестьяне приходили к нам и говорили: «Заберите корову лучше вы, чем отдавать немцам». Мы забирали и оставляли расписки, которыми, судя по всему, немцы удовлетворялись. Такой ближайшей деревней были Грушки, крестьяне которой пекли нам хлеб. Надо сказать, что наше командование за все это платило немецкими марками, запас которых в отряде, видно, имелся.








