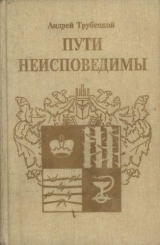
Текст книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Автор книги: Андрей Трубецкой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Очередной этап новичков привез пожилого хирурга Карла Карловича Тиеснека, очень симпатичного латыша, учившегося еще в Петербурге. Он был сильно подавлен, и я постарался как-то помочь, посочувствовать ему, когда он несколько дней был в амбулатории. После у нас сохранились самые хорошие отношения вплоть до кончины его в 1954 году от рака желудка. А тогда, в 50-м, он был переведен в хирургическое отделение лазарета.
Во время приемов мне помогал один работяга, Коля Чайковский, фельдшер по специальности, но имевший 25 лет срока, и поэтому работавший на общих. Чтобы выполнять за смену норму, он должен был насыпать 11 тонн руды в вагонетки. У нас с ним установились хорошие отношения, а когда моя работа в амбулатории закончилась, Чеховскому и Сарыеву удалось сначала временно, а потом и постоянно устроить Колю фельдшером. Ко мне он сохранил благодарное и даже немного почтительное отношение, хотя и был много лучшим фельдшером, чем я. Это отношение не менялось и тогда, когда мне, уже попавшему на очень низкую ступень лагерной жизни, удавалось на минутку вырваться из режимки из-под замка в зону и заходить в амбулаторию.
Однажды я здорово попал впросак по медицинской части. На 3 лагпункте столовой заведовал ловкий и преуспевающий еврей Ройтман, сидевший по бытовой статье, которого почему-то не изъяли из спецлага. В среде политических он чувствовал себя почти как вольный. Афишируя свои возможности, он любил показывать большую семейную фотографию – это когда нам фотографии держать запрещалось, спал в отдельной кабинке при столовой. Этот Ройтман заболел, и надо было этому случиться в мое дежурство. Шестерка Ройтмана (обозначение мелкого услужающего человека) вызвал меня к больному. У него была высокая температура и боли в животе. Я оставил дело до утра, написав собирательный диагноз «острый живот», куда входили все трудно распознаваемые случаи: отравление, заворот кишок, аппендицит, прободение язвы и т.п. Ройтман держал грелку, и я ее не отменил, что было большим промахом. На утро его унесли в лазарет и срочно прооперировали аппендицит, который я не мог распознать, хотя, как потом я научился, это было не трудно. Этот мой промах был воспринят медицинским миром, да и придурками лагеря, как признак моей некомпетентности, каковая, конечно, имела место, но скрывалась мной. Промах был, но прошел он для меня без последствий.
В амбулаторию иногда заходил мазать горло раствором Люголя старшина Самарский. Это был крупный, осанистый мужчина, ходил в добротном офицерском кителе, летом белом, всегда носил темные очки и говорил с украинским акцентом. Какую он исполнял должность – не знаю. Лагерники говорили следующее: это был начальник ростовской тюрьмы в звании капитана. В 1941 году, когда к городу подходили немцы, тюрьму эвакуировали, но по дороге эшелон с заключенными то ли попал в окружение, то ли возникла опасность такого окружения. Самарский приказал расстрелять всех заключенных. Опасность миновала, и его за превышение власти разжаловали в старшины. Так ли это было на самом деле, не знаю.
Вскоре я узнал, что моего доброго знакомого В. В. Оппеля перевели на 1-й лагпункт в режимную бригаду. Это бригада была на особом положении – в нее попадали за какие-нибудь провинности, в нее выпускали из лагерной тюрьмы после неудавшегося побега, покушения на жизнь и пр. Лагерный режим бригады был особым: на работу из-под замка и с работы под замок. Работа только на каменном карьере или на шахте под землей в 'соответствии с категорией. Оппеля поместили в эту бригаду, понизив из врачей в дневальные. Когда бригада была на работе и ее секцию открывали, я посещал Владимира Владимировича. О причине понижения он ничего не говорил, но можно было догадаться, что за отказ «стучать». Меня он принимал всегда сердечно, и по всему было видно, что он радовался приходу, но он именно «принимал», откладывая все в сторону. Как-то я застал его за миской баланды. Он ее отставил и стал «принимать» меня. «Да, вы ешьте». – «Нет, я потом». – «Да я тогда уйду». – «Нет, не уйдете». Однажды в разговоре я употребил непечатное выражение, что-то вроде: «Да пошлите вы его...» Что тут стряслось, как он поглядел на меня! С каким укором! «Вы – и такое выражение!» Я смутился и больше при нем не позволял себе подобного.
В разговоре со всеми, будь то последний заключенный или блатной, или начальник лагеря, он был со всеми вежлив и корректен и языка своего не менял. В режимной бригаде его уважали.
Из впечатлений того времени мне запомнилось довольно любопытное общее собрание шахтеров 3 лагпункта. В помещении столовой, в большом зале из столов была сделана сцена, на которой восседало лагерное и шахтное начальство. В зале на скамьях – работяги. Повестка дня – выполнение плана. В странных выражениях начальство понуждало увеличивать добычу руды, давать больше нормы. Основным аргументом была... горбушка – в те времена работали только за еду. Это слово «горбушка» склонялось так и сяк всеми выступающими. Чувствовалась фальшь этих уговоров и отчужденность зала и сцены. После собрания были очищены первые лавки, на них спустилось начальство, а сцену заняла бригада самодеятельности, и начался концерт: пение соло и дуэт с гитарой и без, с баяном и просто баян, играл духовой оркестр, были небольшие сценки, выступали акробаты. Бригада артистов готовила все это без отрыва от производства. Позже, когда в лагерь попал режиссер одного из киевских театров, некто Кабачек, исполнительское искусство на этих концертах и их занимательность значительно возросли. Этот Кабачек получил свои 25 лет за то, что был в концертной бригаде у немцев [41] 41
После освобождения Кабачек переехал из Киева в какой-то крупный сибирский город, стал режиссером солидного театра и на предложение вступить в партию дал согласие. Это была его большая ошибка. Он слетел со своего режиссерского места и хлебнул горя. С партией тогда шутить было нельзя.
[Закрыть].
Жил я в секции придурков. Публика там была, может быть, и интересная, но положение их обязывало, и разговоры велись очень осторожные, как и на воле. Однажды, когда нас уже заперли на ночь, а придурков тоже запирали, загремели запоры, вошел надзиратель и вызвал меня. На вопрос: «Куда?» – сказал: «Идем». Он привел меня в барак, который стоял сразу справа от ворот, и был отгорожен высокой стеной от всей зоны, но как бы вписан в нее. В нем размещалось «отделение», то есть вся администрация 1-го лаготделения – вольное начальство. Позже, когда отделение вывели за зону, этот барак переоборудовали под тюрьму, уже вторую для нашего лагеря. В ней мне довелось потом провести более полугода.
Мы вошли в комнату, где сидел капитан с голубыми погонами – глава лагерного МГБ Прокуратов, человек средних лет и маловыразительной внешности, не худой и не полный, роста выше среднего, серый. Надзиратель удалился, и мы остались одни. Я понял, что предстоит серьезный разговор, да и тема его не представляла загадки.
Прокуратов начал издали: как я живу, что делал на воле, кто у меня на воле есть, где уже поработал в лагере. Постепенно разговор стал приобретать определенное направление. Капитан был вежлив, обращался на «вы» и все больше напирал на то, что в лагере собраны страшные люди, которые только и думают о заговорах, мятежах, диверсиях. Стал приводить примеры. Рассказал о заговоре, в котором, среди прочих, участвовал Волошин, бывший статистик амбулатории, о котором я упоминал. Рассказ выглядел фантастическим, и чувствовалось, что все придумано. 'Наконец, старая и знакомая фраза: «Вы должны помогать». Молчание. «Вот свидания запрещены, но мы свидание вам разрешим. Вы сможете увидеться с женой вот здесь, у меня в кабинете». – «Спасибо», – хотел я сказать, но промолчал. «Вы деньги будете получать, а мы сможем ходатайствовать о снижении вам срока. Ну, что, согласны с нами сотрудничать?» Я отказался. Теперь он перешел на ты: «Ну, вот если меня будут собираться убивать, неужели не придешь и не скажешь?» – «Ну, и аргумент», – только подумал я, но сказал, если узнаю, что кого-нибудь собираются убить, и вас, в том числе, то, конечно, скажу, но сотрудничать с вами не буду. «Почему?» Говорить то же, что я отвечал майору Бурмистрову на такое предложение, не годилось, и я сказал следующее: «Тех, кто с вами сотрудничает, начинают убивать, а я жить хочу». – «Ах, так ты трусишь?» – вспылил капитан. «Да, трушу». – «Значит, трус?» – «Да, трус». – «Нет, у тебя какие-то другие причины, и, если не согласишься, мы тебя здесь в бараний рог согнем. Такие тебе создадим условия, что сам попросишься, но тогда уже поздно будет. Не нужен будешь!» – «Я жаловаться буду на вас». – «Жаловаться? Кому?» – «Найду кому». – «Жалуйся сколько хочешь, но только твои жалобы дальше этого стола не пойдут», – и он, встав, похлопал рукой по бумагам. Разговор окончился. «Пиши расписку о неразглашении разговора с указанием причины отказа». Я написал. «Можешь идти». Я со злостью хлопнул дверью.
В зоне нашел надзирателя, и он впустил меня в барак. Придурки уже спали. Я лег на нары и долго пребывал в тяжелом, гнетущем состоянии. «Что тебя вызывали?» – спросил сосед по нарам, симпатичный бывалый парень, работавший учетчиком на шахте. «Карточки показывали» (довольно обычная причина подобных вызовов – опознание кого-либо по фотографиям). Мрак на душе не проходил. Разговор с Прокуратовым вечером 22 ноября, разбудил тяжелые ассоциации. Это было ужасно тягостно. Вставали образы родителей, старших членов семьи, загубленных, замученных. Почему и в лагере нет покоя от этой проклятой системы? Давил и тягостен был весь этот дух, эта безысходная пучина, а не то, что кончится моя вольготная жизнь. А в этом сомневаться не приходилось.
Мое тягостное настроение странным образом передалось в Орел Еленке. Спустя некоторое время я получил от нее открытку, датированную 22 ноября. Она писала, что вечером, когда сидела в читальне, ее посетило ужасно тяжелое, гнетущее состояние. А вот мой ответ ей в письме от 26 декабря 1950 года: «Ты писала мне как-то из читалки, и было у тебя плохое настроение, горько на душе. Это было 22 ноября. То же было и у меня 22-го. Это число я хорошо помню, вечером в то же время». Вот вам и телепатия.
Потянулись дни, ничем не отличающиеся от тех, что были до 22 числа. Но вот 12 декабря мне сообщили, что переводят на 1-й лагпункт. Наш брат, заключенный нарядчик, который сопровождал меня, так и не сказал куда, хотя я по пути спрашивал его. Мы долго стояли у железных ворот, отделявших 3-й и 1-й лагпункты, и мой спутник бил в них камушками, которые подбирал с земли. Звук этот так и запал в память. «В амбулаторию?» – не унимался я, спрашивая провожатого. «Да, сейчас узнаешь», – темнил он непонятно почему.
Видно, в душе был он такой же тюремщик или же получил особые инструкции на молчание, подумалось мне. Его нежелание сказать вселяло нехорошее чувство Наконец, дверь в ворота открыли, и мы пошли по первому лагпункту хорошо знакомой дорожкой прямо в... режимную бригаду, где я неоднократно посещал В. В. Оппеля. «Прокуратов начинает сдерживать свои слова», -мелькнуло в голове. Только теперь я обратил внимание на довольно любопытное совпадение событий – некую жизненную хроно-биографическую симметрию но как бы со знаком «все наоборот»: 22 ноября 1941 года дядя Миша Трубецкой появился в виленском госпитале, поселив во мне надежду на спасение, а 12 декабря взял из госпиталя.
Глава 3. РЕЖИМНАЯ БРИГАДА
Бригада находилась в той самой секции барака, где я проходил карантин. Для нее только сделали особый выход, перегородив общий коридорчик и сломав ту самую кабинку, где в первый вечер я пропивал с приятелями брюки-галифе. Барак был крайним, и пространство до запретной зоны отгородили проволокой – получился свой прогулочный дворик. Незадолго до моего появления в бригаде произошло убийство, и ее не выводили на работу. Убили парня, подозревавшегося в стукачестве. Убили зверски. Били доской от скамьи, били до тех пор, пока он не испустил дух, били при ярком электрическом свете в присутствии человек восьмидесяти, лежавших на нарах. Никто не вмешался. Главному убийце добавили срок до 25 лет, его двум помощникам тоже что-то в этом роде. Но между заключенными это дело долго обсуждалось как очень и очень спорное – был ли убитый, действительно, стукачем. Подробности эти упоминаю по следующей причине. После того, как я вышел из режимной бригады в 1953 году, мне стала известна любопытная деталь, рисующая и подлость капитана Прокуратова. В дни, когда я был переведен в эту бригаду, он появился в ППЧ (планово-производственная часть) 3 лагпункта и стал громко вопрошать: «Кто перевел Трубецкого в режимную бригаду?» – явно давая понять сидевшим здесь нарядчикам и контролерам, что я его человек. Это без сомнения тогда же было передано в режимку (вспоминается его угроза: «...мы тебя здесь в бараний рог согнем. Такие создадим условия, что сам попросишься ...»). Так он мстил. Задним числом мне стала понятна некоторая отчужденность и настороженность, которые я в первое время почувствовал в отношении ко мне собригадников. Тогда я воспринял это как дело довольно естественное – чего бы это переводить сюда фельдшера без видимых промахов по работе? Меня спрашивали – за что, я отвечал, что не знаю. В. В. Оппеля в это время в бригаде не было, он лежал в лазарете с обострением гипертонии.
В первый день я познакомился с москвичом Михаилом Кудиновым, огромного роста, разговорчивым студентом филологического факультета МГУ. Мы с ним всю ночь напролет прошагали взад и вперед по секции, вспоминая Москву, нашлись даже общие знакомые. Миша получил десять лет в 1948 году по следующему делу. Была своя компания, несколько невоздержанная на язык. В компанию была внедрена стукачка. Она близко сошлась с Мишей и перед арестом открылась, кто она, влюбившись в жертву. Следствие у него шло довольно тяжело. Получив срок, он попал в Байконур на угольную шахту под землю. После ликвидации лагеря в Байконуре Мишу перевели из тамошней режимной бригады в здешнюю за тот же невоздержанный язык.
На другой день было объявлено, что бригада выходит на работу. Стояла зима, и этот день ушел на экипировку – принесли валенки, бушлаты, все глубокое б/у, старье чиненное и перечиненное. А назавтра вывели на карьер, вывели последними, когда зона была пуста. Как я упоминал, режимная бригада шла на работу из-под замка и возвращалась с работы под замок в свою отдельную от всех секцию. Это ограничение сравнительной свободы было большим минусом. Но в положении бригады были и большие плюсы. Ради изоляции кормили нас в секции, кормили в последнюю очередь, и очень часто получалось так, что миску с баландой тебе пихали еще сонному. Это значило, что спали мы на 2-3 часа больше, чем прочие бригады. Кормили нас лучше, чем прочих, по той простой причине, что повара боялись режимников и их угроз, и было несколько случаев, когда строптивым поварам мяли бока либо сами режимники в редкие минуты выпадавшего им свободного хождения, либо это делали их доверенные из других бригад. Но это было редко. Чаще достаточной была устная угроза: «Что вы, падлы, такую баланду носите? Передайте такому-то, чтоб наливал гуще», – говорилось кухонному раздатчику, появлявшемуся к нам с завтраком. Говорилось это без стеснения перед сопровождавшим раздатчиков надзирателем. Раздатчики (в их роли иногда был кто-либо из поваров) вели себя заискивающе и, наливая миски, были нашими наилучшими друзьями. Нередко приносились и отдельные свертки особо грозным или требовательным режимникам, а то и просто друзьям от друзей.
Любопытно, что режимная бригада была двойным пугалом: ее боялись, и в нее боялись попасть, а, в сущности, это было, пожалуй, совсем не плохое место не только потому, что там больше спали и больше ели. Там меньше работали. Нередко ее вообще не выводили на работы, не гоняли на ночные сверхурочные работы (такие, как памятная ночная выгрузка цемента в бригаде Скурихина). В режиме наши языки ничем не сдерживались, и разговоры там велись открыто и откровенно. Это проходило, по-видимому, безнаказанно потому, что мы были уже «на дне».
Кто же был в режимке, что за люди? Я уже немного об этом говорил. Добавлю еще. Здесь находилось много людей, пытавшихся бежать или бежавших, но пойманных, или подозревавшихся в намерении бежать. Для такого подозрения было достаточно обнаружить под матрацем запасец сухарей плюс донос дневального-стукача. Пойманные беглецы после следствия водворялись в режимку, и их рассказы были очень интересными. Были отказчики от работы, были «промотчики» – термин официальный от глагола «промотать» – люди, которые промотали (проели, проиграли в карты), или у которых стащили телогрейку, бушлат, валенки или что-либо еще из казенного имущества. Были уличенные в воровстве лагерного имущества. Были убийцы или покушавшиеся на убийство. Были и молчавшие, как я, о причине перевода в режимку. Было много бандеровцев, замешанных в те или иные дела. Да всех причин не перечислить. Публика очень разная – все возрасты, все нации, все языки Советского Союза. Но были и иностранцы: китаец Ван-Пин-Чин, маленький худощавый человечек, но невероятно работоспособный – «шагающий экскаватор», как его прозвали, бывший хунхуз, попавший в бригаду по подозрению в намерении бежать. Весной, когда на карьере отцветали маки, Ван-Пин-Чин выжимал в табак сок из зеленых коробочек и курил. Был японец Мацуно, молчаливый человек с лицом, застывшим, как маска. Он спал на верхних нарах, а по вечерам имел привычку подолгу сидеть, не меняя позы, вперив неподвижные глаза во что-то свое. Был он не то промотчик, не то отказник и даже прошел следствие по этому поводу. Рассказывали, что в лагерной тюрьме на вопрос сокамерников, кто он и за что сидит, Мацуно ответил, что он МГБ. Его хотели тут же подлупить, но выяснилось, что это японское МГБ – Мацуно был офицером контрразведки Квантунской армии и, как военный преступник, сидел в лагере. В лаготделении было несколько японцев – хорошо помню майора Араки, человека, в противоположность нашему Мацуно, разговорчивого и общительного; работал он в зоне прачкой. После 1953 года все они стали получать посылки из Японии, а позже и отбывать на родину.
Из бандеровцев здесь были уже знакомые мне два повара из лазаретной кухни, еще кто-то, да на короткое время, транзитом из одной тюрьмы в другую, попал Заричный. Вел он себя, по меткому выражению Миши Кудинова, как наследный принц в изгнании. Появился бандеровец Хованец, пырнувший ножом лазаретного хлебореза, о чем я упоминал. Были прибалты, казахи, туркмены, узбеки, кавказцы. Были служаки Туркестанского легиона – немецкого (в режимке они были, конечно, не за это). Один из них, Максута, судя по его рассказам, да и по натуре, вероятно, исполнял роль денщика у какого-то чина. Этот Максута был сущий азиат и дикарь, что, видимо, импонировало германцу. Другой, тоже казах, Хамза, образованный, культурный, умный, внутренне европейского склада запомнился мне рассказами эпизодов ликвидации Варшавского восстания 1944 года. Люди эти приходили в режимку и уходили из нее в разное время.
В секции я поселился в правом ряду на втором нижнем месте второй от входа вагонки. Довольно скоро образовалась близкая компания соседей: Волгачев, Вербицкий, Прохоров, Хамитов и я. Вместе ели, вместе спали, вместе работали. Через некоторое время Хамитов отбыл из бригады, а наша четверка оказалась очень прочной и дружной.
Иван Волгачев молодой белорус из-под Минска. Война застала его совсем юным, а когда подрос, пошел в полицию. Потом служил в немецкой армии. Уже в конце войны был в Восточной Пруссии, где на косе Земландского полуострова их часть была разгромлена, а оставшиеся в живых пленены. Он попал на слюдяные рудники Сибири, где проходил фильтрацию. Когда докопались до всей правды дали 25 лет. Был он круглолицым весельчаком, и еще в первый день работы на карьере запомнился своей японской зимней шапкой-ушанкой.
Николай Вербицкий, самый старший из нас, крестьянин из Полесья, тугодум, медлительный здоровяк. Если Иван был экспансивным, а порой отчаянным, то этот был трусоват, пожалуй, но внутренне честный. Сидел он за связь с послевоенными партизанами, которых в Полесье было немало – украинских и белорусских.
Борис Прохоров был самым молодым. В 1950 году ему исполнилось 20 лет. Это был крупный парень с какой-то детской физиономией, на которой играл румянец во всю щеку, да и весь цвет лица был прямо-таки девичий, за что Бориса прозвали «Борисиной». У него было 25 лет срока по следующему делу. Учился он в Алма-Ате в школе, и в классе у них создалась группа, увлекавшаяся стрельбой. Постепенно этой группой начал верховодить старший из них, по национальности немец, у которого имелся пистолет. По рассказам Бориса, этот парень настроениям и помыслам всей группы начал придавать антисоветское направление. Группу раскрыли, и все получили по 25, а школе шок – уж больно все эти ребята были хорошими общественниками.
За что сидел Хамитов – не помню. Позже Борис и я сдружились с Николаем Гаврилиным, москвичом, музыкантом. Сел он за то, что ушел из немецкого плена в полицию (вот уж, что никак не подходило по характеру этому мягкому, симпатичному человеку, а уход в полицию был спасением от голодной смерти). После режимки он и Борис играли в лагерном оркестре.
Первый день на карьере, который находился за шахтой N 31, мы не работали. Начальству надо было выгнать нас на мороз за зону, а о том, чем нам работать, оно не подумало. Но уже в следующие дни появилось все необходимое, а погода не давала сидеть сложа руки, и из-под снега стали появляться штабели камня, хотя и очень вяло. Наш прораб, такой же режимник, как и все, по фамилии Тур, личность колоритная, всячески хитрил, чтобы как-то выкручиваться: не строил обогревалку (обогреваловка, как ее называли), чтобы меньше сидели и грелись работой, завел специальную рулетку для замера и сдачи камня вольному прорабу. В этой рулетке было вырезано метра полтора ленты, и Тур заставлял нас ставить длинные штабели. Выполнение 50 процентов нормы гарантировало нормальный паек. Но, сдается, мы и этой половины не ставили. Были еще какие-то возможности у Тура втирать начальству очки. Сидел он давно, был из семьи кулаков, вернее, раскулаченных. Рассказывал, как в 30-е годы их вывезли глубокой осенью, много семей, целый район, на Север, где они зимой обжились, а весной стали тонуть – место, где построили землянки, оказалось затопляемым в половодье. Спустя несколько лет их стали снова раскулачивать, так как работали они только на себя. Во время войны служил у немцев, за что и получил срок. Рассказывал, что в первом лагере, куда он попал, его спасла от верной смерти женщина врач, которой он отдал прошедшее с ним золотое кольцо, спрятанное в самом невероятном месте. Любил рассказывать романтические истории из своей жизни, во многом, по-видимому, плод его мечтаний. Любил и порисоваться, но был смекалистым организатором, хитрым и бывалым. Спал Тур в дальнем углу секции на отдельном топчане.
Так же на отдельном топчане спал некто Ничипоренко, небольшого роста украинец. Он выдавал себя за сильно блатного, и в первый день я подумал, что это какой-то «законник», но скоро выяснил, что это просто парикмахер и душонка мелкая. Лагерником он был со стажем, а по лагерям работал в основном в парикмахерских. Вот один из его рассказов. Дело было в Сибири. Парикмахерская, как водится, при бане. Зона смешанная – есть женская часть и мужская. В лагере борьба со вшивостью. Если находили вошь у женщины – брили голову. Так вот, у Ивана Ничипоренко в кармане в спичечном коробке были вши про запас. Когда он подстригал намеченную жертву, то незаметно захватывал вошь из коробка и показывал – вот, де, что у тебя нашел и требовал стрижки наголо, и шантажом добивался, чего хотел. В нашей секции он мало кого брил, а на работе брил конвой, хотя бритва была строжайше запрещена.
Как ни странно может показаться, но Новый, 1951 год, я встретил очень весело. В режимке появился некто Борис Ольпинский, и мы с Мишей в ночь на первое января валялись от хохота от его рассказов. История же Ольпинского такова. Старший лейтенант попал в плен. Лагерь, голод, а немцы начали вербовать к себе на службу. Погибать от голода или идти к ним? Пошел и стал служить, надев мундир. Служил в карательном отряде и дослужился, кажется, до помощника командира. Конец войны застал Ольпинского в Западной Германии. Там он долго болтался между делом. Рассказывал, как иногда, переодевшись в американскую форму, делали «обыски» у немцев. Как ему удалось избежать американского лагеря – не помню. При всей своей беспринципности, цинизме и многом, что похуже, Борис совершил удивительный поступок – он вернулся домой к любимой матери, вернулся, прекрасно понимая, что грозит ему в случае разоблачения. Некоторое время он колесил по стране без особых занятий. Судя по рассказам, у него был какой-то способ, который действовал без осечек, обманно получать в станционных буфетах мелкие покупки. Его повествования о тех временах были забавны, но непечатны. Осев в родном Оренбурге, стал служить в энергоуправлении и красочно рассказывал, как пугал нарушителей правил пользования электричеством. Его оружием был бланк с большой черной надписью «АКТ». Он долго чинил карандаш, подкладывал копирку и стращал. Слабонервные не выдерживали, и Борис пользовался. Борис женился, но вскоре все же сел, получив свои 25 – «полный мягкий», как он выражался. В режимку Борис попал по следующему, казалось бы, не типичному для него делу. К нему на свидание приехала мать. А свидания были запрещены. Борис, работая придурком средней руки на шахте, договорился через вольных, чтобы мать спустилась в шахту между сменами и спряталась в условленном месте. Свидание состоялось. Как рассказывал Борис, это были самые страшные часы его лагерной и следственной жизни. Боязнь, что его кто-то продаст, что придут и схватят мать, что ее поведут перед колонной заключенных в лагерь, поведут, оскорбляя и унижая (все это было нам известно, так как таким вот способом в шахту «пулялись» самые низкопробные шалашовки из рудника, и, если их вылавливали, то вели перед колонной в лагерь, а они поносили на чем свет стоит конвой под общее веселье). Борис молил, чтобы свидание скорее кончилось. Оно прошло благополучно, но позже стало известно начальству, и за это Борис угодил в режимку.
У Бориса было много рассказов, которые он выдавал за импровизацию. Полагаю, что он готовил их, как хороший артист, заранее. Некоторые из них я помню: «Представьте себе битком набитый зал, сцену. На сцене прохаживаюсь я и поглядываю в публику, как бы выискивая кого-то. На боку парабеллум. Всматриваюсь и говорю: «Вон тот, вон, вон. Нет, не ты, а рядом. Вот, вот. Ну-ка, встань. Ведь ты же гад, а? Гад? Ну-ка, вот ты (в первый ряд). Как по твоему, он гад?» Из первого ряда не очень уверенно: «Да, гад». – «Ну, а ты что скажешь (это к другому) – гад он?» – «Гад». – «Ну раз так, то иди сюда», – говорю уже гаду и тут же его стреляю. И высматриваю следующего. С тем уже чуть быстрее, уже соседи уверенно отвечают, что он гад и что свое должен заслужить, и опять стреляю. И дальше только направляю да поговариваю: «Ведь вот же, кругом честные сидят, а ты что же это?» И так ведь всех по очереди и с их же одобрения». Все это рассказывалось в лицах и артистически.
К Ольпинскому и его рассказам я еще буду возвращаться, так как пробыл с ним в режимке довольно долго.
Сказать, что нас строго держали только под замком – нельзя. Бывали часы, когда можно было свободно ходить по лагпункту. Но это было редко. В одно из таких хождений по зоне я познакомился с интересным человеком – прямой противоположностью Борису Ольпинскому. Прибыл он к нам из-под Москвы, из какого-то странного лагеря, о котором рассказывал мало (много позже я узнал, что это была та самая «пирата», описанная А И. Солженицыным в «В круге первом»). Мой новый знакомый Сергей Михайлович Ивашов-Мусатов – человек лет пятидесяти, высокий, худощавый, в очках, интеллигентного вида и обращения. Имел он 25 лет приговора по следующему поводу. Он слушал чтение романа, написанного Даниилом Андреевым, сыном Леонида Андреева. Слушание было коллективным, и среди слушателей нашелся «иуда»: все получили по 25. Сергей Михайлович рассказывал, что роман был талантливым – «Спутники ночи», о нашей действительности, а сам автор – замечательным человеком. Другого мнения об авторе был М. Кудинов, сидевший в одной камере с Андреевым. Миша рассказывал, как придя с допроса, Даниил, прохаживаясь по камере, старался вспомнить, кто еще слушал его роман. На предупреждения сокамерников, что эти воспоминания будут дорого стоить, Д-Андреев отвечал, что его долг говорить правду.
Вместе с Сергеем Михайловичем села и его жена, слушавшая роман Андреева. Сергей Михайлович был инвалидом по зрению, сидел в зоне и, как художник, числился при КВЧ, а занимался тем, что писал картины в основном для начальства. С собой у него были многоцветные и черно-белые репродукции известных картин, и начальство выбирало, что понравилось. Так, одному из очередных начальников лагпункта, а они сменялись не так уж редко, приглянулась «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Сергей Михайлович копировал ее с черно-белой репродукции и, когда написал ее в красках, капитан, татарин по национальности, которому картина понравилась, попросил его «обуть женщину в тапочки, а у ребятишек убрать крылышки». В качестве платы было дано указание банщику пустить художника помыться в душ, специально оборудованный для начальства. Другой начальник, Прохин, лагпунктовское МГБ, заказал, было, «Утро стрелецкой казни», но передумал. Для лагеря Сергей Михайлович копировал репинских «Запорожцев». Потом эту копию, говорят, повесили в городском клубе.
Сергей Михайлович был человеком очень увлекающимся, изучал в МГУ математику, но потом бросил и стал заниматься живописью. Учился у художника Мешкова, был бессеребренником, жил бедно и во всем был идеалистом. Очень интересный собеседник, он хорошо знал не только историю искусства, но и философию (особенно древнегреческих философов), архитектуру. Рисовал прекрасно, и многие заключенные ему позировали. Внешнее сходство у него получалось само собой. В портретах он добивался другого – показывал внутреннюю сущность человека через его внешний облик. Когда рисовал, то все время разговаривал, задавал вопросы и, как потом признавался, это помогало подсматривать нутро человека. Я видел многие его портреты, и они всегда удивляли большой проникновенностью в психологию человека: нарядчик с оловянными, как пуговки, пустыми глазами или тот же Борис Ольшинский в вязаной фуфайке, отогнутая горловина которой выглядела как ярмо раба, а во взоре что-то надсадное, согбенное. Интересно, что сам Ольшинский говорил: «Это я, я узнаю себя, я такой». Или портрет каптерщика: человек с глазами тигра – во время позирования он говорил, что следователей расстреливал бы, не задумываясь. Некоторые портреты вызывали протест, когда художник идеализировал натуру и наделял ее чертами, ей несвойственными. Так, плотника Петушинского, личность весьма заурядную, Сергей Михайлович изобразил мужественно и благородно. Когда я спросил, почему он так сделал, художник ответил: «Волосы подсказали. На этой основе было интересно нарисовать римского воина, волосы, как перья, на шлеме».








