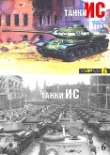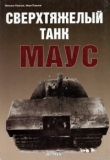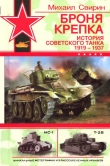Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
экземпляре.
63. Советские танки в Берлине
20 апреля 1945 года, на подступах к Берлину, расположение штаба 1 гвардейской
танковой армии
С Жуковым трудно разговаривать.
Генерал-полковник Катуков звонил ему, измотанный долгими часами боев у Зееловских
высот.
– Георгий Константинович, долго не продержимся: левый фланг у нас открыт, а немец
прет, как бешеный.
Жуков рявкнул:
– Отсиживаетесь по блиндажам? За своими танкистами не смотрите?!
– Дайте хоть кого-то! – закричал в ответ Катуков. – Контратаки гитлеровцев не
ослабевают, а с такими силами, как у меня, далеко вперед не уйдем.
Жуков замолчал и молчал долго.
Катуков затаил дыхание.
– Так, – сказал наконец командующий фронтом, – в резерве у меня сейчас есть
кавалерийский корпус. Отдаю вам, ждите – придут. Но до их прихода – держать
оборону, так вас и так! Жестко держите оборону фланга. Иначе не только танковой армии
– всему фронту... – Он запнулся, подбирая более корректное слово, нежели то, что
вертелось у него на языке. – Не поздоровится нам, товарищ Катуков!
Кавалеристы действительно появились быстро.

А вслед за ними прилетела и радиограмма от командующего:
«Первой гвардейской танковой армии поручается историческая задача – первой
ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы. Лично вам поручается организовать
исполнение. Не позднее четыре часов утра 21 апреля любой ценой прорвитесь на окраину
Берлина».
В этом – весь Жуков. «Любой ценой»...
Возможно ли это физически – вот вопрос?..
– Задача поставлена, товарищи, – усталым голосом произнес Катуков. – Значит,
должны исполнить. Дадим Гитлеру последнего пинка – высокой квалификации и в
указанном направлении!
...Путь к Берлину проходил через леса. Дальше начиналась цепь озер, танки там не
пройдут.
А леса горели, и дым пожаров заволакивал все вокруг, мешал видеть.
На каждом шагу танкистов поджидали замаскированные орудия и «фаустники».
Мотострелков пустили перед танковой бригадой.
– Ваша задача, – объяснил Михаил Ефимович Катуков, – обнаруживать и уничтожать
засады. Сейчас главным противником наших танков является не столько танк врага, сколько этот клятый «фауст».
...Сержант Пепелюк, немолодой уже человек, с зеленой ленточкой «сталинградской»
медали, первым заметил опасность.
–
Затаился,
–
пробормотал
он.
–
Не
знает,
что
я
его
вижу.

У Пепелюка было «ночное зрение» – как у кошки, чем он немало гордился. Он
действительно видел лучше, чем другие.
Порыв ветра отвел в сторону завесу дыма – на один миг, но этого хватило. Пепелюк
выстрелил из личного оружия, и на дорогу выпал человек, все еще сжимавший
фаустпатрон.
– Ребенок! – Глаза Пепелюка округлились.
Немало немцев убил он сам, дважды ранили его самого; видел он, как погибали его
боевые товарищи. В сожженных немцами деревнях попадались ему и тела детей. Но
никогда в жизни Павло Пепелюк не поднимал руки на ребенка.
– Да что это такое? – вскрикнул он.
Мальчик лет четырнадцати с фашистской повязкой на руке лежал перед ним на дороге.
– Гитлер призывает в армию подростков, – сказал лейтенант Васькин, командир
отделения мотострелков. Он остановился рядом посмотреть. – Плохи его дела.
– Плохи не плохи, а такое дитѐ с «фаустом» много дел наворотить может, —
пробормотал Пепелюк. – Вот и думай, как быть.
– Ты не думай, Пепелюк, – посоветовал Васькин. – Твоя задача – обеспечить проход
нашим танкам на Берлин. А смерть этого ребенка пусть на тех будет, кто его в бой
отправил.
Подминая под гусеницы кустарники, двигались через лес советские танки.
Они шли на Берлин.
21 апреля 1945 года, предместье Берлина Кѐпеник
И снова Жуков, как и в былые времена, действовал танками «нестандартно» – как
кавалерией. Бросил их, всю силу, против одного города.
Он спешил. Ходили слухи, будто немцы пытаются заключить с союзниками сепаратный
мир. Словом, нужно было брать фашистского зверя за горло прямо в его берлоге – и как
можно скорее.
Зазвонил телефон. Жуков метнулся к аппарату, схватил трубку, сказал – как ему
показалось, спокойно (на самом деле почти крикнул):
– Жуков у аппарата!
– Это Дремов, – раздался флегматичный голос комкора. – Докладываю. Мой корпус,
взаимодействуя с пехотой Чуйкова, ворвался в Кѐпеник.
Жуков метнулся к карте: Кепеник – ближний пригород Берлина, фактически – уже сама
столица.
– Где остальные?
– Берзарин был на севере, как далеко продвинулся сейчас – не знаю.
Жуков бросил трубку.
Началось!
Сбывается самое несбыточное – то, что под Сталинградом, под Курском казалось почти
невозможным.
Советские танки – в Берлине.
Предстояли последние схватки с врагом. И никто не сомневался в том, что этот бой будет
самым жестоким.
21 апреля 1945 года, Эркнер, командный пункт Катукова
– Михал Ефимыч, – голос командира корпуса Бабаджаняна подрагивал, и Катуков с
удивлением понял, что тот удерживается от смеха, – у меня тут нарисовались японцы.
Что с ними делать?
– Какие японцы, что вы несете? Откуда вы взяли японцев? – взорвался Катуков.
– Да черт их знает, говорят – посольство.
– Шлите их сюда, разберемся, какое еще посольство...
Через час на командном пункте возникли японцы. Им показали «главного» – на
неискушенный взгляд, командующий сейчас мало отличался от простого офицера,
выглядел почерневшим от усталости и отнюдь не щегольски одетым.

Катуков с трудом скрывал изумление, видя, как эти люди вежливо кланяются ему.
– Кажись, не слишком они уверены в нашем теплом приеме, Михал Ефимыч, – заметил
начальник оперативного штаба Никитин. – А?
– И с чего бы? Они же союзники нашего злейшего врага! – ответил Катуков. – Однако
помните директиву «об изменении отношения к немцам» – ну, ту, где нам категорически
не рекомендуется мстить местному населению? И Кутузов то же говорил, когда
французов добивали...
– Так то Кутузов... – неопределенно произнес Никитин.
Один из японских дипломатов довольно сносно говорил по-русски.
– Мы хотим наша родина, – сообщил он. – Линия фронта – страшно
– Как вам в голову пришло искать защиты у нас? – спросил Катуков.
Японец поклонился.
Ясное дело, подумал командующий, немцы-то их защитить уже не смогут.
– Будем их считать беженцами, – решил Катуков. – Дайте им транспорт и отправьте в
штаб фронта.
Когда японцев препроводили, Никитин восхищенно произнес:
– Да вы дипломат, товарищ командующий! А скажите-ка, давно ли вы ели?
– Некогда мне режим соблюдать, – отмахнулся Катуков.
– Вот скрутит язва посреди боя – будете знать, – предупредил начальник штаба.

22 апреля 1945 года, Берлин
Лейтенант Шкварин остановился, открыл люк танка.
Тяжелые танки ИС-2 двигались по улицам «елочкой». По узкой улице одновременно
могли пройти только две машины, одна чуть впереди другой.
Первый танк простреливал правую сторону улицы, второй – левую. Другая пара шла
следом за первой, поддерживая ее огнем.
На броне передвиг
ались автоматчики, и при встрече с противником они спешивались и вели бой. Именно
они уничтожали «фаустников» – главное оружие против тяжелого танка.
– Что там, товарищ лейтенант? – спросил водитель.
– Сам гляди.
На стене одного из домов кто-то написал крупными, неровными буквами, торопясь
начертить осколком кирпича указатель-стрелку: «ДО РЕЙХСТАГА – 15 КМ».
– Почти дошли, – выдохнул Шкварин. Он закрыл люк и дал команду продолжать
движение.
Свыше пятисот зданий столицы рейха были превращены в опорные пункты. Они
прикрывали друг друга огнем, связывались подземными коммуникациями.
Мосты были заминированы, но не подорваны – вопреки воле Гитлера рейхсминистр
вооружений Альберт Шпеер запретил взрывать объекты в столице. Гитлер уйдет,
Германия останется.
Русские саперы шли перед танками, расчищая для них дорогу.

23 апреля 1945 года, берег реки Шпрее
Катуков вышел из машины.
Перед ним раскрывалась панорама города Берлина.
Огромный город горел. В небо вздымались языки пламени, нижний слой облаков был
подсвечен багровым.
Перед советскими танками лежала последняя водная преграда – река Шпрее
– Где Дремов?
Катукову показали, где находится командный пункт. Иван Федорович Дремов сидел в
полуподвале полуразрушенного здания, недалеко от набережной реки.
Коптила лампа, карта города, разложенная перед Дремовым, была истрепана на сгибах, заляпана пятнами копоти.
Лицо комкора потемнело от усталости. Впрочем, сам Катуков выглядел не лучше.
– Что у тебя, Иван Федорович?
Катуков сел.
– Мост через реку немцами взорван. Сейчас специальные отряды форсируют Шпрее.
Они прикроют саперов, пока те будут наводить переправу.
– Ясно, – кивнул Катуков. – Я тебе подброшу огоньку на тот берег. Больно упрямый
немец тут засел, палит из всех видов оружия.
– Что набережная?
– И носу не высунешь туда. Эсэсовцы засели. Старые наши знакомые, еще по
Сталинграду.
Дремов снял трубку полкового телефона, переговорил с артиллеристами.
Огонь тотчас усилился. Катуков подошел к окну полуподвала, выглянул наружу. На
противоположном берегу бушевало пламя, клубился дым.
Дремов слушал грохот, видел пожар, и лицо его оставалось абсолютно спокойным.
Вошел лейтенант, серый от пыли.
Перевел взгляд с Дремова на Катукова, замешкался – кому докладывать.
– Докладывайте, товарищ лейтенант, – ободряюще кивнул Катуков.
– Девятнадцатая гвардейская мехбригада форсировала Шперее через железнодорожный
мост, севернее Адлерсхофа.
– Отлично! – воскликнул Катуков (куда более эмоциональный, нежели Дремов). —
Часть корпуса отправляем к железнодорожному мосту, а остальные части будем
переправлять здесь, по мосту, который наведут саперы.
– Мост будет часа через три, – заверил Дремов.
24 апреля 1945 года, район Адлерсхоф, Берлин
– Товарищ Жуков, – Катуков старался говорить спокойно, – в ночь на двадцать
четвертое все части Первой гвардейской танковой армии переправились через Шпрее в
районе Адлерсхоф – Бонсдорф. Мы готовы наступать к центру Берлина с юго-востока.
– Хорошо, – обрубил Жуков.
– Товарищ Жуков, до сих пор мы действовали в одной полосе с армией Чуйкова, и он
был старшим.
– И это правильно, – сказал Жуков. – Претензии?
– В городе иная обстановка, товарищ командующий фронтом. Дайте нашей танковой
армии самостоятельную полосу наступления в Берлине.
Жуков немного поразмыслил. Но Катуков знал, что делает: вера Георгия Константиновича
в танки была велика.
– Действуйте, – сказал наконец командующий. – Будете наступать по улицам
Вильгельмштрассе, по направлению к парку Тиргартен – зоопарку, – это уже совсем

близко к имперской канцелярии и рейхстагу. От обычных зверей – к зверью в
человеческом обличьи!
Чувствовалось, что Жуков изучил карту Берлина досконально и мог ходить по этому
городу с закрытыми глазами.
– И будьте осторожны, – прибавил командующий. – Там в каждом канализационном
люке засело по «фаустнику».
28 апреля 1945 года, 20 часов, Берлин
– Товарищ Катуков! – Голос
был незнакомый. – Это штаб фронта, майор Иващенко. Приказ командующего: по
рейхстагу огонь не открывать! Повторяю: не открывать огонь по рейхстагу. Как поняли?
– Понял, – ответил Катуков, ошеломленный. – По рейхстагу огонь не открывать. Но...
почему?
– К рейхстагу уже вышли части генерал-полковника Кузнецова. Там уже наши! —
штабист не выдержал – в его голосе прозвучало ликование. – Наши!
Катуков положил трубку.
Обидно, конечно, подумал Катуков. Честь водрузить Знамя Победы над рейхстагом
выпадет другой части...
Но главное – это Победа. Все ради нее.
И первая задача Первой гвардейской танковой – зоологический сад. Подступы к
рейхстагу. Осталось совсем чуть-чуть.
Катуков подошел к окну.
Из окна командного пункта уже видны были Бранденбургские ворота.

64. Первая танковая у Дона
22 июля 1942 года, Москва, Ставка Верховного Главнокомандования
Сталин был мрачен. Начиная с семнадцатого числа немцы перешли в наступление и
определенно рвались к Сталинграду.
Предположение о том, что главной целью летней кампании противника станет Москва,
оказалось ошибочным.
– Какие новости от наших шестьдесят второй и шестьдесят четвертой армий? – Сталин
подошел к большой карте.
– Шестые сутки отражают атаки на рубеже рек Чир и Цимла, – ответил генерал
Василевский, начальник Генерального Штаба.
Сталин долго, пристально всматривался в его лицо, затем перевел взгляд на
командующего Сталинградским фронтом генерал-лейтенанта Гордова.
– А ведь там долго так не продержаться, как вы считаете, товарищ Гордов? —
проговорил наконец Верховный.
Гордов ответил ровным тоном:
– Если потребуется – все умрем на этом рубеже, Иосиф Виссарионович.
Сталин поморщился:
– Не надо, чтобы все умерли на рубеже. Не надо! Надо жить и побеждать. – Он
выдержал паузу, набил в трубку табак, но прикуривать медлил. Отвел в сторону руку с
трубкой, спросил: – Вы как считаете, товарищ Василевский, какие меры там необходимо
сейчас принять?
– Там сейчас необходима танковая армия, – твердо сказал вместо Василевского Гордов.
Видно было, что над этим предложением он размышлял уже некоторое время.
Сталин зажег спичку, раскурил трубку. Молчание затянулось. Наконец Верховный
проговорил:
– И я тоже так считаю. Можем мы сформировать к 28 июля в составе Сталинградского
фронта танковую армию?
Гордов оживился:
– На базе 38 армии. Подчиним ее генерал-майору Москаленко, который сейчас
командует тридцать восьмой.
– А где сейчас товарищ Москаленко? – спросил Сталин.
– Я вызвал его в Ставку, – ответил Гордов. – Пригласить?
Москаленко вошел, доложился. Видно было, что он взволнован. На вопрос, как он
расценивает идею создания танковой армии, ответил не задумываясь и с
обезоруживающей простотой:
– Да я уже давно мечтал о создании подобного объединения!
– Если говорить точно, товарищ Сталин, предполагается создание армии смешанного
состава, – заметил Василевский. – Туда будет включено управление тридцать восьмой
армии со всеми армейскими частями, учреждениями и тылами, два танковых корпуса,
несколько стрелковых дивизий.
– Откуда предполагаете взять дивизии?
– Сейчас прибывают с Дальневосточного фронта.
– Хорошо, – кивнул Верховный. – Нужны еще полки противотанковой обороны и
желательно – полк ПВО.
– Следовало бы еще включить резервную танковую бригаду, – добавил Василевский.
– Нет у нас сейчас резерва, – сказал Сталин. – Готовьте директиву. Нужна танковая
армия. Прямо сейчас. А вы, товарищ Москаленко, готовьтесь развернуть ее на западном
берегу Дона, в районе Качалин – Рычковский – Калач.
Он показал на карте, но этого не требовалось: все присутствующие могли бы
«путешествовать» по этой карте с закрытыми глазами.

24 июля 1942 года, 20 часов, командный пункт Первой танковой армии
Генерал Василевский пожал руку Москаленко и его начальнику штаба – Иванову.
– Докладывайте успехи.
– С успехами не очень, – сказал Москаленко. – За два дня армию толком не
сформируешь. Учитывая же, что мы ее лепим прямо на ходу – фактически из тех частей,
что находятся под рукой... В тринадцатом танковом корпусе полковника Танасчишина
три танковых и одна мотострелковая бригады. Однако в танковых бригадах вместо трех
– только по две роты. На весь корпус 123 танка. В мотострелковой бригаде недокомплект
в людях.
– Дальше, – махнул рукой Василевский. – Двадцать восьмой танковый корпус
полковника Родина – там как?
– 178 танков, однако, у многих дефекты. И все без раций. Пополнение в людях —
новобранцы. Нет автотранспорта, нет разведывательного батальона.
– И нет времени, – заключил Василевский. – На южном фланге – на решающем
направлении – противник отбросил наши войска за Дон на протяжении от Воронежа до
Клетской и от Суровикино до Ростова. Остался только один плацдарм в большой
излучине Дона. Разведка доносит, что к Паулюсу движется подкрепление. Выводы,
товарищи, думаю, ясны.
В этот момент раздался телефонный звонок. Начальник штаба Первой танковой армии
полковник Иванов снял трубку. Его лицо становилось все более мрачным.
– Командующий 62 армией генерал Колпакчи сообщает, что возникла реальная угроза
окружения значительной части его армии.

Генерал Василевский еще раз взглянул на карту, сделал на ней отметку синим
карандашом. Затем произнес:
– Обстановка вынуждает нас принять архитрудное и ответственейшее решение:
безотлагательно нанести контрудар танковыми армиями. Мы планировали такой удар, но
не ранее конца июля. А придется выступать немедля. Первая танковая армия – завтра с
утра. Вас поддержат Четвертая танковая, 21, 62 и 64 армии.
– Вы учитываете, что состав Первой танковой очень слаб? – сказал Москаленко.
– Да, – резко обрубил Василевский. – Но выхода нет. На рассвете переправите все, что
у вас есть, через Дон. Встретите слабого противника – ваше счастье, громите его к
чертовой матери. Встретите сильного – бейтесь до последнего танка на том рубеже, до
которого сумеете его отбросить. Ваша главная задача – не допустить гитлеровцев к
переправе у Калача.
Он помолчал и закончил:
– Всю ответственность за последствия принятого решения я беру на себя. Целью врага,
несомненно, является Калач. От Калача прямой и кратчайший путь к центру Сталинграда.
– А что Четвертая танковая? – спросил Москаленко.
– Четвертая не успевает, она подойдет только через двое суток. Ждать нельзя, – ответил
Василевский. – Главный удар падает на Первую.
25 июля 1942 года, 0 часов, расположение 28 танкового корпуса
Полковник Родин прилег прямо на земле, сунув под ухо свернутую шинель. Нужно
отдохнуть хотя бы полчаса.
Ему казалось, он знает «в лицо» каждый из своих танков: восемьдесят восемь
тридцатьчетверок, шестьдесят Т-70 и тридцать Т-60. И почти у каждого что-нибудь да

барахлит. Восполнить недостатки техники совершенством личного состава невозможно —
почти все танкисты новички, даже не бывшие еще в бою.
– Из штаба! – Дежурный, разбудивший полковника, выглядел виноватым.
– Давай. – Родин взял трубку и откашлялся.
Голос Москаленко звучал отчетливо, ясно:
– Заправьте танки горючим. Обеспечьте боеприпасы. Немедленно по готовности
выдвигайтесь на позиции.
Родин ответил «так точно». Встал, пригладил волосы, плеснул в лицо холодной воды.
– Командиров бригад – ко мне, – приказал он дежурному.
Из штаба армии скоро доставили приказ. Мда, такое и написать-то непросто, а уж
выполнить!.. Переправляться через реку предстояло под непрерывным огнем, под
бомбами вражеских самолетов. И едва оказавшись на западном берегу – тотчас вступать
в бой.
– Наступать будем с трех ночи, чтобы хотя бы вражеская авиация нас не достала, —
приказал Родин.
25 июля 1942 года, 3 часа ночи, берег Дона
Слышно было, как плещет вода. Черная южная ночь скрывала людей и машины. Родин
ждал.
Мигнула лампочка полевого телефона.
– Перебрались! – доложил связист.
– Пусть занимают позицию и обеспечивают переправу другим подразделениям, —
приказал полковник.
И снова мигнула лампочка.
– Наш третий батальон на марше атакуют пятнадцать танков противника и мотопехота
на семи машинах!
– Бабенко! – крикнул Родин. И когда подполковник явился, приказал: – Возьмите
тридцать тридцатьчетверок и выручайте третий стрелковый. Иначе перебьют их немцы.
Остальные – за Дон. Действуйте.
В двух с половиной километрах от переправы загремел бой.
Наступало утро.
25 июля 1942 года, 17 часов, берег Дона, район Калача
– Докладывайте. – Родин был бледен от недосыпания. Хотелось самому сесть в танк и
отправиться в бой.
– Первый танковый батальон переправился и с ходу атаковал противника. – Голос в
телефонной трубке звучал хрипло. – Враг отброшен от переправы. Под прикрытием
танков два стрелковых батальона заняли назначенный им рубеж и удерживают его.
– Немцы?
– Огонь сильный, бомбят.
– Пусть полковник Лебеденко со своим батальоном обойдет рощу справа по низинке и
врывается в нее с тыла, – приказал Родин. – Выбьем оттуда врага.
...Командующий моторизованной дивизией генерал-лейтенант Шлемер был мрачен.
Ему прислали подкрепление, но он считал, что этого мало.
– Русские совершенно озверели, – он смотрел в бинокль. – Их атака чрезвычайно
сильна. – Он покачал головой. – На что они рассчитывают? Мы вернем переправу!
Встречный бой навязан им на крайне невыгодных условиях. И потом – наша авиация
безусловно господствует в воздухе!
25 июля 1942 года, 19 часов, берег Дона, район Калача
– О, я понимаю, почему они бросают все новые и новые силы! – начальник штаба 52
армейского корпуса генерал-майор Дерр с трудом сохранял достойное арийца
спокойствие. – Они нас задерживают у Kalatsch с определенной целью: им нужно
выиграть время. Пока мы связаны сражением, они эвакуируют Сталинградские заводы,
готовят город к обороне. Это умно!
– Русских много, как муравьев, – сказал Шлемер. – Они могут жертвовать таким
количеством людей.
– Да, но могут ли они также жертвовать таким количеством танков? – возразил Дерр. —
К середине дня они потеряли, по предварительным подсчетам, около шестидесяти танков.
А мы – двадцать семь.

– Каковы будут приказы? – спросил Шлемер.
Дерр вздохнул:
– Переходим к жесткой обороне. Против русских танков использовать все! Даже
средства ПВО!
25 июля 1942 года, 22 часа, район города Калач
Переправлялись последние советские части танковой бригады.
Уже темнело. «Немец боится ночного боя», – подбадривали себя командиры.
Напрасно! Одна за другой повисли светящиеся авиационные бомбы, и черные тени
немецких самолетов пронеслись низко над землей. Они начали бомбить потонный мост.
Им отвечали советские зенитные батареи. Но переправа остановилась.
– Товарищ полковник, тридцать вторая мотострелковая переправиться не сумела!
Полковник Родин отмахнул рукой:
– Атакуем чем есть! Нужно упредить противника. Сколько танков у нас в пятьдесят
пятой танковой бригаде?
– Тридцать шесть.
– Двигаемся в направлении Ложков.
И сам возглавил атаку.
Немцы ждали: Родина встретил плотный огонь. Закопанные в землю танки,
противотанковая артиллерия, зенитные пушки – все было нацелено на русские танки.
Каждый метр земли, преодолеваемый под обстрелом, воспринимался Родиным как
победа.

Километр... Километр триста метров...
На рубеже в два километра советские танки были остановлены. Потери составили десять
танков.
26 июля 1942 года, 19 часов, район села Ложки
– Где пехота? – Командир пятьдесят пятой танковой бригады полковник Лебеденко не
находил себе места.
– Опаздывает, товарищ полковник.
– Все, дольше ждать нельзя. Атакуем без пехоты!
Пятьдесят пятая не выходила из боя весь этот жаркий день. Сейчас ей предстояло
захватить село Ложки и совхоз «Десять лет Октября». Лебеденко должен был лично
возглавить обходной маневр по берегу Дона.
Но пехота опаздывала.
Танки двинулись вдоль берега, постепенно сворачивая к северу.
– А, заметили наконец! – пробормотал Лебеденко, когда немцы открыли
беспорядочный артиллерийский огонь.
Советские танки успели пройти уже около четырех километров.
Немцы отступали из села Ложки.
– Нужно захватить высоту, иначе район не удержать! – Лебеденко передал приказ.
26 июля 1942 года, 21 час, наблюдательный пункт Первой танковой армии
Генерал-полковник Василевский внимательно выслушал доклад Москаленко.
– Пятьдесят пятая заняла Ложки, но немец сидит за северными скатами высоты.
Закрепился, выдвинул артиллерию. Поэтому Лебеденко вынужден был перейти к обороне.

– Результаты? – спросил Василевский.
– Частичный успех. Когда подойдет Четвертая танковая? Авиационная поддержка
недостаточная, артиллерийская – тоже. – Москаленко понимал, что говорит слабо,
практически просит, но выхода не было: два дня его недоукомплектованная танковая
армия сражалась, по сути, одна.
– Завтра попробуем улучшить ситуацию, – обнадежил его Василевский.
Оба знали, что это почти невыполнимо. Вряд ли Четвертая успеет за один день, под таким
обстрелом, переправить все свои танки через Дон. Фактически Первая танковая имела
возможность наносить врагу удары силами лишь одного 28 танкового корпуса.
Но основная задача Первой танковой заключалась в том, чтобы как можно дольше
удерживать врага от наступления на Сталинград. Каждый выигранный день – победа: это
Сталинградские заводы, это орудия и танки для фронта, для Победы.
65. Первый бой Черняховского
22 июня 1941 года, 4 часа утра, расположение 28 танковой дивизии, 20 км к северу от
Шяуляя
Солнце только-только поднялось над вершинами сосен, и вдруг утреннюю тишину
нарушил гул моторов. Взвыла сирена – воздушная тревога.
– Кто в воздухе? – Командир 28 танковой дивизии полковник Черняховский буквально
столкнулся со своим начальником штаба, подполковником Маркеловым.
Несколько дней назад в дивизии проводились учения, людей поднимали по боевой
тревоге. Но это был приказ самого командира. А сейчас-то что происходит?
– Сведений нет, – ответил Маркелов. – Штаб корпуса молчит.
– Думаете, очередная провокация? – спросил Черняховский. «На немецкие провокации
не отвечать», – был стабильный указ из штаба корпуса.
Вместо Маркелова ответили самолеты: бомбардировщики начали пикирование.
Телефоны в штабе дивизии надрывались и вдруг смолкли – вышла из строя телефонная
связь. Командиры полков недаром были обучены Черняховским, который не доверял
ненадежной телефонной связи: тотчас пошли запросы по радио.
– Открыть огонь по противнику?
«Война... – думал Черняховский. – Не верится. Может, действительно, еще одна
провокация? И через пару часов конфликт будет улажен?..»
Еще один взрыв, совсем близко, заставил его отказаться от этих предположений.
«Нет, это война, настоящая большая война. И решение нужно принимать прямо сейчас».
Он срочно вызвал к себе командиров всех частей.
Вечером двадцать первого, затемно, Черняховский приказал своему пятьдесят пятому
танковому полку сменить район сосредоточения. Наитие? Сам полковник уверял, что
просто выполнял приказ, в котором весьма обтекаемо было написано: «Обеспечивать
бдительность».
Если бы пятьдесят пятый не ушел нынче ночью, утром немецкие пикировщики не
оставили бы от него даже воспоминаний: бомбили аккурат тот участок леса, где еще
накануне размещались танки.
Командиры наконец собрались.
– По противнику открывать огонь самостоятельно, – приказал Черняховский. – И
готовьтесь к маршу.
Мобилизационный план, разработанный столь тщательно, летел ко всем чертям. Война
сразу пошла «не так».
У Черняховского имелось более двухсот танков в этом лесном массиве. И никакой связи с
командованием корпуса и соседями.
В эфире царил настоящий хаос. Радист пробивался сквозь него четыре часа.

22 июня 1941 года, 8 часов утра, район Шяуляя
– Иван Данилович, есть связь!
Маркелов лично принес первую радиограмму из штаба корпуса.
«Германия напала на Советский Союз, ее войска вторглись на глубину 50-60 километров,
приготовиться к контрудару».
– Что соседи? – допытывался Черняховский. – Почему нет известий от командира
корпуса?
Командир корпуса генерал Шестопалов медлил: ждал указаний из штаба армии.
Слишком опытен. Слишком долго учился выполнять приказы.
– Каждая минута на счету! – Черняховский не находил себе места. – Необходимо
контратаковать, немедленно!.. Где соседи?
Но известий по-прежнему не поступало.
Затем посыпались приказы.
– Развернуть дивизию для контратаки!
Черняховский начинал подготовку, но почти сразу приходил новый приказ: «Отставить».
Затем вновь предлагалось атаковать – и снова отбой.
– Плохо, – говорил Черняховский, не сводя глаз с оперативной карты. – Мы растянуты
по фронту на шестьдесят километров. Враг господствует в воздухе. Где наша авиация? В
таких условиях ни о каком массированном танковом контрударе и речи быть не может.
Он твердо был убежден в том, что вводить танки в сражение по частям – огромная
ошибка, если не сказать преступление. Танки должны действовать массированно.
А соседи где-то «потерялись». Место дислокации постоянно менялось.
Дивизия Черняховского двигалась в указанном направлении, к Таураге, где должна была,
в соответствии с приказном, нанести удар по вклинившемуся противнику.
23 июня 1941 года, 10 часов утра, район Калтыненяй
– Вызывайте снова, – требовал Черняховский у радиста. – Где двадцать третья
танковая дивизия?
Двадцать третья всѐ не появлялась. И известий от нее не поступало.
– Бьем сами! – решил Черняховский. – Дольше ждать нельзя.
...Только к концу дня стало известно, что двадцать третью командующий 8-й армией
генерал Собенников использовал совершенно не в том направлении, какое было
определено фронтовым штабом.
Черняховский действительно остался один.
– Будем атаковать с двух направлений: с фронта – тридцатью танками под
командованием командира полка майора Онищука, с фланга – семнадцатью танками во
главе с заместителем командира полка майором Поповым.
Танки вышли из леса, который до сих пор служил им укрытием.
Онищук с ходу ворвался в расположение противника и начал расстреливать мотопехоту.
Черняховский наблюдал за боем из командирского танка.
– Теория закончилась, началась практика, – сказал он себе. – А практика такова, что
противник с боями прошел Францию, Польшу. Мои же танкисты идут сейчас в своей
первый бой... И я тоже.
Он поднес к глазам бинокль. Хороший, цейсовский. Немецкий.
– Посмотрим, что у них за танки...

Против БТ-7 и Т-26 двадцать восьмой танковой дивизии Черняховского стояли
«четверки» – немецкие T-IV. Во Франции они уже показали себя.
По толщине брони и дальнобойности пушек «четверки» сильнее. Орудия тоже не равны
по силе: семидесятипятимиллиметровые «четверок» против сорокапятимиллиметровых
наших. Что еще? Да. Наши легкие танки заправляются бензином. Загорится – экипаж
может и не успеть выскочить. Пылает знатно.
Что остается? Только маневр.
...Сейчас уже танки Попова должны выйти в тыл и фланг противнику. Где же он? Онищук
вовсю дерется с немцами. Один, затем и два БТ-7 уже горят... Новый факел – Т-26.
Черняховский не находил себе места. Столько лет учебы! Академия с отличием! Он так
тщательно учился воевать – действовать активно, навязывать врагу свою волю...
И вот теперь он просто смотрит, как горят его танки. Пять танков. Все, дольше ждать
нельзя.
– Я должен увидеть и попробовать все сам, – решил командир дивизии. – Учиться в
бою – не лучшее решение, но другого нет.
Он обратился к своему механику-водителю, сержанту Лаптеву:
– Заводи мотор, Миша. Едем.
Командирский танк помчался к передовой. Вокруг рвались снаряды. Механик-водитель
лавировал, как сумасшедший, танк нырял в овраги, петлял между деревьями.
Черняховский увидел в перископ на башне танка, как Т-IV подбил БТ-7 с расстояния
восьмисот метров. Советский танк вспыхнул.
Черняховский развернул башню и выстрелил. Снаряд отскочил от лобовой брони
«немца».
– Что за черт! – выругался Черняховский. – Не берет наш снаряд их броню!
– Миша, ближе, – приказал он водителю.
За командирским танком устремились и машины майора Онищука.
До «четверки» оставалось совсем немного, метров четыреста.