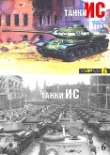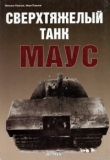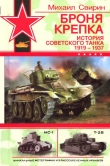Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Его величества немедля превратится в какого-нибудь реднека из Коннектикута или
Небраски! Раздельное заряжание танкового орудия по образцу Королевского флота?
Почему нет?!
– Кхм... – герой Эль-Аламейна, генерал Бернард Лоу Монтгомери взглянул на премьера
озадаченно. – Видите ли сэр, раздельное заряжание – это даже не вчерашний, а

позавчерашний день... Кроме того, согласно опыту минувших сражений, на практике
доказано, что тяжелый танк обязан иметь башню!
– Помнится, тридцать с лишним лет назад, во времена Великой войны, я был Первым
лордом Адмиралтейства, – взгляд Черчилля мечтательно затуманился. – И тогда же
организовал «Landships Committee», «Комиссию по сухопутным кораблям»,
разрабатывавшую самые первые танки... Ну а поскольку означенные сухопутные корабли
проходили именно по ведомству Адмиралтейства, мы решили продолжить славные
традиции Королевского флота!
Монтгомери скривился, но предпочел не напоминать премьеру его собственные слова
произнесенные в далеком 1912 году – в ответ на упрек одного из адмиралов, что он
якобы игнорирует «морские традиции», сэр Уинстон в привычной язвительной манере
заметил: «О каких традициях вы говорите? Я назову вам их все в трех словах. Ром, плеть и
содомский грех. Доброго утра, джентльмены!»
Но тем не менее начало эпохи бронетехники прошло именно под военно-морским
знаменем – благодаря Черчиллю и «Landships Committee» морская терминология в
области танкостроения прижилась навсегда: башни, палубы, корпуса, люки, спонсоны.
Перед Первой мировой войной британская полевая артиллерия не обладала орудиями,
которые можно было бы использовать в ограниченном пространстве танка, а значит
пушки тоже пришлось заимствовать у ВМФ...
Однако, сейчас 1944 год, а не 1914! За три десятилетия танкостроение совершило
колоссальный скачок вперед. Традиции традициями, но нельзя пренебрегать веяниями
времени и не обращать внимания на поступь прогресса! Это генерал Монтгомери понимал
особенно хорошо, встретившись в Африке и на Итальянском фронте с тяжелыми

немецкими «Тиграми», на порядок превосходящими любой британский или американский
танк.
...Предметом спора между премьером и знаменитым полководцем стал проект А39
Tortoise предложенный военным фирмой «Ньюффилд» после того, как был объявлен
конкурс на создание «штурмового танка», предназначенного для прорыва
долговременных укреплений противника. В свете планировавшейся операции «Оверлорд»
и высадки на континенте подобные машины были бы полезны, но только не в столь
жутком исполнении...
– Позвольте взглянуть? – Монтгомери подвинул к себе очередную схему. – Кажется,
это разработка огнеметной машины на базе А39? Боже мой... Практически весь боевой
отсек занят четырьмя шестисотлитровыми емкостями с зажигательной смесью, между
которыми находятся семь баллонов высокого давления, обеспечивающими выброс
огнесмеси? Две тысячи четыреста литров? Теперь я окончательно понял смысл выражения
«сидеть на пороховой бочке»!
– Хорошо, хорошо, – кивнул Черчилль и потянулся за бутылкой с непременным
армянским коньяком. – Если вам не нравится огнеметный вариант, забудем о нем.
– Следующий проект, – генерал становился мрачнее с каждой секундой. – Извините, а
зачем орудие 94-миллиметра установлено в боковом спонсоне? Практика применения
поставляемых по ленд-лизу M3 Lee показывает, что горизонтальный угол наведения
совершенно недостаточен для танка! Я видел на фронте нормальные противотанковые
САУ – пушку лучше все-таки ставить по центру!
Уинстон Черчилль вздохнул – лобби истинно британского спонсонного крепления
орудия в департаменте по разработки бронетехники было особенно сильным. Но
Монтгомери не переспоришь – он все-таки практик, а не теоретик, рассуждающий в
уютном кабинете о старинных традициях!
– Та-ак, – в руках генерала оказался следующий чертеж. – Уже лучше, орудие там, где
ему быть и полагается. Однако, инженеры
ударились в другую крайность: захотелось навесить побольше брони. Лоб – двести
двадцать восемь миллиметров? Масса танка увеличивается до семидесяти девяти тонн,
скорость снижается до девятнадцати километров в час по шоссе и всего-навсего шести по
пересеченной местности? И вы хотите предложить ЭТО нашей армии?
– Напомню, – Черчилль обиженно поджал губы, – Tortoise проектировалась как
штурмовой танк! Никто не заставляет вас сражаться на А39 с немецкими «Тиграми», тем
более, что танки с танками не воюют! Как вы преодолеете германскую Линию Зигфрида
без машин подобного класса?
– Примерно так же, как немцы преодолели линию Мажино четыре года назад, —
огрызнулся Монтгомери. – Маневренная война, теория глубокого охвата... Скажу
больше: Африканская кампания доказала, что лучший способ борьбы с тяжелыми танками
неприятеля – выкатить зенитные орудия на прямую наводку. Обходится в сотню раз
дешевле, чем одна такая черепашка. Кстати, стоимость одного экземпляра уже
рассчитана?
– Сто сорок одна тысяча фунтов, – нехотя признал Черчилль. – Действительно,
дороговато.
– Тогда как обычный Sherman Firefly стоит чуть меньше пятнадцати тысяч фунтов! —
воскликнул Монтгомери. – Прошу прощения, сэр, но во время операции «Оверлорд» я
предпочту увидеть на фронте лишнюю дивизию «Светлячков», чем роту этих
динозавров!..
* * *
Проект А39 Tortoise еще в момент начала разработки выглядел архаичным. «Черепаха»
позиционировалась именно как танк

(пускай и нестандартной компоновки), но поскольку могла использоваться и как САУ,
подпадала одновременно под юрисдикцию Королевского танкового корпуса и
Королевской артиллерии.
Судьба «Черепахи» фактически была решена с концом войны, и на вооружение ее
принимать не собирались. Однако, два танка были использованы для испытаний в Европе.
Было очевидно, что при ширине 3,9 метра танк невозможно перевозить по железной
дороге, а при боевом весе в 80 тонн А39 расплющит любой транспортер... Специально для
этих целей фирма «Крэнес оф Дерехэм» спроектировала пятиосный транспортер, на
котором «Черепах» доставили в район Гамбурга. Для буксировки транспортера с танком
– вес около 120 тонн – было решено использовать два тягача «Дайэмонд» тандемом.
Таким образом, общий вес поезда составил 155 тонн, а длина – 28,5 метров.
Отзывы военных удручали: «отсутствие кругового обстрела», «слишком тяжелый»,
«слишком медленный», «умопомрачительные проблемы с транспортировкой»,
«раздельное заряжание». Проект был окончательно закрыт в 1948 году и о «Черепахе»
забыли, как о страшном сне. Сохранившийся экземпляр хранится в танковом музее
Бовингтона.

23. Тяжелая походная кухня
Ноябрь 1916 года, Генеральный штаб германской армии
– Мы не должны отставать от противника в техническом плане, – начальник
Генерального штаба Пауль фон Гинденбург устремил суровый взор на генерала
Фридрихса. – Текущее положение нетерпимо, герр генерал!
Фридрихса пробрала невольная дрожь. Немногие могли выдержать ястребиный взгляд
Гинденбурга – безупречного вояки, воплощения германского воинского духа. Рядом с
этой эпической фигурой каждый остро ощущал собственные недостатки.
– Сейчас предпринимаются все необходимые шаги, герр фельдмаршал, – проговорил
Фридрихс, сам зная, что звучит это заверение неубедительно.
Гинденбург аккуратно вынул из папки и выложил перед собой на стол приказ.
– Вам поручено возглавить техническую комиссию, созданную специально для
организации и объединения работ по созданию германского танка, – объявил
Гинденбург. – Ознакомьтесь с приказом. Нельзя допустить, чтобы англичане нас
опережали... Германия уже добилась существенных успехов на фронте, и теперь
необходимо закрепить их. Гражданское население Германии должно видеть свой долг в
единстве с воинами Отчизны. Одни проливают кровь на фронте, другие не жалея себя
работают ради этого в тылу! Только так!
Взгляд фельдмаршала чуть смягчился, и Фридрихс воспользовался этим, чтобы
просмотреть приказ.

Он был датирован тринадцатым ноября. Особая техническая комиссия во главе с
генералом Фридрихсом должна была координировать усилия нескольких ведущих
промышленных фирм Германии – в том числе «Опель», «Даймлер», «Бюссинг», NAG,
«Бенц». Все они бросались, как в прорыв, на разработку танка.
Фридрихс кивнул. Ответственности он не боялся. Почти год он возглавлял Седьмое
транспортное отделение Общего управления Военного министерства, которое и
выступало в роли заказчика военных машин.
Легкая улыбка скользнула по лицу генерала.
– И как планируется назвать будущий германский тяжелый танк?
– Всегда начинайте с имени, – провозгласил Гинденбург. – Правильно избранное имя
вселяет в оружие правильный дух. Я полагаю, логичнее всего будет назвать германский
танк A7V – в честь вашего подразделения, Abteilung 7, Verkehrswesen. Что скажете,
генерал?
– Скажу, что это большая честь.
– И большая ответственность, – прибавил Гинденбург. – Действуйте!
22 декабря 1916 года
Гинденбург развернул чертеж. Капитан Йозеф Фольмер стоял рядом с фельдмаршалом,
готовый в любую секунду дать пояснения. Фольмеру было сорок шесть лет и как
большинство технарей, конструктор не испытывал душевного трепета перед большим
начальством. Но Гинденбург произвел впечатление даже на него.
Фольмер был главным инженером Опытного отделения Инспекции автомобильных войск,
руководя всеми конструкторскими работами. У Фольмера имелся большой опыт
разработки автомобилей самых различных типов, а в военном ведомстве он занимался

повышением проходимости грузовиков. Сейчас ему подчинялось около сорока
конструкторов от различных фирм.
– Танк, танк, – произнес вдруг Гинденбург.
Фольмер наклонил голову:
– Ваше превосходительство, господин фельдмаршал?
– «Танк», говорю я, – повторил фельдмаршал с легким раздражением в голосе. – Имя,
господин капитан, имя! Имя содержит в себе дух.
– A7V, – сказал Фольмер и показал каллиграфически написанное название на листе
чертежа.
Гинденбург отчетливо фыркнул. Этот звук в германской армии считался зловещим.
– Мне не нравится, что мы заимствуем само это английское слово – «Tank». В нем нет
германского духа. Нужно что-то более
родное нашему слуху. Речь ведь идет о броне, о бронированном автомобиле... О
Panzerwagen. Об усиленном бронированном автомобиле – Panzerkraftwagen.
– Боевой автомобиль, – предложил Фольмер. – Kampfwagen.
Гинденбург метнул в него быстрый взгляд:
– Очень хорошо
Фольмер начал было излагать свои взгляды на будущий Kampfwagen, но Гинденбург
быстро перебил:
– Я хочу, чтобы вы ясно отдавали себе отчет в одном обстоятельстве. Командование
довольно скептически относится к проекту. У Военного министерства, напротив,
оптимистический взгляд на будущее... Кхм... Танков. – Он все-таки употребил
английское слово. – Как бы там ни было, но никто не желает тратить средства попусту.
Tank должен обладать определенной универсальностью, чтобы убедить Ставку в
правомочности своего существования. И я хочу знать, какие шаги предприняты в данном
направлении.
Фольмер указал на чертеж.
– Мы сосредоточились на разработке универсального шасси. Собственно, уже
пятнадцатого ноября было сформулировано основное требование к гусеничному
самоходному шасси: чтобы оно было пригодно для использования как для танка, так и
трактора. Или грузовика. Предполагается, что машина будет развивать скорость до
двенадцати километров в час, преодолевать рвы шириной в полтора метра и подъемы
крутизной до тридцати градусов.
– Недурно, – кивнул фельдмаршал.
– Прошу. – Фольмер аккуратно выложил перед Гинденбургом новую схему. – Наша
последняя разработка.
– Надеюсь, мы не напрасно заставили концерны вложить деньги в проект, – проворчал
Гинденбург.
– В основу компоновочной схемы машины легла симметрия в продольной и поперечной
плоскостях, – начал объяснять Фольмер. – Это видно даже по дверям. Строгая
симметрия везде. В центре машины – двигательный отсек, закрытый капотом. Над ним
– площадка с местами механика-водителя и командира. Точнее, два места водителя,
повернутые в противоположные стороны, для переднего и заднего хода. Мы полагаем, что
идея «челнока» принесет хорошие плоды.
– Гусеницы, я вижу, прямо под днищем корпуса? – Фельдмаршал внимательно
рассматривал чертеж.
– Это позволяет увеличить полезный объем.
– Пушки?
– Две. 77 и 20 миллиметров.
– Продолжайте, – приказал фельдмаршал. – Какую скорость будет развивать этот
танк?
– Десять километров в час. – Фольмер знал, что изначально планировалось двенадцать,
но... В этой работе вообще было довольно много всяких «но», как, собственно, и
следовало ожидать от новаторского проекта.
– Предполагаемая масса?
– От двадцати пяти до тридцати тонн. Что потребует двигателя мощностью около
двухсот лошадиных сил. Такие моторы в Германии имеются, – прибавил Фольмер,
впрочем, без особой надежды. – К примеру, их используют для дирижаблей жесткой
схемы «Цеппелин».
– Забудьте, – лаконично бросил фельдмаршал. – Авиамоторы вам никто не отдаст.
Другой выход есть?
– Разумеется. Фирма «Даймлер» могла бы поставить двигатели мощностью в сто
лошадиных сил и снабжать ими строящиеся... Извините, танки. Поэтому будем применять
двухдвигательную установку с работой каждого мотора на гусеницу одного борта.
Фельдмаршал и руководитель работ долго еще разбирали чертежи, и ни один, ни другой
не знали, что спустя годы название танка – А7V – будет истолковано по-иному: буква
«V» в этой аббревиатуре расшифруется как «Vollmer»...
14 мая 1917 года, Майнц, Ставка Главного командования
Эрих Людендорф с интересом наблюдал совместное детище германской промышленности
и военного ведомства Второго Рейха. Ставка со свойственным ей скептицизмом не
ожидала слишком впечатляющих результатов.
Однако, демонстрация прототипа танка произвела определенный эффект. Комиссия
показала рабочее шасси с макетом бронекорпуса, а для большего правдоподобия машину
загрузили балластом массой в десять тонн.
– Недурно, – бросил наконец Людендорф. Он, как и Гинденбург, отличался в своих
речениях лаконичностью. Но каждое слово ценилось на вес золота, и это «недурно»,
сказанное вроде бы небрежным тоном, имело серьезные последствия.
Германии определенно следовало поторопиться с этим проектом. Уже 16 апреля 1917 года
в бою на реке Эн у Шмен-де-Дам участвовали французские танки – вторая держава
Антанты начала производство собственной бронетехники.
– К пятнадцатому июля мне необходимы первые пять готовых A7V, – подытожил
Людендорф. Это прозвучало так, будто танки необходимы ему лично, для собственного
поместья. И, как ни странно, произвело более сильное впечатление, нежели официальный
приказ.
Впрочем, и официальные бумаги не замедлили. Середина июля – первые пять, первое
августа – следующие пять и сорок небронированных шасси, а первого сентября —
последние сорок девять шасси.
Но... Обстоятельства. Германский гений постоянно сталкивался в своем полете с этими
самыми низменными обстоятельствами. Спешка при разработке привела к необходимости
доделывать на ходу.
Весна и лето семнадцатого года проходили в испытаниях A7V. То одно, то другое.
Недостатки в системе охлаждения двигателей, в трансмиссии, в направляющих
гусеничного хода. Каждое исправление затягивало работы.
Поспешишь – людей насмешишь. Хорошо, что Уинстон Черчилль не видит этого ужаса,
думал в иные минуты Фольмер. А может, и видит, приходила следующая мысль, от
которой бросало в дрожь. Фольмер ненавидел английский юмор.

Конец октября 1917 года, Мариенфельд
Постройка первого серийного тяжелого германского танка А7V завершили только к концу
октября 1917 года. Обошелся он крайне недешево: стоимость постройки в ценах 1917 года
составляла 250 тысяч рейхсмарок, из них чуть менее половины приходилось на
бронирование.
А с броней уже в полевых условиях возникали все новые проблемы, о которых в
конструкторских бюро пока не знали. Бронирование ходовой части и подвешенные под
днищем спереди и сзади наклонные бронелисты мешали машине двигаться. Танк
уверенно ехал по рыхлому грунту, но только если местность была открытая, без бугров,
глубоких рытвин и воронок.
Высоко расположенный центр тяжести приводил к тому, что машина легко
опрокидывалась при боковом крене, при проходе через проволочные заграждения
колючая проволока просто затягивалась гусеницами и запутывалась в них.
На серийных танках были установлены бронированные экраны, закрывавшие ходовую
часть, однако экипажи попросту снимали их, открывая ходовые тележки. В противном
случае грязь с верхних ветвей гусениц забивалась в ходовую часть.
«Вот так стараешься защитить солдат, а они просто игнорируют наши усилия», – думал
Фольмер, когда ему докладывали об этом.
И все-таки дело пошло. Завод фирмы «Даймлер» в Мариенфельде стал основным
производителем A7V. До сентября 1918 года было собрано двадцать A7V.
Кайзеру показали танк в Мариенфельде.
– Конструкция А7V воплощает в себе идею «подвижного форта», ваше величество, —
докладывал разработчик. – Этот танк более приспособленного для круговой обороны,
нежели для прорыва обороны противника и поддержки пехоты.
Кайзер остался доволен.
В отличие от своих солдат.
Ноябрь 1917 года, Восточный фронт
– Смотрите-ка, тяжелая походная кухня пожаловала!
По полю медленно ползло громоздкое сооружение, дымя двумя трубами. Оно и впрямь,
особенно издалека, было похоже на полевую кухню. Очень тяжелую. Управляемую
экипажем из восемнадцати человек. Большая часть которых сейчас сидела на крыше. И
только механик-водитель обливался потом внутри.
– Вентиляция паршивая, – ворчал он. – Дышать нечем.
Командир оставался с ним – из чистого упрямства.
– Говорят, у французов в танках еще хуже. И у англичан тоже не сладко.
– Мне-то что? Тут пекло, а вылезешь – ветром продувает... Помрем все.
– Я этого не слышал, – предупредил командир.
Но претензии к танку имелись не только по части вентиляции. Трудности были и со
связью. Указатель на цель крепился на крыше корпуса над артиллерийской установкой и
поворачивался командиром танка с помощью троса. Расчет орудия смотрел на панель с
белой и красной лампочками: их сочетания означали команды: «Заряжай», «Внимание» и
«Огонь».
Но реально все команды подавались просто голосом – на крик. Между танками
координации не было вовсе, все свелось к старому принципу «Делай как я». При крайней
необходимости приказы доставлялись посыльными.
Круговой обстрел, обещанный кайзеру, тоже не получился. Из-за ограниченных углов
наведения орудия два сектора в переднем направлении представляли собой «мертвое
пространство».
Командир и механик-водитель сидели в поднятой рубке и имели неплохой обзор
местности. Но что происходило на дороге непосредственно перед танком – тут, как
говорится, задавишь курицу и не поймешь, что натворил. («Ха-ха», – прибавлял сержант
Ганс Штубен, артиллерист). Водитель видел не далее девяти метров впереди машины.
Механики смотрели на дорогу снизу, через люки в бортах – под рубкой. Вот так и ехали,
дымя и переваливаясь.
– Слишком много вооружения, – мог бы сказать Йозефу Фольмеру командир танка А7V
капитан фон Штрален. – Слишком большой экипаж. Слабая подготовка. Не успели
толком ничему научиться – и сразу в бой. Пулеметчики мешали артиллеристам – и
наоборот. В бою броня разогревалась градусов до восьмидесяти – дышать нечем. Сама
броня мешала – приходилось снимать. Да тут все разом сказалось: и танков мало, и в
конструкции недочеты, и времени освоить машину не хватило.

Он мог бы все это сказать. Но не сказал, потому что через несколько дней был убит на
Восточном фронте.
24. Героический штурмовой трактор
Апрель 1916 года
– Господин главнокомандующий! – Госсекретарь артиллерии Франции положил на стол
перед генералом Жоффром аккуратную папку.
– Что это? – Жоффр с интересом уставился на бумаги с машинописными распечатками
и чертежами.
– Проект нового штурмового трактора.
– Насколько нам известно, уже существует бронированная машина – разработка
полковника Этьена, – ответил главнокомандующий. – Вполне эффективная.
– Но вопросы престижа!.. – отозвался госсекретарь. – Полковник Этьен обошел
военное ведомство. Его инициатива, мягко говоря, подрывает наш авторитет. А ему
приносит доход и... Мы просто не можем оставаться позади! Ведь это начальник
армейского управления моторизации лично выдает заказы на закупку соответствующей
боевой техники...
– И вы?.. – Главнокомандующий прищурился.
Герой Марны, главнокомандующий – красивый, породистый, с густыми седыми усами,
пользовался невероятной популярностью как среди политиков, так и среди военных.
Недавнее поражение на Сомме немного охладило градус всеобщего почитания
Но под взглядом этого усталого орла госсекретарь все же чувствовал себя обязанным.
Обязанным распрямить плечи, высоко поднять голову. Защитить честь военного
ведомства.
– Разумеется, мы тотчас выдвинули ответную инициативу, – объяснил он. – Был выдан
наш собственный заказ на проектирование штурмового трактора фирме FAMH в городе
Сен-Шамон. Наш бронетрактор обладает серьезными преимуществами перед
«Шнейдером» Этьена.
– Подробнее, – велел главнокомандующий, постукивая пальцами по папке.
– Как и на «Шнейдере», за основу взята ходовая часть трактора Холта, – начал
госсекретарь. Понимая, что это обстоятельство ни в коей мере не служит объяснением
«преимуществ» нового штурмового трактора, быстро продолжил: – Однако длина
опорной поверхности гусениц значительно увеличена. Главным же новшеством стало
применение электротрансмиссии.
Он замолчал, перевел дыхание.
– Продолжайте, – кивнул главнокомандующий. Бегло глянул на папку с чертежами, на
секретаря, потом уставил взгляд в окно, задумался.
– Бензиновый двигатель фирмы «Панар» работает на динамомашину, от нее ток
поступает на два тяговых электромотора – по одному на гусеницу. Элегантно, просто и
надежно, – заключил он.
– Элегантно? – прищурился Жоффр. – Мы не на показе дамских туалетов в модном
салоне!
– Штурмовой трактор куда элегантнее, а главное – куда занимательнее, чем дамские
туалеты! – нашелся госсекретарь.
Старый полководец чуть улыбнулся в усы.
– Я ознакомлюсь с проектом, – сказал он. – Но, думаю, уже сейчас можно дать
консорциуму FAMH государственный заказ. Пока ограничимся числом в четыреста
машин.

7 января 1917 года, Париж, Генштаб
– Мы недостаточно внимания уделяем тракторной артиллерии, – объявил генерал Бюа.
– А между тем она – мощный инструмент огневого маневра. Великолепный
стратегический резерв главного командования.
– Что вы предлагаете? – осведомился Анри Филипп Петэн, Верденский победитель.
– Необходима централизация. Ответственный начальник, – сказал Бюа. – Тяжелая
артиллерия большой мощности и тяжелая тракторная артиллерия существуют
изолированно друг от друга. Это не позволяет нам действовать с наибольшей
эффективностью.
– Конкретнее! – потребовал генерал Нивель.
– Конкретно я имел в виду вас, господин главнокомандующий, – сказал Бюа. – Жоффр
больше не у дел, и нам необходим новый, свежий взгляд. Учитывая, что в наших руках
оказалось принципиально новое оружие.
– Думаю, да, – кивнул Нивель. – Я займусь реорганизацией. Необходимо учредить
главный резерв тяжелой артиллерии.
7 апреля 1917, берег реки Эн
Лейтенант Антуан Буатель ругался на чем свет стоит. Погода стояла отвратительная,
отвратительная, видимость – почти на нуле.
– Как производить пристрелку? Палим в белый свет! А потом, конечно, артиллеристы
будут во всем виноваты.
Самолеты-разведчики почти не летали. Да это было и бесполезно – что они разглядят в
таком тумане?
– А это что за каракатица? – один из солдат изумленно показал Буателю на странную
машину, с мрачным упорством штурмовавшую небольшой холм.
– Штурмовой трактор, – ответил Буатель. – Только это не «Шнейдер», это какой-то
новый... Газеты читать надо.
Он плюнул. Газетчики писали о предстоящем наступлении открыто. Ничего
удивительного, что немцы успели подготовиться – волт вам оборотная сторона свободы
прессы! И погода бошам на руку. Приходилось сражаться наугад с противником, который
заранее знал все планы французов...
Танки «Сен-Шамон» были брошены на Западный фронт в момент решительной атаки
союзников. Предстояло разгромить Германию одним решительным ударом.
Выглядели они, конечно, устрашающе: броневая коробка со скошенным носом и кормой,
передняя часть нависает над гусеницами. Именно поэтому, кстати, «Сен-Шамон» с таким
трудом преодолевал невысокие вертикальные препятствия. Конструкторы пытались
избавиться от этого недостатка, установив в передней и задней части машины
специальные ролики. Но толку пока было мало.
Командирская и водительская башенки имели цилиндрическую форму, а бронелисты
бортов доходили до земли, прикрывая ходовую часть. Вооружение —
семидесятипятимиллиметровая пушка специальной конструкции.
На позициях уже находились танки «Шнейдер» и таковых было больше в три раза.
Именно они – в качестве «тракторной артиллерии» – поддерживали войска во время
атаки, а «Сен-Шамоны» из-за неполадок ходовой части в этом бою не участвовали.
Что не помешало им разделить с армией горечь неудавшегося наступления.
– Знаешь, в чем разница между генералом Нивелем и штурмовым трактором «Сен-
Шамон»? – спросил танкист лейтенант Мартеле своего нового друга, лейтенанта Буателя.
Оба выпили уже порядочно для того, чтобы говорить не думая о последствиях.
– В чем? – спросил Буатель. Он был измотан и зол.
– Нивель ушел, а «Сен-Шамон» остался.
Нивель действительно был смещен с поста главнокомандующего после провала
апрельского наступления – его заменил маршал Петэн.
– Мы еще покажем бошам, на что способны наши машинки, – заключил Мартеле.

20 мая 1917 года, плато Лаффо
Маршал Петэн был доволен.
Завершилась крупная операция, подготовленная интенсивной бомбардировкой при
благоприятной погоде. Это не апрель с его гнилым туманом и нулевой видимостью. И
тяжелая артиллерия под общим командованием работает как часы.
Плато Лаффо перешло к французам. Немцы выбиты с позиций. Упорные они, эти боши.
Несколько раз пытались вернуться и сдались лишь когда их окончательно раздолбали.
Газетчики... Петэн поморщился. Они, конечно, жаждали заполучить известия о
потрясающей победе, окончательной и бесповоротной. А не о ситуации, когда сражение
затихло просто потому, что противник истощен: тысячи пленных, тысячи потерянных
орудий, сражаться просто некому. Успех? О да – серый, мрачный. Успех-трудяга. Как и
все в этой войне. И почему это людям непременно хочется делать из войны праздник?
Что порадовало маршала, так это штурмовые трактора. Двенадцать «Сен-Шамонов» и
девятнадцать «Шнейдеров». Они успешно поддерживали французскую пехоту и прорвали
оборону противника на двух направлениях.
Потери – шесть машин: две сгорели от огня неприятеля на подступах к его обороне, а
четыре застряли и были подбиты германскими войсками в ходе преодоления
оборонительной полосы. Допустимые потери.

Соперничество между «Сен-Шамонами» и «Шнейдерами», актуальное в высших
эшелонах и приобретавшее значение «престижа», на фронте смазалось.
Петэн еще раз просмотрел доклад. В списке потерь не было уточнено, какие конкретно
танки были подбиты. Можно было послать запрос, но Петэн вдруг понял, что и для него
это сейчас не имеет большого значения. Для главного резерва тяжелой артиллерии все эти
штатские разборки неважны.
20 октября 1917 года, ставка
– Необходимо учитывать уроки двух предыдущих наступлений, – сказал маршал Петэн,
разворачивая карту. – Наша цель – отбросить противника за реку Эллет. Мы должны
наконец очистить район Лаффо-Мальмезон. Весенние атаки решить эту задачу не смогли.
Предлагаю главное внимание уделить тяжелой штурмовой артиллерии.
23 октября 1917 года, Мальмезон
Грохот артиллерийской подготовки, продолжавшейся пять дней, наконец сменился
другим звуком: рычанием моторов и лязгом гусениц.
Вместе с силами Шестой французской армии в долгожданную атаку двинулись танки —
тридцать восемь «Шнейдеров» и двадцать «Сен-Шамонов».
Лейтенант Мартеле получил новое назначение – на радиотанк. Это было новшеством,
причем радикальным: пять машин были оснащены специальным оборудованием и
служили для координации действий танков с другими родами войск.
Радиооборудование доносило хриплые голоса – приказы, доклады. Он передавал их
начальству, даже не пытаясь вникать или, упаси боже, анализировать.
Мартеле миновал несколько застрявших танков. Подсчитывать не стал. Начальство потом
подсчитает. Важно одно: корректировка огня.
Долгий получился день. И следующий день тоже был долгим. Из танка не видно, как
далеко продвинулись войска, как чувствует себя противник.
Зато это было видно Петэну.
– Главная задача операции – срезать Мальмезонский выступ – выполнена, —
докладывал он в штабе. – Наши потери – восемь тысяч человек и два танка.
На сей раз он точно выяснил – какие это были танки, – «Сен-Шамон».
– Насколько эффективно действовали танки? – поинтересовался генерал Бюа.
– Две трети не смогли добраться до позиций, – признал Петэн. – Застряли. Но
оставшаяся треть – в численном выражении это примерно двадцать танков, – задачу
выполнили с блеском. Два их них, как я уже докладывал, погибли.
Он сказал о машинах «погибли» так, словно это были живые существа.
9 июня 1918 года, район между Мондидье и Нуайоном
– Черт бы побрал эту Россию и эту их революцию! – высказался подполковник
Шедевимь, командир танковых частей Третьей армии. – Уверен, все это было проделано
на немецкие деньги.
– Сейчас-то какая разница? – резонно заметил генерал Манжин. – Мы имеем то, что
имеем. И вынуждены работать с этим.
А имелся настоящий хаос. Немцы угрожали непосредственно Парижу – они находились
уже в ста двадцати километрах от французской столицы.
– Ваша задача, господин подполковник, – организовать контрудар при поддержке
танков во фланг наступающему противнику, – объяснил Манжин.
На юго-востоке от Мондидье в оперативном подчинении Третьей французской армии
дислоцировались четыре полковых танковых группы. Они должны были поддерживать
пехоту огнем в случае общего наступления или контрударов.
«Сен-Шамоны», проделав марш в десять километров, выдвинулись на позиции.
В частях французской армии, которым предстояло нанести контрудар, прочитали приказ:
– «Положение отчаянное. На этот прорыв брошены все силы. Пехоте следует сражаться
так, как будто танков поддержки нет вообще. Танки, в свою очередь, будут следовать за
пехотой и поддержат ее в случае необходимости».
Танки двинулись впереди пехоты, опережая ее почти на километр. Всего их было сто
шестьдесят три – «Сен-Шамоны» и «Шнейдеры».
Капитан Монтеле видел впереди цель: немецкую пушку. Сбоку бил пулемет, и Монтеле
уничтожил эту точку. Потом еще одну. А потом танк содрогнулся.