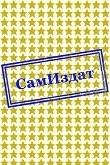Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Поэтому все было доставлено в Орудьево под глубоким секретом и там же, на полигоне за
высоким земляным валом и колючей проволокой, началась сборка.
Микулин не любил ездить на полигон. Разве что на моторы поглядеть. Трофейные
«Майбахи» были им разобраны, изучены и собраны, и думал он о них постоянно, как о
любимой девушке. Хотелось изобрести что-то еще более грандиозное. На триста
лошадиных сил, например!
– Давай, живей! – подгоняли рабочих унтер-офицеры, следившие за порядком на
полигоне.
– Прямо как в тюрьме мы, – жаловались рабочие.
– Разговорчики! На царя-батюшку трудитесь!
Микулин написал жалобу Лебеденко и попросил его вмешаться: телесные наказания,
зуботычины и постоянная брань со стороны начальства, по словам молодого
конструктора, только затрудняли работу. Лебеденко обещал вмешаться, но потом забыл.
9 сентября 1915 года, полигон Орудьево
Машина была готова.
«Мастодонт», он же «Царь-танк», во всей красе высился посреди поляны.
Глядеть на него было жутко, аж дыхание перехватывало.
Он и правда был выше дома. Передние колеса достигали тридцати футов, задние – пяти.
Перекладина буквы «Т» на корпусе достигала сорока футов.
Высокая комиссия старательно сдерживала чувства. Особенно когда жуткая машина
ожила.
«Царь-танк» побежал по настилу. Психологическое воздействие его на противника было
несомненным. Все препятствия, какие только попадались ему на пути, – а препятствия
эти были в виде березок и других деревьев, – ломались, точно спички.
Затем деревянный настил закончился, и «Царь-танк» моментально завяз в мягком грунте.
Задний управляемый каток в силу своих относительно малых размеров и неверного
распределения веса машины в целом врос в почву. Большие колеса не могли его
вытащить. И даже двигательная установка – самая мощная из возможных, – оказалась
бессильной.
Некоторое время комиссия наблюдала за тем, как машина борется за свою жизнь.
Лебеденко был бледен, как полотно. Микулин шевелил губами – подсчитывал, справился
бы в данной ситуации мотор на триста лошадиных сил (лелеемая мечта) или таковой тоже
опозорится.
Танк дернулся еще раз.
И тут один из членов комиссии, артиллерии полковник, просто спросил:
– А как насчет уязвимости этого агрегата?
– Что? – не понял Лебеденко. Он считал, что еще несколько рывков, танк освободится,
и проект будет признан великолепным.
– Я к тому, что вся эта штуковина слишком большая, – пояснил полковник. – Он ведь
очень уязвим, особенно при артиллерийском обстреле фугасными снарядами. Что
скажете?
– Не знаю, – Лебеденко облизнул губы.
– Да ведь простой залп шрапнели по спицам колес гарантированно выведет аппарат из
строя, – настаивал полковник. – А при удачном попадании в ступицу колеса машина
вообще сложится, как карточный домик. Я тут прикинул...
Никто не отвечал.
– Скрытная переброска таких колоссов к фронту не представляется возможной, – подал
голос другой член комиссии.
– А как вы планируете их серийное производство? – спросил третий. – Ведь подобных
двигателей, насколько нам известно, у нас пока не производят. Нельзя надеяться, что мы
постоянно будем сбивать дирижабли с нужными для «Мастодонта» двигателями!
Танк затих.
Комиссия выпила чаю в штабе и уехала писать донесения.
20 сентября 1915 года, полигон Орудьево
– Не могу поверить! – Лебеденко смотрел на телеграмму, где ясно и отчетливо было
написано: проект остановлен.
Жуковский и Стечкин уже отбыли в Москву и засели за проект нового двигателя для
машины.
Солдаты и рабочие, приданные полигону, продолжали попытки вытащить «Царь-танк» из
трясины. «Мастодонт» не поддавался и упорно уходил в землю, подобно былинному
богатырю.
И вот комиссия прислала свои выводы. Из-за недостаточной проходимости и, главное,
большой уязвимости «Царь-танк» признан непригодным для использования в боевых
условиях.
Все, чего добился Лебеденко, – это охраны из взвода солдат, которые продолжали
стеречь полигон и скрытое за колючей проволокой в лесу чудовище.

Май 1923 года, станция Орудьево
– Да не бойтесь, ребята! Чего бояться-то? Эта штука-то, чай, не живая, а железная!
– А как оживет?
– Это она при царском режиме, может, и могла ожить, а сейчас не старое время!
Голоса юных пионеров звенели среди деревьев.
Ребята отправились в «Лес танка», как называли это место на станции Орудьева, за
металлоломом.
От пионервожатых они слыхали, что когда-то кровавый царизм держал там за колючей
проволокой рабочих, чтобы путем жестокой эксплуатации создавать ужасные машины для
войны.
И одну такую машину они создали. Но потом Революция освободила рабочих, и они
удрали из своего плена, оставив там ржаветь страшное металлическое чудовище.
И вот теперь этот бесполезный металл послужит власти рабочих и крестьян!

– Осторожно, братцы, тут колючка! – сказал один из мальчиков.
Дети переступили через упавшую изгородь, стараясь не пораниться о ржавые колючки. А
затем между стволов деревьев выступило Нечто.
Оно было гигантским, безмолвным – и страшным.
Дети застыли, парализованные ужасом.
Как застыли бы немцы, если бы монстр двинулся на них, перескакивая через окопы.
Потом самая младшая из девочек завизжала, и пионеры дружно бросились наутек.
38. Трактор для колосьев смерти
19 октября 1914 года, Франция
– Черт бы побрал этот климат! – ворчал майор Эрнст Данлоп Суинтон. – С тех пор, как
я в Европе, у меня постоянно заложено горло!
Секретарь комитета имперской обороны капитан Хэнки взглянул на небо, затем пожал
плечами – жест типичного британца:
– А что не так с этим климатом, сэр?
Он мог позволить себе быть чуточку снисходительным: Суинтон считался в первую
очередь писателем. Да еще из колоний. Суинтон, потомок старинного шотландского
клана, родился в Индии и избрал традиционную для семьи военную карьеру.
Но что-то определенно не вполне военное жило в душе этого индийского шотландца. Во
всяком случае, он сделался военным инженером, а заодно начал писать книги.

Не беллетристику, к счастью, нет!.. Книги по тактике. Например, очень недурная была
книженция, описывающая действия небольших маневренных, хорошо вооруженных и
хорошо тренированных отрядов. Опыт англо-бурской войны, знаете ли... Хэнки даже
прочитал ее.
А вот историю русско-японской войны (которую сам Суинтон считал весьма
поучительной) капитану Хэнки прочесть не довелось. Она вообще издавалась только для
служебного пользования. Понадобится – прочтет, а так – любопытство тешить незачем.
И все-таки Суинтон – всего лишь военный корреспондент Великобритании. Кстати —
единственный, других не было. Военное министерство не допускало журналистов на
фронт. Весьма разумная мера.
– С этим климатом все не так! – ответил Суинтон, кутаясь в шарф.
Ему стукнуло сорок шесть. Он славился своим умением подбирать слова. Он придумал
термин «ничейная земля» (No Man's Land). Но против европейского климата этот
уроженец южной Индии был бессилен.
Природа всегда сильнее человека.
Автомобиль тащился под осенним дождем по размытой, разбитой дороге. Колеса
поминутно вязли в глинистой почве.
– Сейчас бы сюда трактор, – проговорил Суинтон задумчиво. Он как будто размышлял
вслух.
– Трактор, сэр? – не скрывая иронии, переспросил Хэнки.
– А что такого? – Суинтон повернул голову и посмотрел собеседнику в глаза. —
Британское военное министерство уже закупает тракторы в качестве тягловой силы для
артиллерийских орудий. Гусеницы не так вязнут в глине. Проходимость лучше.
– Помилуйте, сэр, такая машина будет ползти, как улитка! – возразил Хэнки.

– Тише едешь – дальше будешь, – отозвался Суинтон.
– Пока она тихо едет, ее прекрасным образом расстреляют вражеские пулеметы, —
проворчал Хэнки.
– А если сделать ее бронированной? Идея витает в воздухе уже какое-то время! —
Суинтон сделал жест, долженствовавший обозначать витающие в воздухе идеи.
«Писатель!» – с досадой подумал Хэнки.
Декабрь 1914 года, побережье, недалеко от Дувра
Майор Хэнки стоически щурился на продувном ветру.
Белые скалы Дувра высились над ревущими волнами.
Перекрикивая ветер, один из высших офицеров службы морской авиации Адмиралтейства
что-то пытался объяснять.
Хэнки смотрел на деревянную модель броневого щита, укрепленного на самодвижущейся
повозке.
– За этим щитом будут укрываться пехотинцы, – объяснял Суэтер, чиновник морского
ведомства. – Кроме того, мы предлагаем создать тяжелые катки, движимые сзади
гусеничным трактором. Идеальное средство для утюжки окопов.
– Будете давить немцев в прямом смысле слова? – прищурился Хэнки.
Он осторожно относился ко всем этим идеям создания сухопутных крейсеров. Тракторы
не выдерживали испытаний: ломались, вязли, опрокидывались, двигались со слишком
маленькой скоростью.
И тут проблему «сухопутных кораблей» подхватило морское ведомство. Перед службой
морской авиации стоял вопрос охраны своих аэродромов на континенте. И сначала эту
задачу возложили на бронеавтомобили.
Но мысль человеческая на месте не стоит – вслед за бронеавтомобилями явились и
бронещиты, и средства для утюжки окопов... и снова тракторы.
– Что ж, – решил в конце концов Хэнки, – я напишу докладную записку Первому
лорду Адмиралтейства. Поведаю сэру Уинстону Черчиллю обо всем, что увидел.
9 января 1915 года, Лондон
Черчилль закусил сигару. Докладная записка майора Хэнки беспокоила его.
«Было бы весьма просто в короткое время оборудовать некоторое количество паровых
тракторов броневыми щитами, за которыми располагались бы люди и пулеметы...»
– «Весьма просто», – вслух повторил Черчилль. – У них все просто.
– «Примененные ночью, они в некоторой степени не опасались бы действия
артиллерийского огня. Гусеничная система сделала бы их способными очень легко
преодолевать окопы, а своим весом машина могла бы уничтожать проволочные
заграждения».
Черчилль так разозлился, что непроизвольно откусил кончик сигары.
– «Очень легко»! – повторил он. – «Не опасаясь огня»! Изобретатели!
Он взял лист бумаги и набросал черновик приказа. Первый лорд Адмиралтейства решил
для начала ограничиться изготовлением тяжелых катков.
– Вот и посмотрим, как это у них получится «очень легко»! – подытожил он и поставил
точку.
10 февраля 1915 года, полигон в 15 километрах от Лондона
Уинстон Черчилль выбрался из автомобиля. Разумеется, он не был в восторге от
необходимости путешествовать в такое время года и мерзнуть под ветром.
– Суэтер, вас положительно испортил этот фантазер Суинтон, – проворчал Черчилль.
Он лучше Суэтера знал о том, что Суинтон отнюдь не был фантазером. Мозг Суинтона
работал как часы: некий таинственный для профана механизм выдавал одно верное
решение за другим.
Впрочем, подчиненным лучше не знать истинных мыслей и суждений Черчилля. Крепче
будут спать.
– Гусеничная тележка фирмы Диплока, – объявил Суэтер. – В вашем присутствии, сэр
Уинстон, мы продемонстрируем ее возможности.
Черчилль осмотрел тележку.
– На лошадиной тяге? – сказал он, погладив по морде битюга и тут же отерев перчатку
платком. – Давайте попробуем. Свяжитесь с Диплоком и сделайте ему предложение.
4 марта 1915 года, Лондон

Лейтенант Уилсон, приписанный к недавно созданному Комитету сухопутных кораблей,
имел честь докладывать Первому лорду Адмиралтейства касательно проекта «танка
Суэтера».
– Мы предполагаем, сэр, что эта машина будет весить двадцать пять метрических тонн. В
длину она достигнет одиннадцати метров, в ширину – около четырех. И в высоту —
приблизительно три метра.
– Сколько это в футах? – мрачно осведомился Черчилль.
– Длина, сэр, соответственно тридцать три фута, ширина – двенадцать футов, высота —
девять футов, сэр. Приблизительно.
– Так лучше... – Черчилль выпустил изо рта густое облако сигарного дыма. —
Продолжайте. Меня интересует защита этой машины и ее возможности... – Он сжал в
кулак пальцы.
– Понимаю, сэр. – Уилсон кивнул. Он действительно понимал. – Броня
противопульная. То есть, сравнительно легкая. Вооружение – одна пушка во
вращающейся башне.
– Недостатки?.. – бросил Черчилль.
– Какие недостатки у этой машины, сэр? Мы еще не испытали ее... В бою все станет
яснее, сэр.
– Давайте очевидное, – потребовал Черчилль. – Наверняка какие-то проблемы
выявились уже сейчас.
– Дело в том, что фирма Диплока в состоянии изготавливать только короткие гусеницы,
– объяснил лейтенант. – Следовательно, машина будет установлена на двух парах
гусениц. Каждая пара приводится в движение от отдельного двигателя.
– Сложно, – отрезал Черчилль. – Другие слабые места?
– Это не слабое место, а особенность, – лейтенант позволил себе чуть-чуть обидеться за
проект. – Носовая и кормовая часть корпуса способны поворачиваться относительно
друг друга. Таким образом осуществляется поворот.
– Любопытно, – подытожил Черчилль. – Стройте образец.
30 июня 1915 года, Вормвуд-Скрабз
Ллойд Джордж заложил руки за спину. Черчилль стоял рядом. В ярких солнечных лучах
перед ними медленно двигалась очередная военная машина.
«Танк Суэтера» все-таки провалился: выявились серьезные проблемы с гусеничным
движителем. Теперь – новая надежда империи, трактор «Киллен-Стрейт».
Эта машина выпускалась в Висконсине с 1910 года и использовалась, разумеется, для
сельскохозяйственных работ.
– Посмотрим, как она срежет колосья для смерти, – обращаясь больше к самому себе,
произнес Черчилль.
Машине предстояло преодолеть специально созданное заграждение из шпал и колючей
проволоки.
– Вон там установлен резак, сэр, – заметил Черчилль Ллойд Джорджу. – По мысли
проектировщиков, он легко уничтожит колючую проволоку.
«Еще одно сельскохозяйственное, по сути своей, изобретение, – мелькнуло у него в
голове. – Правы были классики, которые сравнивали войну со сбором урожая».
– Гусеницы этой машины, сэр, – пояснил полковник Кромптон, член Адмиралтейского
комитета, – состоят из пластин твердого дерева. Они соединены тяжелыми стальными
цепями и закреплены на болтах.
Маленький «трактор» одолел препятствия и успешно разрезал проволоку. Полковник
Кромптон был от него в полном восторге.
– Я считаю, «Киллен-Стрейт» необходимо включить в проект «платформ уничтожения»,
над которым я сейчас работаю, – заявил он.
– Действуйте, – согласился Черчилль. – Машина маневренная, успешно въезжает
задним ходом на препятствия, для других машин непреодолимые.
– С другой стороны, – заметил Ллойд Джордж, – если я правильно понял, «Киллен-
Стрейт» не в состоянии рвать колючую проволоку? Он слишком легкий для этой цели и
вынужден пользоваться резаком.

– Лично у меня вызывает сомнения его слишком большая высота, – сказал Черчилль. —
Это делает «Киллен-Стрейт» слишком хорошей мишенью.
Август 1915 года, Лондон
– Я подаю в отставку, сэр! – Полковник Кромптон положил на стол перед секретарем
комитета сухопутных кораблей Альбером
Стерном лист бумаги. – Здесь все написано.
– После того, что вы мне наговорили, сэр, другого выхода я просто не вижу, – ответил
Стерн и подписал отставку полковника.
Причиной их страшной ссоры стал танк «Киллен-Стрейт». Кромптон считал, что эта
машина способна переломить ход войны, а Стерн полагал, что это просто трактор,
который запросто расстреляет первый же немецкий пулеметчик.
– Как только преодолеет дикий страх перед подобной машиной, – добавил он, желая
быть справедливым. – Впрочем, – сказал Стерн спустя миг (также из любви к
справедливости), – вряд ли немецкого крестьянина способен напугать самый обычный
трактор!

– Обычный трактор? Обычный трактор! – вспылил полковник Кромптон, после чего и
были произнесены роковые слова, которые джентльмен не станет повторять даже ради
установления справедливости.
Закончилось отставкой полковника Кромптона...
А между тем Англии позарез необходимы были танки!
39. Тяжелая супружеская чета
Январь 1915 года, Лондон
– Британия – страна парадоксов, – заметил глава комитета сухопутных кораблей
Юстас Теннисон д'Энкур. – Мы говорим о машинах, которые определенно ездят по
земле, как о военных кораблях.
– Новые вещи появляются в нашей жизни с такой удивительной стремительностью, —
отозвался майор Хетерингтон, – что зачастую мы даже не знаем, в какую сферу нашей
деятельности пристроить новую «игрушку». Лично меня не удивляет, что проекты танков
рассматриваются военно-морским ведомством.
– Не забудьте авиацию, – добавил д'Энкур. – Мы неразрывно связаны с авиационными
базами морского флота.
– Все это так сложно... если задумываться, – признал Хетерингтон. – Но я
предпочитаю размышлять о вещах весьма конкретных.
– Новый проект сухопутного крейсера? Нам не терпится его увидеть.
«Мне определенно нравится, что в службе морской авиации Адмиралтейства так много
инициативных офицеров, – подумал д'Энкур. – Каждый из них душой болеет за свое
детище... Возможно, с чрезмерной страстностью... Но, с другой стороны, это ведь и
хорошо!»
Майор Хетерингтон начал объяснять.

Его крейсер представлял собой гигантскую трехколесную машину – длиной в девяносто
футов, шириной в семьдесят два фута, высотой в сорок два фута.
– Монстр! Махина! – восклицал Хетерингтон, забыв о необходимости соблюдать
типично британскую сдержанность. – Вы можете себе это представить?
– В самых общих чертах, – чуть улыбнулся д'Энкур. – Это будет монстр.
– Трехголовый монстр, – добавил Хетерингтон. – Мы планируем поставить на крейсер
три башни, защищенные толстой броней. Пушки – четырехдюймовые.
– Какой же двигатель в состоянии стронуть с места вашего «голиафа»? – спросил
д'Энкур.
«Не волноваться, – приказал он себе. – Сначала разобраться во всех деталях, потом
попробовать создать модель. Нам необходимо прорвать фронт. Эта война застряла на
месте, буксует – ни туда, ни сюда. Продвижение войск на пару километров уже
рассматривается как успех. Если так продолжится и впредь... Черт побери, Британия
слишком мала для подобных экспериментов».
– Мы предполагаем установить на нашем крейсере двигатель Дизеля в восемьсот
лошадиных сил. Электрическая передача. Машина будет развивать скорость до восьми
миль в час, преодолевать стенки высотой до восемнадцати футов – шести метров, если
говорить «по-немецки»...
– А водные преграды? – спросил д'Энкур.
– О да. Глубокие реки. Машина в состоянии форсировать Рейн.
– Вы думаете как стратег, – похвалил д'Энкур. Его лицо оставалось мрачным: он боялся
поверить в успех.
Февраль 1915 года, Дюнкерк, комитет сухопутных кораблей

Хетерингтон сохранял непроницаемый вид.
Это давалось ему с большим трудом. Его драгоценное детище – отвергнуто.
Не дошло даже до строительства опытного образца. Простые перерасчеты показали, что
действительный вес машины
«зашкаливает»: не триста тонн, как было написано в изначальном проекте, а вся тысяча.
Тысяча тонн! Это какой же потребуется двигатель?
И скорость... не более трех миль в час. С такой скоростью фронт не прорвешь.
Но главная причина – слишком большая уязвимость сухопутного крейсера. Всей его
брони не хватит, чтобы защитить его от огня тяжелой артиллерии.
«Мы не можем тратить такие большие средства на создание заведомо провальной
машины».
«Невозможно».
«Не представляется реальным».
Да, это конец...
Хетерингтон знал, что одновременно с ним над проектами сухопутных крейсеров
работают и другие. Такие же честолюбивые – и ради себя, и ради своей страны.
Кому-нибудь из них повезет.
Сентябрь 1915 года, Лондон
Инженер Триттон постучал в дверь кабинета.
– Входите, для вас всегда открыто! – донесся голос лейтенанта Уилсона.
Лейтенант Королевского флота, один из самых перспективных морских офицеров, почти с
самого начала войны был переведен в комитет сухопутных кораблей.
Сейчас вместе с Триттоном он работал над проектом нового «танка».
Здоровый английский соревновательный дух подстегивал изобретателей. Это было
похоже на джентльменское пари. Но только еще более благородное. Потому что выигрыш
– победа Англии в войне.
– Как вы узнали, что это я? – удивился Триттон, входя в комнату.
Как всегда, он чуть не споткнулся об огромный фикус в кадке, стоявший возле порога. Он
подозревал, что это жуткое с виду растение, которое из последних сил борется за жизнь в
прокуренной комнате, имеет для Уилсона какое-то сентиментальное значение.
– Во-первых, я никого, кроме вас, не жду, – откликнулся Уилсон, – а во-вторых, у
каждого человека своя манера стучать в дверь. Показывайте, что у вас сегодня. Я тоже тут
кое-что набросал...
Они погрузились в исследование чертежей.
15 сентября прошли первые испытания первого варианта их совместного детища.
– Знаете, Уилсон, эта машина обладает определенным внешним сходством с вами, —
прошептал Триттон на ухо Уилсону. – Думаю, мы так ее и назовем – «Маленький
Вилли».
– Черт побери, вы меня крайне смущаете! – ответил Уилсон, но против воли
рассмеялся.
«Маленький Вилли» не слишком хорошо проявил себя на испытаниях. По правде сказать,
он провалился.
Огромный жестяной куб, прикованный огромной массой к двум тщедушным гусеницам,
медленно проехал несколько метров и потерял траки.
Теперь, по крайней мере, было ясно, в каком направлении следует развивать проект.
– Самая главная наша проблема – как и у прочих бронированных машин, кстати, —
малая ширина преодолеваемого рва, – сказал Триттон. – Используя обычную
тракторную гусеницу, решить эту задачу невозможно.
– Вы слышали об изобретении Мэкфи и Несфильда? – осведомился Уилсон. – Я имею
в виду ромбовидную форму, которую можно придавать гусенице. Думаю, в большой
степени это поможет нам устранить недостаток. Предлагаю также применить большие
опоясывающие гусеничные ленты.
– Кстати, – сказал Триттон. – Еще одно. Один из работников комитета...
– Дейнкурт? – перебил Уилсон. – Я его хорошо знаю. Он и к вам приходил?

– Мог бы сэкономить время и прийти к нам обоим, – ответил Триттон. – Я считаю, что
он прав: следует размещать вооружение в боковых полубашнях. Давайте попробуем
сейчас перекомпоновать то, что у нас уже есть...
2 февраля 1916 года, Хатфильдский парк, недалеко от Лондона
Танк выехал на позицию и развернулся.
Эту машину назвали «Большой Вилли». «Вилли» и вправду «подрос»...
Дейнкурт совершенно искренне считал этот аппарат своим детищем.
Еще бы! Ведь именно ему было поручено руководить постройкой первого опытного
образца. Он называл себя «пионером» и говорил – то ли утешая себя, то ли
оправдываясь:
– Работа пионеров всегда требует много времени. Нам не удалось избежать ни одной
проволочки. Подводные камни противодействия, предательские мины равнодушия – все
это преграды на нашем пути, воздвигаемые теми, кто хочет заградить дорогу прогрессу.
И все-таки бронированный самоходный аппарат создан. Одновременно с работой над
машиной проводилась подготовка людей, способных ею управлять.
Экипаж сухопутного крейсера состоял из восьми человек: командир танка выполнял
функции стрелка из лобового пулемета; водитель; двое наводчиков и двое заряжающих; в
проходах и кормовой половине корпуса находились два помощника водителя.
Оставалась возможность размещения и девятого члена экипажа – в корме, у радиатора.
Из личного оружия он будет оборонять кормовой сектор от вражеской пехоты.
Все продумано, осталось только найти и подготовить людей.
Чтобы оградить страшную английскую машину от интереса немецких шпионов,
хитроумный Суинтон – к тому времени уже занявший пост секретаря комитета
имперской обороны, – исходно предложил назвать ее «резервуаром», «баком», то есть
«танком».
«Предполагается перебросить столько-то резервуаров» – подобная фраза, перехваченная
немецкой разведкой, вряд ли возбудит ее интерес к предмету.
Специально для испытаний была подготовлена экспериментальная площадка. На ней
воспроизвели во всех подробностях детали разбитого поля битвы: траншеи, проволочные
заграждения, воронки от снарядов.
– Лорд Солсбери, Англия никогда не забудет, чем вы пожертвовали ради ее победы, – с
чувством произнес Уинстон Черчилль.
– Я знаю, – хладнокровно произнес в ответ лорд Солсбери.
Поскольку испытания танка должны были проходить в условиях полнейшей секретности,
«поле битвы» оборудовали на... частном поле для гольфа, принадлежавшем лорду
Солсбери.
Любой гольфист поймет, насколько героическим и самоотверженным было это решение.
– Готов, сэр! – водитель танка Чарли Мэйган отсалютовал и полез внутрь «Большого
Вилли».
Демонстрация возможностей танка была ошеломляющей. Он справился со всеми
препятствиями, доказал, что танк в состоянии разрушать заграждения из колючей
проволоки – гораздо лучше, чем артиллерия.
– Я должен посмотреть все сам! – воскликнул Черчилль и, не слушая никаких
возражений, подошел к танку.
Чарли Мэйган открыл для Первого лорда Адмиралтейства дверцу.
– Прошу, сэр!
Черчилль, пыхтя, полез внутрь танка.
– Здесь чертовски здорово, хоть тесно и душно! – донесся его голос. – Джентльмены, я
влюблен!
Лорд Китченер, однако, проявил скептицизм по отношению к новой машине.
– Эта маленькая красивая механическая игрушка быстро станет мишенью для вражеской
артиллерии.
Судьба танка опять повисла на волоске.
8 февраля 1916 года, Хатфильдский парк, недалеко от Лондона
– Ваше величество! – флотские офицеры, приписанные к сухопутному крейсеру,
лейтенант Уилсон, лорд Адмиралтейства – все склонили головы.

Король Георг V смотрел на «Большого Вилли», не скрывая почти детского восхищения.
– Я думаю, эта машина поможет нам выиграть войну! Я могу увидеть ее в действии?
– Разумеется, ваше величество! – ответил Черчилль и сделал знак Мэйгану. – Я уже
испробовал ее и могу заверить: она совершенна.
Король «дал отмашку», и «Большой Вилли» пошел в производство...
Именно этот танк стали называть впоследствии «Мать» Mark-1 (Mk.I) – «Самка». Более
тяжелый «Самец» получил две морские шестифутовые пушки. «Самка» несла пулеметы
«Виккерс».
Этот танк представлял собой бронированную ромбовидную коробку, обведенную по
корпусу стальной гусеницей. Броня в пять —
десять миллиметров толщиной защищала от пуль, шрапнели, легких снарядных осколков.
В бортовых полубашнях – спонсонах – размещалось вооружение.
15 сентября 1916 года, берег реки Сомма
Сорок девять бронированных коробок высотой в два человеческих роста медленно ползли
по земле, издавая адский грохот и рев, испуская клубы дыма.
Бронированные чудовища разнесли проволочные заграждения, одолели первую линию
окопов.
Их гусеницы давили блиндажи и укрепления.
Англичане прорвали фронт и продвинулись на пять километров – для позиционной
войны колоссальный успех...
И не было в те дни для немецких солдат ничего ужаснее этих бронированных махин.

40. Война разведок
27 июня 1939 года, Хандагай
– На основании наших разведданных мы можем утверждать, что противник
сосредоточил значительные наземные силы в пятнадцатом районе Номонгана, —
докладывал майор Нюмура, командир разведотряда, приданного группе Ясуоки.
Ясоука взглянул на карту, где было отмечено расположение советских и монгольских
войск.
– Господа, я получил приказ, – объявил он своим офицерам. – Штаб освободил наш
отряд от непосредственного подчинения и присоединил к 23-й пехотной дивизии. Отныне
мы действуем под руководством досточтимого генерал-лейтенанта Камацубары.
Совместными усилиями мы должны разгромить врага.

– Выдвигаемся к сторону озера Дорот на встречу с 26-м полком под командованием
полковника Суми, – продолжил за Ясуоку его «правая рука», майор Масуда. – Суми
командует моторизированным резервом генерал-лейтенанта Камацубары и уже ожидает
нас возле озера. Вместе мы должны дождаться грузовиков, на которых доставят топливо и
необходимые инструменты, а затем нанесем комбинированный удар по русским через
реку Халхин-гол.
– Суми уже у озера Дорот? – спросил Ясуока.
Нюмура кивнул:
– Согласно последним данным – да. Ожидает, когда мы подтянемся.
28 июня 1939 года, берег озера Дорот
– Черт бы побрал эту жару! – сказал полковник Суми, отирая лоб платочком. – И этих
комаров! Не дают выспаться. Посмотрите, лейтенант, какие бубоны. Вас тоже кусают?
– Жалят беспощадно, – ответил бравый лейтенант, не моргнув глазом. Его веки
воспалились: солнце слепило, бессонница одолевала. Голос звучал хрипло: все время
хотелось пить. Но японский солдат не показывает своих страданий.
– Как личный состав? – спросил полковник.
– Солдаты бодры, их боевой дух высок! – доложил лейтенант.
– А насчет продовольствия?
Продовольствие не подвозили уже третьи сутки. Как, впрочем, и долгожданное топливо.
Грузовики опаздывали.

– Питаются кореньями, ловят рыбу в озере. Все довольны! – сказал лейтенант.
– Просто какой-то курорт, – заметил полковник, отдуваясь. – Но где же эти проклятые
машины? И где, черт побери, танки Ясуоки?
28 июня 1939 года, берег озера Дорот, 23 часа
– Прибыл генерал-лейтенант Камацубара!
Полковник Суми спешно привел себя в порядок. Мундир на спине потемнел от пота
– План по форсированию реки изменился, – сказал Камацубара. – Мы пришли к
выводу, что японские танки не в состоянии переправиться через Халхин-гол в выбранном
месте. Поэтому механизированные силы Ясуоки будут использоваться на правом берегу
под моим личным командованием. Вашему полку предстоит обеспечить ударную
моторизированную мощь на левом берегу.
– А где грузовики с топливом? – задал Суми вопрос, не дававший ему покоя (наряду с
комарами) все последнее время.
– Грузовики ожидают в Чянчуньмяо. Там, где размещены танковые силы Кобаяси.
Выступаете завтра.
Суми отправился к своим офицерам, а затем в палатку – в слабой надежде, что удастся
поспать. Но всю ночь, сквозь беспокойный сон, его терзало смутное подозрение: ему
почему-то казалось, что сам Ясуока даже не знает, что теперь его задача – фронтальная
атака на правом берегу вместо прорыва на левом...

29 июня 1939 года, Хандагай, 22 часа
– Господа! – Ясуока выглядел мрачным. – Мы получили абсолютно новые данные.
Противник отходит от правого берега реки Халхин-гол. Наша операция по окружению
советских войск, таким образом, под угрозой.
Командир разведчиков майор Нюмура взял слово:
– Нам удалось перехватить телеграмму, отправленную комбригом Яковлевым,
командиром 11-й танковой бригады. Телеграмма адресована комкору Жукову. Там
говорится: «Из-за постоянных дождей дороги размокли. Танки застревают. Необходимо
повернуть назад для ремонта».
– От кого поступили данные? – спросил Ясуока.
– Наша разведка в Харбине, – лаконично ответил Нюмура.
Ясуока посмотрел на потолок палатки.
Дождь действительно имел место быть. Район Аршан – Хандагай, где располагался отряд
Ясуоки, тонул в грязи.
– Мы должны захватить противника врасплох! – подытожил Ясуока. – Выступаем
немедленно.
– Генерал, – вмешался майор Масуда, – осмелюсь напомнить, что грузовики с
топливом прибыли в Хандагай еще не все. Мы имеем половину необходимого горючего.
Что касается материалов для возведения моста, то он вообще еще отсутствует.