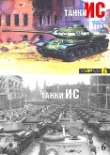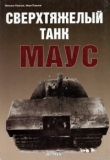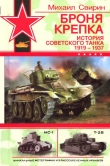Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
«Матильды» тоже не собирался. Зачем? Технология налажена, танк пошел в серию. Если
все время экспериментировать и совершенствовать уже имеющееся, можно вообще
остаться без танка поддержки пехоты.
Кроме того, более медленную «Матильду I» попробовали оснастить минным тралом.
Эллис, как и все ветераны Большой войны, сталкивался с проблемой минных
заграждений. Хорошо бронированный танк подходил за этой задачи. Две длинные
несущие рамы устанавливались по бортам корпуса и опускались с помощью цепной
передачи с приводом от двигателя.
Недурная штука.
Только на «Матильду» ее так и не установили. Попробовали, остались в принципе
довольны – и сняли. Потом использовали на танках других типов.
Июнь 1940 года, Дюнкерк
Капитан Уильям Голдинг с сожалением оглянулся на свою «Матильду» в последний раз.
Вот уже несколько месяцев во Франции действовали Четвертый и Седьмой батальоны
Королевского Танкового Полка. Семьдесят семь танков, в том числе – «Матильды» I и II,
плюс неизменные «Виккерсы».
Насчет брони Эллис и Карден не ошиблись – она оказалась достаточно прочной, чтобы
немецкие Pz.II и Pz.III «обломали зубы» о нее. Однако британские пулеметы подвели —
им, в свою очередь, не под силу оказалось пробить броню немецких танков. Пушечку бы...
С боями прошли Францию, потеряв половину всех танков. И вот теперь приходится
бросать остальные... Как их эвакуировать? Эх... Прощай, верная «Матильда»!
...Обер-лейтенант Фердинанд Шнитке «покатался» на паре трофейных «Матильд» и
составил рапорт на основе личных впечатлений:
«Британцы создали крайне медлительную машину, на которую, к тому же, невозможно
установить пушечное вооружение. Единственное применение, которое может найти им
победоносный германский народ, – пустить на металлолом».
11 октября 1941 года, Архангельск
Караван PQ-1 входил в порт.
Британия воевала с Германией всеми доступными ей способами. Все советское было
теперь в моде. Мисс Матильда Грэй работала на заводе – трудовая мобилизация.
Нежная женская рука выводила русские буквы: «СТАЛИН» на броне... Этот танк
отправится в Советский Союз, он будет стрелять в нацистов!..
– Разгружай, ребята! Вишь, какие каракатицы... – слышались голоса. – Ну, зададут
фашисту... Британцы, что ли?
«Уточки» грузились на платформы и отправлялись в Горький.
Ноябрь 1941 года, Калининский фронт
Советские танкисты недоверчиво осматривали «иностранок».

Первое, что бросилось в глаза, – «летние» гусеницы.
– Это куда ж такое? – огорчались бойцы. – Они хоть соображают, где машина воевать
будет? Тут без лома, бревна и такой-то
матери и не проехать – вон, все забиваться будет...
– Заскользит – опрокинется брюхом кверху, – вздыхали другие. – Нижней частью в
небеса не навоюешься...
– Отставить разговорчики! – оборвал их командир, лейтенант Северьянов. –Лучше бы
спасибо союзникам сказали. Техники не хватает ни у нас, ни у них. А дело наше общее —
бить Гитлера.
«Доводили» машины буквально на ходу: на траки гусениц наваривали специальные
металлические «шпоры».
То и дело танкисты страшно ругались:
– Стоит, каракатица! Ни туда, ни сюда!
– Хватит ругаться, давай очищай! – обрывал Северьянов.
– Так товарищ лейтенант!.. – обязательно тянул кто-нибудь жалобным голосом.
Между фальшбортами и гусеницами набивалась грязь, которая замерзала, и танк вставал.
– Эта зараза, небось, для Африки предназначается, для пустыни, – сердились танкисты.
– Едет, стало быть, англичанин в таком шлеме, как в кино показывали. Ага. Ходовая
часть у нашей шарманки во, фальшбортом-то закрыта с окошечками. И сыплется, значит,
песочек через эти окошечки с траков. Благодать... А тут – вон, болота да грязь
непролазная.
– Напиши жалобу, – предложил Северьянов.
– А и напишу! – обозлился боец. – Коммунист я или нет? В штаб напишу! Чтоб от этой
каракатицы нас избавили и посадили на нормальный танк!
21 января 1942 года, Западный фронт
– Смотри, ответили!
Листок с отпечатанным текстом лежал на колене у командира, и он громко, отчетливо
зачитывал вслух:
« Пехотный танк «Матильда» является образцом среднего танка тяжелого
бронирования. Особенностью конструкции танка является наличие у него фальшбортов
из катаной стали, защищающих подвеску танка. В условиях плохих дорог Подмосковья...»
– Ну это мы знаем, – перебил сам себя товарищ лейтенант.
– Дальше, дальше читай! – требовали бойцы.
« К числу недостатков танка «Матильда» следует отнести слабость его орудия при
ведении огня по живой силе противника и огневым точкам. Бронепробиваемость орудия
удовлетворительна...»
– Ну и? – подал голос пессимист Тимофей Ушаков. – «Удовлетворительно» – это
тройка, как в школе говорят.
– Удовлетворительно – это хорошо, – твердо сказал Северьянов. – Вот, смотрите:
пишут, что рассматривается вопрос о перевооружении «Матильды» отечественной 76-
миллиметровой пушкой. И руководящий вывод: «Практику очернения танков союзников
и распространения им обидных кличек «каракатица» и «шарманка» прекратить».
– Все ясно? – Северьянов обвел своих бойцов строгим взглядом.
– Ясно, товарищ командир...

13 августа 1943 года, село Звенигородка, 1 Украинский фронт
Танковая бригада сосредоточилась в лесу. Командир роты лейтенант Лоза вывел свою
«Матильду» на опушку, близ проселочной дороги.
Теперь ждать атаки.
Вторая рота под командованием старшего лейтенанта Князева двинулась вперед через
гречишное поле: он получил приказ занять старую позицию.
Три первых «Матильды» появились над холмом и пошли по гречихе.
И тут по ним ударили советские противотанковые батареи.
– Зеленая ракета! Зеленая ракета! – закричал Лоза. – Дайте знак, что наши!
Артиллеристы продолжали обстреливать «Матильд».
– Ушаков, Петров, Тарасенко, – Лоза толкнул первых попавшихся под руку, – бегите
на батарею, скажите этим ослам, что танки наши, пусть прекратят огонь!
Второй залп.
«Матильда» остановилась с развороченной ходовой частью.
Князев не остался в долгу – открыл ответный огонь. Танк смел с лица земли два орудия
вместе с расчетами.
Наконец огонь смолк.
Вечером в штабе бригады стоял крик, произносились слова «вредитель» и «трибунал».
– Свои танки, свои же! Как ты сообразил открыть огонь? – орал начальник штаба.

Командир артиллерийской батареи даже не оправдывался. Десять человек погибло, три
танка вышли из строя, два орудия уничтожено...
И тут старший лейтенант Князев спросил:
– А кто отвечает за то, чтобы у наших артиллеристов были силуэты танков союзников?..
Вопрос повис в воздухе.
1944 год, Лондон – Прага
«Матильды» – первая и вторая, «уточки» с пушечкой или с пулеметом, – шли по Европе
вместе с Советской Армией.
Почти все они к сорок четвертому году уже были списаны. Большая часть «пала смертью
храбрых» на полях сражений. Некоторые еще работали учебными танками.
Все модификации «Матильды» имели почти неотличимый внешний вид.
Так что силуэт их был теперь вполне узнаваем.
А к концу сорок четвертого года и учебные танки «Матильда» и в самой Великобритании
ушли в историю.
36. Гусеницы и колеса
5 декабря 1929 года, Москва
– Товарищи, мы должны по-коммунистически прямо взглянуть правде в глаза, —
произнес председатель Реввоенсовета Клим Ворошилов. – Отечественная
промышленность отстает в разработке конструкций образцов всех типов танков. Наши
танки не отвечают современным требованиям...
В зале поднялся гул.
Совет Труда и Обороны заволновался. Ворошилов повысил голос:
– Да, товарищи, героическим трудом всего советского народа мы добились невероятных
успехов. Но положение дел изменяется очень быстро. То, что еще вчера было самым
передовым, сегодня уже устарело.
Со своего места поднялся заместитель председателя Совета Народных Комиссаров
Орджоникидзе.
Зазвучал его красивый певучий голос, чуть «сдобренный» кавказским акцентом:
– Предлагаю внести решение – командировать за границу представителей военного
ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения. Нам также
необходимо получить техническую помощь по производству. Я бы даже так
сформулировал: техническая помощь – это главный фактор.
Решение голосовали единодушно.
28 апреля 1930 года, Руоэй, Нью-Джерси, США
Джон Уолтер Кристи был уже немолод – шестьдесят пять лет, но по-американски бодр,
сухощав, оживлен. Типичный янки.
Он начинал свою карьеру конструктора еще в годы, когда Европу сотрясала первая
Большая война.
– Послушайте, Джон, – говорил ему инженер Брэдли, его помощник и правая рука, —
неужели вы всерьез намерены сотрудничать с Советами?
– Почему бы нет? – Кристи пожал плечами, демонстрируя полнейшее свое
«непонимание». – Чем вызван такой вопрос?
– Но ведь они – большевики! Наша страна даже не имеет с ними дипломатических
отношений.
– Послушайте, Брэдли. – ответил Кристи, – я не одобряю политику большевизма, что
бы это на самом деле не означало. По большому счету, я интересуюсь только одним:
моими изобретениями. И плевать, кто воплотит их в металл. До того, как я навеки закрою
глаза, я хочу увидеть танки «Кристи» в настоящем деле, в сражении.
Он зловеще оскалил зубы по щеткой седых, желтоватых от табака усов.
– И кроме того, я чертовски хочу утереть нос Конгрессу! Они меня не оценили? Плевать!
Меня оценят русские. А там, глядишь, одумаются и остальные – потому что Советская
Россия все-таки монстр, и с ним надо считаться.
Товарищ Халепский, возглавлявший советскую закупочную комиссию очень хорошо
понимал, что является представителем «монстра». К тому же – весьма богатого монстра.
В отличие от англичан, которые жались из-за каждого шиллинга, Халепский был
буквально набит деньгами. Но потратить их намеревался с толком.
Джон Кристи не без злорадства внимал сплетням о том, как русских пыталась «окрутить»
фирма «Каннингэм». Конечно, всучить такому покупателю танки малого типа – Т-1 и Е-1
– дело, можно сказать, «святое». Ну подумаешь – скорость движения маловата,
подумаешь, двигатель и редукторы постоянно греются, подумаешь – гусеницы
громоздкие!
СССР ведь – страна рабочих и крестьян? Возьмутся за молотки да напильники и доведут
до ума!..
Ха-ха. Не надо было жадничать. «Каннингэм» задрали цену и начали качать права:
советская сторона-де обязывается купить минимальную партию в пятьдесят машин, да
еще с пятидесятипроцентной предоплатой.
Халепский, следует отдать ему должное, терпел до последнего. Соглашался – в принципе
– даже на такие гнусные условия. Ему важно было заполучить главное: специалистов. В
стране рабочих и крестьян этого «товара» не хватало.
А как раз в технической помощи и в допуске инженеров на заводы советской стороне
фирма «Каннингэм» категорически отказала и Халепский с крючка сорвался.
«Каннингэм» остались пожинать плоды своей жадности. (Они называли это —
«предусмотрительностью»).
Кристи весело потер мозолистые ладони.
– Надо показать «товарищам», что не все янки – такие жадины! – сказал он.
И отправил Халепскому приглашение.
Тот прибыл – впрочем, нехотя. У Халепского был уже сформирован в мыслях образ
«идеального танка». Машины Кристи в этот образ вписывались с трудом.
Однако Джон Уолтер Кристи обещал «товарищу» продемонстрировать свои новые,
строящиеся прямо сейчас быстроходные танки.
Халепский был впечатлен увиденным.
– Наша встреча была для меня в высшей степени познавательной, мистер Кристи, —
подытожил товарищ Халепский. – Думаю, можно считать, что предварительно мы
договорились.
Они скрепили договор рукопожатием, и товарищ Халепский с другими товарищами
отбыли. Составление и подписание контракта были возложены на Амторг —
организацию, которая отвечала за торговые сделки Советов в Америке.
Советская сторона покупала у Кристи два танка за шестьдесят тысяч американских
долларов.
Еще сто тысяч Кристи получил от «большевистского медведя» за продажу
производственных прав, передачу патентов и услуг в отношении технического
содействия.

5 июля 1930 года, Москва
Теперь, когда между Халепским и Кристи существовало «джентльменское соглашение» (а
оно, как считали оба, было куда важнее подписанных бумаг), Халепскому начал нравиться
танк Кристи.
Прямо-таки кровно начал ему нравиться этот танк.
Отныне это был не «приличный» танк, «примерно подходящий» по параметрам; нет, это
был отличный танк, лучший из лучших, единственно возможный быстроходный танк с
независимым колесно-гусеничным движением.
Осталось еще внушить эту пылкую любовь остальным членам правительства.
Халепский горячо говорил в своем докладе о заграничной командировке:
– По скорости «Кристи» перекрывает все танки в мире. Предлагаю следующее: мотор
«Либерти» для танков производить по-прежнему на авиационных заводах. Подготовить
производство прочих агрегатов на Ярославском автомобильном заводе. На текущий 1930-
1931 год дать промышленности задание построить не менее ста штук танков «Кристи».
14 июля 1930 года, Нью-Йорк
Товарищ Тоскин, член Научно-Технического Комитета, смотрел на Статую Свободы.
Огромная белоглазая женщина вырисовывалась на фоне залива.
Против воли, статуя производила сильнейшее впечатление. В первый миг она как будто
говорила ошеломленному зрителю: «Ты достиг обетованной земли». Нужно быть
советским человеком, чтобы не поддаться ее могущественной магии.
Товарищ Тоскин отбил телеграмму Джону Уолтеру Кристи и отправился занимать номер
в гостинице. Номер ему заказали и оплатили заранее, чтобы не возникало ни соблазнов,
ни прочих глупостей.

Скоро от Кристи прибыли чертежи на 127 листах, а вместе с чертежами – короткое
письмо, отпечатанное на старой пишущей машинке.
Джон Уолтер Кристи сообщал, что собирается посетить Москву вместе со своими
машинами.
9 августа 1930 года, Москва
Главный конструктор главного конструкторского бюро при Государственном Всесоюзном
орудийно-оружейно-пулеметном объединении товарищ Шукалов принял пакет с
надписью «Совершенно секретно» и расписался в получении.
Драгоценные чертежи американского танка прибыли на советскую землю. Теперь
следовало ожидать самого конструктора «верхом на танках».
Кристи запаздывал. Несколько раз он, как настоящий джентльмен-янки, телеграфировал
советской стороне: «Делаю, что могу, но опять задержка. Прошу продлить срок». Сроки
продлевались – а куда деваться? Тем более что работы и без Джона Уолтера Кристи пока
хватало.
Подыскивали завод, способный производить новый танк.
Самым ценным в этом танке была совершенно новая подвеска. Ее так и называли —
«подвеска Кристи». Каждое колесо оснащалось мощной вертикально установленной
пружиной, расположенной между двумя бортовыми листами корпуса и связанной с
катками через качающиеся рычаги.
Все это следовало изучить и применить для народного хозяйства и социалистической
промышленности как можно скорее.
21 ноября 1930 года, Москва
Танк «Кристи» принят к производству. Окончательно. Все подготовлено, ждут только
самого конструктора.
– Мы не можем игнорировать тот факт, – заметил товарищ Ворошилов, – что этот танк
не полностью соответствует нашей программе. Скорее, это очень удачный, но все-таки
промежуточный вариант.
– По этому поводу, – поднялся товарищ Халепский, – я должен сделать одно важное
уточнение. Поскольку танк «Кристи» не отвечает целиком и полностью требованиям
танко-тракторно-авто-броневооружения, то и сквозного индекса «Т» ему не следует
присваивать. Более разумным представляется присвоение ему индекса «СТ» —
«скороходный танк», или «БТ» – «быстроходный танк».
30 декабря 1930 года, Нью-Йорк
Джон Уолтер Кристи не поехал в СССР. Но проводить свои танки пришел.
Долго еще стоял он в порту, глядя на удаляющийся корабль.
В трюме уезжали два танка «Кристи». Уезжали за океан, в Советский Союз, который кое-
кто называл «страной победившего варварства».
Почему-то Кристи было грустно. Неужели он не увидит свое детище в настоящем бою?
Но скоро мысль его перешла на новый проект. Ему виделись танки, способные развивать
скорость до ста километров в час, способные перепрыгивать ров шириной в шесть метров
и одолевать уклон в сорок пять градусов.
Эскадрильи летающих танков! Вот они свободно проходят линию фронта и громят
противника с тыла! Джон Уолтер Кристи мечтательно зажмурился. Впереди так много
работы...
16 мая 1931 года, полигон под Харьковом
Начались работы по изучению образцов, прибывших из Америки.
«Кристи» выглядел элегантно: легкая боевая колесно-гусеничная машина с классической
схемой компоновки.
В передней части корпуса располагалось отделение управления. Механик-водитель
размещался по центру. В средней части танка находилось боевое отделение, в кормовой
– моторно-трансмиссионное.
Башня с вооружением отсутствовала.
Экипаж в количестве двух человек должен был садиться в машину через водительский
люк.
С посадкой сразу вышла заминка. Непонятно, о чем думал Джон Уолтер Кристи. Вряд ли
американские танкисты такие субтильные. Во всяком случае, бравые советские ребята
через водительский люк протискивались с трудом. Поэтому пришлось забираться в
машину через отверстие для башни.
Танк предполагался как «истребитель». Броня его доходила до четырнадцати
миллиметров. Рычал авиационный двигатель «Либерти» – четыреста лошадиных сил.
Управляли танком с помощью рулевого колеса, которое можно было снимать. Если
возникала необходимость поворота на месте, пользовались рычагами, предназначенными
для управления машиной при движении на гусеницах.
– Попробуем ехать? – спросил командир отделения, когда первоначальное знакомство с
танком состоялось.
И машина двинулась с места.
Следующие десять дней «американским друзьям» не давали покоя. Танк прошел на
колесах и гусеницах сто пятьдесят километров.
– Интересно, как он в Америке-то катался? – ворчали русские танкисты. – По
шоссейной дороге, что ли?
Уолтер Кристи сообщал, что его танки перед отправкой прошли испытания. В частности
– пробег составил аж пятьдесят километров.
В условиях Украины уже на второй день во время поворота на травяном грунте сломался
кронштейн правого ленивца.
Два дня танк чинили.
Починили.

Прошел пятьсот метров – сломался по новой...
27 мая – 13 июня 1931 года, Украина
На колесах танк «Кристи» передвигался со скоростью семьдесят километров в час.
Одолевал и шоссейные дороги, и грунтовые.
Управлять этим танком на грунтовых дорогах оказалось весьма затруднительно: когда
«Кристи» подпрыгивал на неровностях, толчки выбивали руль у водителя из рук.
Приходилось сбавлять скорость.
Пытался брать препятствия, искусственные и естественные: пять рядов проволочных
заграждений, двухметровый окоп.
Установка гусеничных лент занимала у экипажа (Халепский нарочно смотрел на часы)
сорок четыре минуты. Снятие – на десять минут меньше.
В целом – удовлетворительно.
«Доработать – и в производство» – таков был основной вывод, сделанный комиссией
наркомата после испытаний.
Осень 1936 года, окрестности Киева
Впервые за десятилетия представители военных ведомств иностранных государств
получили возможность наблюдать действия Красной Армии вблизи.
«Монстр», о котором доходили лишь противоречивые слухи, – даже знаменитая
британская разведка не всегда была достоверна, – явил себя во всей красе.
Зрелище было ужасным.

«Синие» должны были сражаться против «Красных» (так условно именовались
противники на маневрах). Небо наполнилось самолетами, а по земле, вздымая тучи пыли,
исторгая рев, мчались быстроходные легкие танки БТ-5 – «советские Кристи».
Они поражали лихими прыжками с разгона через рвы.
Один только вид этой армады производил... гм... выразимся сдержанно: сокрушительное
впечатление.
Французский наблюдатель генерал Луазо высказал общее мнение:
– В отношении танков я полагал бы правильным считать Армию Советского Союза на
первом месте.
Английский наблюдатель, капитан Лиддел Гарт кивнул:
– Даже если это сплошная показуха, – черт побери, джентльмены, – то это дьявольски
убедительная показуха.
– Как вы считаете, сэр, смогут ли машины Королевского Танкового Корпуса выстоять
против БТ? – наклонился к уху Гарта его коллега, капитан Тодд.
– Во-первых, сэр, их маловато, а во-вторых, далеко не все оснащены пушечным
вооружением. Так что мой ответ – вряд ли, сэр.
– Что же нам, в таком случае, предпринять, сэр?
– Полагаю, следует закупить у мистера Кристи какой-нибудь танк...
Тут с небес «на головы» представителей иностранных военных миссий посыпались
советские парашютисты. Это зрелище окончательно доконало «буржуев».
Октябрь 1936 года, Нью-Джерси, США

«Летающий» танк Кристи не заинтересовал Конгресс.
Идиоты там заседают, что ли?
Джон Уолтер Кристи мрачно жевал табак, когда к нему явились англичане.
В тех случаях, когда им это было выгодно, «милорды» умели быть откровенными.
– Мы наблюдали ваши танки в условиях, приближенных к боевым, мистер Кристи, —
сказали они. – Великобритания заинтересована в покупке подобных же танков.
Кристи попытался всучить им «летающие» танки, модель М1936, но англичан
интересовал только один вариант: танк «Кристи» модификации М1931. Его и купили в
количестве одного экземпляра и без вооружения. Англичане имели обыкновение
экономить во всем.
Тогда как в Советском Союзе Автобронетанковое управление РККА выдало заводу № 183
тактико-технические требования на новый танк под индексом А-20, где первым пунктом
шло обязательное: «На основе танка «Кристи» с приводом на шесть колес». Еще через
четыре года Советы поставят на конвейер Т-34, который во многом решит исход
надвигающейся Великой войны...
37. Беспомощный «мастодонт»
20 декабря 1914 года, Москва
Россия должна выиграть войну!
Об этом кричали заголовки газет. Инженеру Николаю Лебеденко казалось, что они кричат
прямо у него в голове.
«Раздавить коварного врага!»
«Позор Германии!»
Он проснулся среди ночи, как от толчка. Во сне к нему пришла идея. Она и разбудила
изобретателя.
Идея была простой. Сначала Лебеденко думалось, что она, как и любой сон, при
пробуждении обнаружит свою несостоятельность, но этого не произошло. Напротив, чем
дольше он размышлял, тем более правильными представлялись окончательные выводы.
В Средней Азии он не раз видел, как арба легко едет по каменистой горной дороге. Там,
где застряла бы обычная телега, арба с ее огромным колесом легко преодолевает
препятствие.
Необходимо построить такое оружие, которое могло бы, благодаря гигантскому колесу,
проходить через вражеские окопы!
Колесо высотой в дом. Вот что нужно. Это спасет Россию.
Николай Николаевич не мог больше спать. Он бросился к столу, зажег лампу, разложил
бумаги и и взял чертежный набор.
Вырисовывалась махина, напоминавшая по своей конструкции сильно увеличенный
орудийный лафет.
Соотношение высоты передних и задних колес – это все потом. Сейчас главное —
набросать общий план, зафиксировать на листках концепцию.
Колеса. Колеса – главное: они обеспечат проходимость всей конструкции. И заодно
наведут ужас на врага.
Лебеденко зажмурился. Представил себе: вот движется на него невероятное железное
чудовище, размерами превышающее дом!..
И оно не просто движется, оно еще и стреляет!
Наверху будет размещена пулеметная рубка. И надо еще пару пулеметов установить по
бокам, в спонсонах...
Два спицевых передних колеса будут диаметром в тридцать футов. Коробчатый корпус —
Т-образный, шириной не менее тридцати девяти, а лучше сорока футов. На крайних
точках корпуса, выступающих за плоскости колес – вот там лучше всего будет
расположить спонсоны с пулеметами.
– Пушки! – произнес Лебеденко вслух. – Можно пулеметы, а можно и пушки! И ехать
оно должно очень быстро, верст двадцать в час.

Он закрыл глаза, продолжая сидеть за столом. Колоссальная машина для убийства
мчалась перед его мысленным взором, изрыгая пламя. Враг бежал. Кто не успевал бежать,
был повержен. Огромные колеса легко перескакивали через окопы, подминали под себя
технику, людей.
Вот так Российская империя победит в войне.
Уверенный в успехе, Лебеденко вернулся в постель и проспал крепким сном до самого
утра.
21 декабря 1914 года, Москва
– Идея безумная, безумная идея! – повторял Жуковский, расхаживая по комнате.
Именно к Николаю Егоровичу Жуковскому, ученому, профессору, изобретателю, явился
утром следующего дня инженер Лебеденко со своим замыслом.
Жуковский обитал в тихом Мыльниковом переулке, в небольшом доме, где было по
зимнему времени очень жарко натоплено. Заведовала бытом няня – ветхозаветная
старушка, поэтому и обстановка на Мыльниковом была самая старинная.
Тотчас подали самовар и пряники. Лебеденко рассеянно взял чашку, обжегся и заговорил
о своем проекте.
– Один я с разработкой не справлюсь, – признал Лебеденко. – Тут расчеты и чертежи
нужны, а у меня по этой части мало опыта. Но я попробую отыскать материальные
средства. Если там, – он указал пальцем наверх, – убедятся в полезности проекта, то и
деньги будут.
– В первую очередь необходим мотор, – сказал Жуковский, едва дослушав изобретателя
до конца. – Без мотора ничто с места не сдвинется. А где такой взять? Русского
двигателя для вашего мастодонта пока не построили.
– Сделайте расчеты, – повторил Лебеденко, точно в полубреду, – а про мотор не
думайте. Пока. Будут расчеты – найдется и мотор. Бог на нашей стороне!
Проводив странного гостя, Жуковский начал собираться. Он надел широкополую шляпу,
плащ-крылатку устаревшего фасона, вышел из дома, сел на извозчика. Все ближние
извозчики знали привычки профессора и без лишнего вопроса возили его в Московское
Высшее техническое училище, где Жуковский читал лекции и производил опыты в своей
аэродинамической лаборатории.
Он вернулся домой к обеду и, по обыкновению, часа два поспал. Затем сел за письменный
стол – доканчивать чертежи и расчеты, которыми занимался накануне.
Идея Лебеденко, как ни странно, Жуковского заинтересовала своей крайней
необычностью. Он поневоле начал чертить спицевое колесо.
– Нужно как следует рассчитать давление на грунт, – бормотал он.
Жуковский начинал свой творческий путь в те годы, когда велосипед был диковиной. Сам
по себе этот колесный «агрегат» увлекал Жуковского как задача теоретической механики,
и он по целым дням вычислял – как работают спицы и обод велосипедных колес.
«Я хочу решить велосипед математически», – говорил он.
Теперь ему предстояло «математически решить» чудовище, которое про себя он именовал
«Танк Лебеденко» или, еще проще, – «Мастодонт».
Он исписывал листок за листком, и скоро уже странички, покрытые крупными буквами —
строки неряшливо загибались книзу, – лежали на столе, на пепельнице, подоконнике, на
старинных часах, всегда стоявших на письменном столе Жуковского...
21 января 1915 года, Царское Село
– Государь ждет.
Лебеденко, замирая, вошел в большой кабинет в Александровском дворце Царского Села,
где размещалась резиденция государя.
Николай Второй смотрел прямо на него, сидя за столом.
Царь был в точности похож на свои портреты: неподвижное лицо, загадочный —
«византийский» – взгляд светлых глаз. И еще он был похож на императора Вильгельма.
Это сходство старательно ретушировалось газетными карикатуристами, которые рисовали
«Вилли» с цыплячьей вывернутой шеей и непомерными усами.
Царь был спокоен, любезен.
Лебеденко поставил перед ним модель «Мастодонта». Модель была деревянной, размером
с игрушку, но могла двигаться: ее снабдили специальным двигателем на базе
граммофонной пружины.
– Ваше величество, я пришел рассказать вам, как выиграть войну! – выпалил
Лебеденко.
«Мастодонт» поехал.
– За счет размера колеса... – начал объяснять Лебеденко. – Да я, впрочем, лучше
покажу.
Модель побежала по ковру.
– Скорей, дайте книгу! – возбужденно крикнул Лебеденко, не помня себя от волнения.
Царь тоже, казалось, забыл о разнице в их положении. Он схватил со стола свод законов
Российской Империи и протянул инженеру.
Игрушечный «танк» легко одолел преграду.
Государь подошел к шкафу и вынул сразу несколько больших книг. Скоро они с
Лебеденко соорудили в кабинете на полу целую систему препятствий, нагромоздив горы
книг.
«Мастодонт» не смущался никакими «монбланами» – деловито жужжа, он крушил
воображаемого врага.
– При помощи таких вот машин в одну ночь будет прорван весь германский фронт, и
Россия выиграет войну! – горячо заверил Лебеденко.
Николай улыбнулся.
– Господин Лебеденко, – произнес император, – я думаю, у вашего изобретения
большое будущее. Считайте меня своим покровителем в этом деле. Я распоряжусь, чтобы
вам выделили необходимые средства для постройки. Начнем с суммы в 210 тысяч рублей.
Полагаю, этого хватит.
Лебеденко схватился за грудь. Будь времена другие, он бы бросился целовать царю-
батюшке руки, но сейчас ограничился поклоном.
При выходе из кабинета он вдруг замешкался и нарочито произнес:
– Гм...
– Да? – Николай поднял брови, глаза его стали круглыми.
– Недавно, ваше величество, доблестными авиаторами армии российской был сбит
вражеский дирижабль, – произнес Лебеденко. – Так с него были сняты моторы
«Майбах», каждый по двести сорок лошадиных сил, ваше величество!
– Мне об этом известно, – сказал царь.
– Не то чтобы русские изобретатели не способны были построить такой мотор, и даже
лучше, – продолжал Лебеденко, – но ведь на это требуется время, а времени-то у нас и
нет.
– Я распоряжусь, чтобы «Майбахи» отдали вам, – кивнул Николай.

Аудиенция была окончена.
Май 1915 года, лес в районе станции Орудьева, к северу от Дмитрова
– Почему это в тот лес ходить нельзя? – возмущенно спросила бабка Маланья, когда
двое солдат дали ей от ворот поворот, едва она сунулась с корзиной в знакомый лесок. —
Я там всегда хворост брала!
– Всегда брала, а теперь не будешь! – отвечали солдаты. – Там, бабка, теперь
засекреченный царский объект.
– Чего царский? – не поняла бабка.
– Оружие делают, немца воевать! – объяснили солдаты. – Только это тайна, будешь
болтать – тебя как шпионку под расстреляние отдадут.
Бабка, конечно, болтать не стала, но что в лесу возле станции Орудьево какие-то
секретные дела делаются, – ни для кого из местных жителей скоро секретом не стало.
Лебеденко вернулся в Москву окрыленный: с деньгами, с царской милостью, с двумя
моторами «Майбах». Кроме того, он получил звание капитана.
«Майбахи» решили главную проблему. Каждое из двух больших ходовых колес вращал
свой мотор.
Жуковский готов был поверить в проект и с жаром взялся «пересчитывать вещь» —
производить расчеты по спицевым колесам.
«Мастодонтом» колесный танк Лебеденко назывался теперь только «в просторечии», а
официально именовали его «Царь-танком».
В конструкторском бюро на Садово-Кудринской трудились разработчики – сам
Жуковский и двое его молодых племянников, Борис Стечкин и Александр Микулин.
Лебеденко осуществлял общий патронаж и «парил» в высоких сферах.
Заказ на изготовление деталей разместили на заводе в Хамовниках.
– Шпионов надо опасаться, – повторял Лебеденко. – У немцев повсюду свои шпионы.