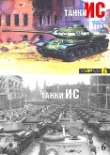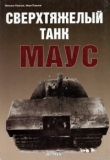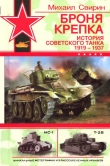Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
называемая независимость. Некоторые маленькие народы просто не в состоянии
самостоятельно решать свою судьбу. Но кто-то мутит воду, а хуже всего – сотрудничает
не только с Советами, но и со смутьянами во Франции. Недавно прошли слухи о том, что
кое-кто из них состоит во Французской коммунистической партии...
– Это логично, – брякнул Буатель.
На него устремились все взгляды.
– Простите, лейтенант, что вы имеете в виду? – осведомился Кувервилль.
– То, что они состоят именно во Французской компартии, – объяснил Буатель. – Они
ведь считают себя подданными Франции.
«Вывернулся», – прошептал Баррьери на ухо Кувервиллю.
Кувервилль уезжал в Париж. Он выходил в отставку. Происходили кадровые подвижки:
Буатель занимал место командира взвода и переходил в Сайгон, а Баррьери со своими
танками направлялся в Шанхай – охранять тамошнюю французскую миссию. Как и было
сказано, кое-то активно мутил воду в Индокитае.
14 июля 1936 года, Сайгон
«Правду говорил Кувервилль – не война, так начальство», – думал капитан Буатель.
Виски его поседели, сам он отяжелел, приобрел типичные повадки старого колониального
офицера.
Временами он мечтал об отставке, о домике под Парижем...
В эти приятные мысли вторглась такая неприятность, как генеральный инспектор
колониальных войск – генерал Биллоте. Решено было совместить приятное с полезным
(как выразился Биллоте) – устроить смотр танкам «Рено» на параде в честь дня взятия
Бастилии.
Биллоте только что прибыл из Тонкина. Те два «Рено», что еще оставались в Ханое, были
признаны металлоломом и списаны. Теперь наступала очередь танков Буателя.
Капитан Буатель не обольщался: слишком давно он не проверял готовность своих машин.
Зачем? Нет никакой надобности в этой бессмысленной работе. У двух, это он знал,
исправны пушки. В случае народных волнений можно будет воспользоваться старой
тактикой Бонапарта и открыть огонь по толпе. А пока...
Он вздохнул, закурил сигару. День взятия Бастилии! Революционный праздник – в
стране, где малейший намек на революцию жестоко подавляется. Какая ирония...
Очевидно, танки «Рено» держались того же мнения, что и их старый командир. Во время
торжественного парада они еле ползли по площади. У генерала Биллоте яростно дрожала
рука, которой он упорно продолжал отдавать честь.
После парада генерал учинил настоящий разгром. Буатель слушал начальственные крики
и думал о чем-то своем...
Конец 1939 года, Сайгон
До колоний медленно доходят приказы из метрополии. А исполняются – и того дольше.

После генерального смотра прошло почти три года прежде, чем были приняты какие-то
меры относительно танков «Рено».
Всего по Индокитаю их набралось двадцать – более-менее исправных. Преимущественно
исправными на них оставались пушки. С
ходовой частью просто беда... Да кому она, в сущности, нужна – по большинству
здешних дорог и особенно мостов такие танки не проедут.
– Вам придаются бронеавтомобили, – сообщил штабной офицер, протягивая Буателю
бумаги. – А также моторизированный пехотный взвод.
Буатель просмотрел бумаги. Это уже кое-что.
– Да, и еще один приказ, пришел только вчера, – спохватился штабной (на него тоже
расслабляющее действовал воздух колонии). – Это касается вспомогательного крейсера
«Арамис».
– Крейсер? – Буатель моргнул. – В штабе ничего не перепутали? До сих пор мне
казалось, что мы находимся на суше. Впрочем, я ведь могу и ошибаться
– Отнюдь нет! – Штабной чуть улыбнулся. – Вспомогательный крейсер «Арамис»
возвращается к гражданской службе. Соответственно, он должен быть разоружен. С него
снимается броня. Эта броня направляется в Сайгон для дополнительного укрепления
танков «Рено FT-17». К работам приказано приступать сразу же по прибытии материалов.
9 декабря 1941 года, Сайгон
В офицерском клубе было шумно. Говорили не стесняясь, высказывались откровенно.
Молодых офицеров не смущало даже присутствие старого капитана Буателя.
– Фактически мы предоставили японским военным право оккупировать Индокитай! —
горячился молоденький лейтенантик.
– А что нам оставалось? – резонно возражал офицер постарше. – Не забывайте, мы
ведь проиграли войну немцам – там, в Европе. Следовательно, наши позиции здесь
сделались весьма шаткими. Японцы в любом случае протянули бы свои жадные лапы к
Индокитаю. Лучше уж заключить с ними сделку.
– Если вспомнить, что мы продали им «Рено» еще в двадцать седьмом, – вздохнул
Буатель. О чем бы ни шла речь, его мысли возвращались к любимому танку. – Они
назвали его «Оцу», модернизировали. Вообще, насколько я помню, тот тип «Рено», что
заполучили японцы, отличался от базового варианта – главным образом более мощным
двигателем. Он и более маневренный, чем наш. Японцы потом поставили на него еще
более мощный дизель и оснастили пушкой в 57 миллиметров... «Оцу» неплохо себя
показали в Манчжурии в начале тридцатых...
– Ну, завел старик шарманку, – прошептал один из новичков.
– Он обожает свой танк, – пояснил более опытный служака. – Эта ржавая
драндулетина, по его словам, еще покажет себя в бою.
– Да какой может быть бой, если мы сдались союзнику Германии и превратили нашу
колонию в военный плацдарм и сырьевой придаток Японии! – горячился молодой
офицер.
– Тише, господа, – подал голос Буатель. – Так было нужно. А рассуждать – не наше
дело.
9 марта 1945 года, Сайгон
– Вы арестованы.
С Буателя сорвали одеяло. Он протер глаза. В комнате стояли двое японских солдат,
прямо перед ним находился какой-то японский нижний чин.
– Что происходит?

– О, ничего особенного, – тонко улыбнулся нижний чин. Он сносно говорил по-
французски. – Нам стало известно, что де Голль завоевал независимость своей родины,
но отнюдь не намерен давать независимость Индокитаю. Напротив, он готов послать сюда
вооруженные силы, чтобы обеспечить французское военное присутствие здесь. Нас это не
устраивает. Нам нужны войска Франции во Вьетнаме. Могу вас утешить, господин
Буатель, – прибавил он, – в эту самую минуту аресты производятся одновременно по
всем французским гарнизонам. Поторопитесь, потому что скоро мы все здесь подожжем.
– А что будет с моими офицерами?
– Всех интернируют, – сообщил японец. – Кроме особо злостных. Тех расстреляют.
Буатель не стал спрашивать о собственной судьбе. Его больше интересовала грядущая
судьба его танков.
20 декабря 1946 года, Шанхай
– Мсье, газету?
Буатель находился в Шанхае. После нескольких месяцев в японской тюрьме, о которых
лучше не вспоминать, он все-таки вырвался – помогли старые дипломатические связи и,
как ни странно, сентиментальные воспоминания генерала Биллоте, имевшего полезные
знакомства.
В Шанхае Буатель залечивал физические и душевные раны.
– Газета? Гм. Вряд ли она поможет обрести истинно дзенское спокойствие, – пробурчал
Буатель, всовывая в смуглую руку газетчика монетку. Он с хрустом развернул лист и...
Да. Лучше было и впрямь этого не читать.
Французы, естественно, без боя не сдались. После акции японцев в события неожиданно
вмешалась третья сила – местное население. Националисты Вьетнама подняли мятеж. И,
как ни странно, побеждали, медленно, но уверенно.
Руководил ими тот самый член Французской компартии, теперь он носил китайское имя
Хо Ши Мин. Как его звали на самом деле – Буатель не знал. Да и не интересовался.
Французское командование пыталось установить контроль над Ханоем. Мятежники-
вьетнамцы засели во дворце Бакбофу. Начался штурм.
В действие были введены танки и бронемашины – старый взвод Буателя! Снаряды
«Рено» разрушили ограду дворца. Солдаты моторизированной пехоты бросились на
штурм.
Потери были огромны: более сотни убитых французов. Сколько при этом погибло
вьетнамцев – никто не считал. Автор заметки писал – «все защитники дворца». Без
числа.
Буатель смял газету.
Он чувствовал странное, необъяснимое волнение. Его танки! Столько лет ржавели они в
этом невыносимом климате, столько лет безмолвно грозили своими пушками возможным
нарушителям спокойствия. И вот наконец настал их час. Построенные еще в годы Первой
мировой войны, простоявшие без дела всю Вторую мировую – они наконец-то открыли
огонь.
Это был последний бой «Рено FT-17» принадлежащих Французской республике.
Весна 1955 года, Париж
Жан Буатель сидел за столиком парижского кафе. Цвели каштаны. Он пил кофе. Мир за
окном казался ему нарисованным на картинке.
За соседним столиком он увидел человека, в котором безошибочно признал кохинхинца.
Хотя тот был в безупречно пошитом костюме, холеный, ухоженный – уже не молодой,
полный чувства собственного достоинства, что свойственно лишь очень образованным
людям.
– Разрешите? – Повинуясь инстинкту, Буатель пересел за столик вьетнамца.
– С кем имею удовольствие разделить это прекрасное утро? – спросил вьетнамец.
– Меня зовут капитан Жан Буатель, я много лет командовал танками, размещенными в
Сайгоне, – представился старый вояка.
– Дао Бай, – слегка прикрыл веки вьетнамец. Это заменило у него вежливый поклон. —
Последний император, отрекшийся, как вам известно, от власти и низложенный
референдумом.
– О! – вырвалось у Буателя. – Ваше велич... Господин Дао Бай! Вы так и будете жить в
Париже как частное лицо?
Дао Бай отчетливо произнес:
– Я предпочитаю быть простым гражданином свободной страны, нежели править как
император страной порабощенной.
Не допив кофе, Буатель распрощался со своим знатным собеседником и вышел.
Был Париж, была весна, цвели каштаны...

31. Патриоты Испании: танковая школа в
бою
Начало октября 1936 года, окрестности Картахены
В порту разгружали оружие для Республики: полсотни танков «Т-26», запасные части и
боеприпасы, горючее, автомобили «ЗИС-5». За работой следили командиры отряда —
полковник Кривошеин и его заместитель, капитан Поль Арман.
Работы шли быстро, и скоро уже танки и автомобили мчались по кремнистой дороге на
базу – в небольшой городок Арчена.
– Что же это, мы сюда воевать прибыли, а нас в школу отправляют? – сердился танкист
Анатолий Новак.
Этот молодой офицер выглядел «настоящим киноартистом» – вьющиеся белокурые
волосы, модная внешность героического красавца. Поэтому часто хмурился, рвался в бой:
«доказать».
– Все-таки не учениками, а преподавателями, – попытался утихомирить его Арман.
И уже куда более сурово прибавил:
– Мы должны делать то, что нужно для победы. Испанской республике не победить без
собственных кадров танкистов!

Декабрь 1936 года, Арчена
– Слушай, Новак, – обратился к лейтенанту его товарищ, Петр Сухов. – Ты не замечал
за нашим начальником кое-каких странностей?
– За Арманом? – не понял Новак.
С Полем Арманом, латышом по происхождению, французским коммунистом,
интернационалистом, Новак был знаком уже много лет, служил под его началом. У
Армана имелись, конечно, и странности – как у всякого человека сложной судьбы, но
ничего такого, что стоило бы обсуждать шепотом.
– Да нет же, я про здешнего, про полковника Санчеса Паредеса! – пояснил Сухов.
Санчес Паредес был начальником учебной базы. Как все героические испанцы на
руководящем посту, он именовался полковником.
– Я уважаю Паредеса, – сказал Новак. – Не всякий капиталист добровольно отдаст
трудовому народу свои оливковые плантации и собственный завод.
– Это не его собственный завод, а народный, – нахмурился Сухов.
– Ну вот он это и осознал, – сказал Новак. – И в этом как раз нет ничего странного.
– Идем, покажу.
Полковник Парадес сидел один в комнате, где горела единственная свеча.
– Что он свечу-то зажег? – удивился Новак. – Лампа же есть.
– Тише. Он духов вызывает.
Полковник действительно водил руками над столом и подолгу прислушивался, склонив
голову набок.
– Тьфу ты! – в сердцах плюнул Сухов. – Как бабка старая. И кто бы мог подумать?
– Паредес – он настоящий военный. И учебной базой руководит как надо, – строго
произнес Новак. – Вот на этом и следует сосредоточиться. А что духов вызывает...
Ничего, рано или поздно осознает ошибку. Я тебе так скажу: если бы с помощью этих
самых духов можно было преодолеть проклятый языковой барьер – я бы их не
задумываясь взял к нам на работу.
Языковой барьер очень мешал в обучении. Переводчики имелись, но они путались в
военной терминологии. Приходилось прибегать к жестикуляции и всяким междометиям.
Выручало только острое желание одних – научить, других – научиться.
И если бы не анархисты...
– Хуан, почему вышел из строя? А ну, на место! – на языке, понятном любому
военному, командует, бывало, Сухов.
А Хуан в ответ:
– А зачем мне, камарада лейтенант, ходить строем? Я и так буду фашистов бить!
В самых трудных случаях звали Армана. Он хорошо говорил по-французски и умел
донести свою мысль до любого Хуана, будь тот хоть трижды анархистом.
15 октября 1936 года, Арчена
Лейтенант Петр Сухов растерянно смотрел в окно.
Производился второй набор в танковую школу.
Во дворе клубилась огромная, причудливо разодетая, шумная толпа.
– Откуда они взялись? Их никто не приглашал, – изумился Сухов. – Вон, сколько
наперло...

– Откуда? – Комбат взъерошил волосы. – Ты что, не знаешь, как действуют
анархисты? Это в Советском Союзе их уже не
осталось, превратились, так сказать, в пыль истории. А в Испании анархисты – сильная
партия. Беда, что никакого дела-то они и не делают! Только шумят да мешаются.
Сухов подавленно молчал. Хоть они в Испании недолго, а с анархистами сталкиваться
уже приходилось. То они пытались отобрать оружие у своих же товарищей, так что чуть
ли не с пистолетом от них отмахивались. То брались за самые опасные задания, а потом,
никому ничего не сказав, попросту отходили в неизвестном направлении.
– Танки им доверять ни в коем случае нельзя, – высказался наконец Сухов.
– Сам знаю, что нельзя, – отозвался комбат, – да как поступить-то? Прямо им отказать:
мол, нет, дорогие товарищи, мы анархистам не доверяем?
– А вот взять и отказать! – обрадовался Сухов. – Зачем нам играть в политику? Мы
сюда сражаться приехали, а не с их многопартийностью разбираться.
– Нет, Петро, не годится, – покачал головой комбат. – Скандал выйдет. А еще, чего
доброго, мятеж поднимут.
– Может, все-таки принять двух-трех анархистов? – предложил Сухов. – Которые
помоложе. Так, для формы.
– Зачем это? К нам компартия лучших людей посылает, а мы их анархистами разбавлять
будем?
Сухов пожал плечами:
– Другие предложения?
– Вот тебе другое предложение, – хитро прищурился комбат.
...Сухов даже ахнул:
– Да я не умею!
– Ничего, справишься. Возьми у фельдшера справочник. Вид у тебя интеллигентный, так
что действуй. И белый халат надень, а то за доктора не примут.
– Запускайте кандидатов! – распорядился «доктор» Петр Сухов. – А вы, товарищ
комбат, давайте мне знать, который из новичков анархист. Покашляйте там. Чтобы я
лишнего кого не выставил.
И началась «работа»:
– Ростом не вышел, не годится.
– Слишком ты, брат, толстый, в танк не поместишься.
– У тебя хроническая болезнь, – говорил иному «доктор» и, заглядывая в справочник,
прочитывал какое-нибудь мудреное название. – Помрешь посреди боя, подведешь
товарищей.
Получая справки о несуществующих болезнях, анархисты продолжали шуметь во дворе.
К ним вышел Арман.
– Все, товарищи, расходитесь. По медицинским показаниям вы не подходите. Будете
сражаться за свободу Испании как простые смертные – пешком, с ружьем или автоматом
в руке.
26 октября 1936 года, Арчена
– Товарищи, час настал, – говорил Поль Арман, обращаясь к недоучившимся
«студентам» танковой школы. – Мадрид просит о помощи. Товарищ Сталин и Советское
правительство выслало Испании партию танков и самолетов, но для них нужно время —
недели две. Этого времени у Мадрида нет. А наши танки – на ходу. Правда, обучение
еще не закончилось, но – доучимся в бою. Завтра выступаем. В боевых действиях будет
принимать участие танковая рота из пятнадцати машин. Командирами взводов и танков,
механиками-водителями назначаются советские добровольцы. Командирами башен —
испанские товарищи.
29 октября 1936 года, окрестности Мадрида
Поль Арман с трудом скрывал гнев.
Никаких разведданных! Вообще никаких. Что творится под Мадридом? Предполагается,
что противник занял Ильескас, Борокс, возможно – Сесенью, но откуда это известно?
Что значит – «говорят, у фашистов шесть орудий и какое-то количество танков»? Что
скрывается под обозначением «какое-то количество» и какие «танки» имеются в виду —
«ансальдо» или что-то посерьезнее?
Хуже того. Где находятся союзные части – тоже оставалось покрыто мраком
неизвестности.
Хладнокровный латыш хладнокровно скрежетал зубами. Решение следовало принимать
быстро.
– Лейтенант Сухов, ты с тремя танками идешь в сторону Сесеньи на разведку, —
приказал он. – Я пойду за тобой по шоссе. Выясни, что творится в городе.
Сухов развернул «Т-26» в сторону Сесеньи. Но не успела осесть пыль, поднятая тремя
танками разведки, как пришло донесение от испанцев:
«Сесенья противником не занята. При входе на западную окраину дайте белую ракету,
чтобы мы не поражали вас артиллерийским огнем».
Двенадцать оставшихся «Т-26» в походной колонне с открытыми люками приблизились к
Сесенье около восьми утра. На дороге Арман увидел орудие, возле которого возился
расчет и стояли два офицера. Немного левее находилась группа солдат человек в двести.
– Салют! – громко крикнул Арман и поднял сжатую в кулак руку в республиканском
приветствии.
В лязге и грохоте гусениц офицеры его не расслышали.
Арман подъехал на танке вплотную и закричал по-французски:
– Уберите орудие – дайте пройти танкам!
Офицеры не поняли французской речи. Ответили что-то по-испански.
В этот момент к танку приблизился третий офицер – подполковник. Он произнес
несколько слов, и вдруг Арман понял: это – фашисты.
Ничем не выдав своих чувств, Поль Арман продолжал непринужденно болтать с
полковником. Обсуждал обстановку под Мадридом, бранил русских. Тем временем танки,
которые шли за Арманом, успели подойти вплотную.
«Фашисты в Сесенье!» – понял Арман.
Он увидел, как со стороны городка на шоссе выходят марокканцы – страшная в своей
ярости и жестокости конница, самое действенное, как ни странно это прозвучит,
соединение фашистской армии.
Продолжая беседу с полковником, Арман подтолкнул своего механика-водителя и по-
русски закричал:
– Дави!
Захлопнулся люк, взревел мотор – в тот же миг танк подмял и полковника, и орудие с
расчетом. Грянула танковая пушка.
– К бою!
Со стороны Сесеньи загремели танки Сухова. Кони ржали, вздымались на дыбы,
сбрасывали всадников. По разбегавшимся мятежникам «Т-26» открыли огонь.
Фашисты быстро оправились. Один из снарядов поджег танк Армана. Пылая, «Т-26»
продолжал двигаться на артиллерийскую батарею.
– Огонь!
Батарея была уничтожена.
– Впереди «ансальдо»!
На подступах к Сесенье завязывается новый бой. Но где неуклюжим итальянским
«черепашкам» тягаться с «Т-26»! Перестрелка идет на горной дороге, и вот уже один
«итальянец» вертится на месте с перебитой гусеницей. Второй, однако, продолжает
атаковать.
И тут командир второго танка, лейтенант Осадчий, направляет свою машину прямо на
противника. Вплотную сходятся два танка, и Осадчий всей тяжестью «Т-26» ударяет
«итальянца» в бок. «Ансальдо» еще упирается... и валится в ущелье.
Это был первый танковый таран, примененный в тех боях.
Сесенья встретила «неприветливо» – в советские танки полетели бутылки с
зажигательной смесью. Кидал кто-то прямо с балкона одного из домов. От удара о танк
бутыль разбивается, горящая струя льется сквозь щели люка внутрь машины. Вот-вот
огонь доберется до снарядных гнезд. Арман и его товарищи сбивают огонь... Обошлось.
Арман смотрит на своих бойцов: у одного обожжена спина, у другого – рука. Губы
растрескались, лица покрыты сажей.
– Где тавот, вазелин? Бинты хоть взяли?
Бинтов нет, приходится рвать рубаху.
– Вот что, – Арман принимает решение, – я перехожу на другой танк, а вы, ребята,
ложитесь на дно, вас вывезут к своим. Выходите из боя.
И тут он с удивлением увидел, как по лицам бойцов потекли самые настоящие слезы.
– Вот как, товарищ командир? Не доверяете нам? Плохо мы дрались? На себя
посмотрите – черный, как негр, но из боя не выходите, а нас хотите пассажирами...
Арман поневоле прикусил губу. Недооценил ребят, счел их слишком молодыми. А откуда
он взял, что они слабее?
– Простите меня, товарищи, – искренне сказал Поль Арман.
Сесенья перешла в руки республиканцев. Битва за Мадрид продолжалась.

32. Смертоносный призрак
Берлин, Германский генеральный штаб, разведывательный отдел, лето 1916 года
Полковник Николаи разгладил лист и отложил перо. Уже в десятый раз он собирался
писать доклад, но никак не мог подобрать слова.
Разведка доносила: в Великобритании ведутся работы над каким-то совершенно новым
типом оружия. Фотографий раздобыть никак не удавалось. Определенно выяснили одно
– это приспособление для разрезания колючей проволоки.
Собственными глазами агент ничего не видел. Судя по его описанию, англичане
соорудили какого-то «механического кролика», перегрызающего проволоку неким
таинственным способом...
Полковник представил себе, как в штабе читают про «английского кролика». Героические
лики германских военных «львов» явственно встали в его воображении.
Николаи смял листок и бросил его в корзину. Писать подобные вещи он просто не
решился.
С другой стороны, на фронте явно возрастает активность. Перехваченные сообщения
говорили о том, что англичане перебрасывают к Сомме резервуары... Резервуары с чем?
Резервуары для чего? Что, собственно, означает слово «tank»?
Между тем новое командование германской армии – переведенные с Восточного фронта
фельдмаршал Гинденбург и его начальник штаба генерал Людендорф, – живо
интересовалось этой темой.
Назначение Гинденбурга и Людендорфа, этих двух титанов, должно перевернуть ход
войны, считали в Германии. В Англии же полагали иначе.
Пожевывая сигару и поглаживая мопса, Уинстон Черчилль заметил:
– Гинденбург и Людендорф? HL? Что ж, господа, у них «Айч-эль», а у нас – Черчилль...
Вот и посмотрим, кто кого.
Шутку сочли тонкой, изящной и истинно-английской. В Германии, впрочем, ее не
оценили.
15 сентября 1916 года, Франция, берег реки Сомма
Командующий английскими войсками сэр Дуглас Хейг молча наблюдал за атакой.
Бинокль в его руке, обтянутой перчаткой из хорошей лайки, подрагивал. Только по этому
признаку и можно было догадаться, что сдержанный, всегда немногословный Хейг
волнуется.
На рассвете к передовой прибыла новинка английской армии – тридцать два танка Mk.1.
То самое «чудо-оружие», о котором так долго и таинственно говорили в высших
армейских эшелонах. Порождение позиционной войны, предназначенное для того, чтобы
сминать оборонительные линии противника и прокладывать дорогу пехоте.
Немцы явно не ожидали ничего подобного. Гигантские бронированные машины внезапно
возникли перед солдатами противника. Они легко разрывали проволочные заграждения,
проходили окопы и непрерывно вели огонь из пушек и пулеметов.
– Они едут без колес! – раздался панический вопль немецкого унтер-офицера.
Монстры казались неуязвимыми...
– Полный успех, сэр! – доложил командующий танковым корпусом.
Хейг опустил бинокль. Его холодные серые глаза окидывали взглядом равнину.
– Я насчитал восемнадцать машин, – негромко произнес он. – Где остальные?
– На позиции вернулись не все, сэр, – подтвердил щеголеватый офицер для особых
поручений. Его держали наготове, в основном (как он подозревал) для неприятных
докладов.
– Это я вижу, – ледяным тоном произнес Хейг. – Уточните.
– Остальные остались на поле боя, сэр, в основном из-за поломок. Некоторые застряли в
грязи, сэр, – упавшим голосом доложил молодой офицер.
– Сто лет назад Наполеона в России победил Генерал Мороз, – медленно проговорил
Хейг. – Не хватало еще, чтобы английскую армию победил Генерал Грязь!
Он сел в автомобиль, вернулся в штаб и немедленно написал доклад в военное ведомство.
«Применение нового вида оружия, – выстукивала печатная машинка, – позволило
сократить потери по крайней мере в двадцать раз». Доклад заканчивался требованием как
можно скорее разместить на заводах заказ на тысячу танков.
День 15 сентября 1916 года вошел в историю как «дебют танка на войне».

Октябрь 1916 года, Берлин
– Очевидно, мы недооценивали англичан, – произнес Людендорф.
Гинденбург величественно тряхнул головой:
– Любое новшество поначалу вызывает панику, но потом приходит осознание – как
именно надлежит с ним бороться. Я твердо уверен в том, что германский военный гений
найдет способ победить эти «резервуары».
– Если два десятка tank'ов причинили такой вред, то каков будет ущерб от сотни, тысячи
подобных машин?
– Мы должны любой ценой добыть о них как можно больше сведений, – произнес
Гинденбург. – Я уже подчеркивал необходимость этого и буду настаивать вновь. Нас
должны интересовать не только технические, но и стратегические особенности данного
оружия, перспективы его использования на поле боя. Следует ли германской армии идти
по стопам своего вековечного противника – или же мы обойдемся тем, что всегда под
рукой у германского солдата, – его непобедимым, несокрушимым германским духом?
Сентябрь 1917 года, Ипр
– Что происходит, сэр? – обратился Дуглас Хейг к начальнику штаба танкового корпуса
Фуллеру. – Я не вижу второй Соммы!
Фуллер снял очки, протер их мягкой замшей. Он явно тянул время. Наконец он ответил:
– Мы располагаем двумя сотнями танков, сэр. Все они сейчас ведут бой. Однако для
немцев наше оружие больше не является неожиданностью. Они применяют против танков
свою артиллерию.
– Насколько успешно? – резко спросил Хейг.
– Достаточно успешно, сэр, – признал Фуллер. – Танки еще не совершенны, им не
хватает маневренности и... Самое ужасное, сэр, – это грязь! Машины застревают и не
могут использовать все свои преимущества.
– Генерал Грязь! – заскрежетал зубами Хейг.
Ему предстояли неприятные часы в министерстве.
И точно: почти сразу же пришло уведомление о том, что «наверху» недовольны «чудо-
оружием». Оно явно не оправдывает ожиданий. «Заказ на тысячу машин отозван, —
мрачно читал Хейг. – Вам будет предоставлено еще триста машин. На этом всѐ.
Массовое применение танков признано неэффективным».
Хейг поделился информацией с Фуллером, и тот буквально взорвался от ярости:
– Умеют у нас валить с больной головы на здоровую! Командование само отправило
танки в непролазную грязь. Вместо того, чтобы применить массированный удар, разбило
корпус на небольшие группы. Конечно, из нашей атаки ничего не вышло.
– Ваши предложения? – спросил Хейг.
Фуллер нервно поправил очки.
– Я считаю, что самый подходящий район для танковой атаки, – это Кабрэ. Равнина с
твердым грунтом. Холмы пологие, удобные для тяжелых машин. «Линия Зигфрида» —
шесть полос немецких укреплений – будет прорвана, ручаюсь. Мы должны получить еще
один шанс доказать эффективность нашего оружия.
– Согласен, – после короткой паузы бросил Хейг.
И снова начала стучать пишущая машинка.

Германия, генеральный штаб, октябрь 1917 года
– Мой генерал! – На пороге кабинета Людендорфа стоял навытяжку капитан Адольф
Нойманн, один из самых перспективных работников германской разведки. Людендорф
испытывал невольную симпатию к этому белокурому молодому человеку, не жалевшему
сил для победы Германии.
– Входите, Адольф, – отечески кивнул Людендорф. – Что у вас?
Голос Адольфа Нойманна дрожал от возбуждения:
– Перехвачена докладная записка английского военного министерства правительству
Англии, мой генерал. Это касается машин марки Mk.1 – так называемых «резервуаров»,
или «танков». Того, что у нас теперь принято называть Panzerkraftwagen.
Людендорф нервно дернул щекой.
– Больно даже представлять себе те потери, которые мы понесли из-за этого
чудовищного оружия.
– Больше никаких потерь из-за него не будет, мой генерал, – сообщил Нойманн. – Вы
поймете все, когда ознакомитесь с этим документом. После Ипра английские военные
сочли применение «танков» крайне неэффективным. Они сильно сократили
первоначальный заказ на изготовление этих машин. Документ подлинный, это
подтверждается другими данными.
– А также данными нашей войсковой разведки, – прибавил Людендорф. – Мы видели,
что «чудо-машины» вовсе не неуязвимы. Десятки их застряли перед германскими
окопами, десятки их были подбиты из самых обычных полевых пушек. Да, все так, и всѐ
же... Как вам удалось раздобыть этот документ?
– Обо всем можно прочесть в подробном рапорте полковника Николаи, – ответил
Нойманн. – Но я могу ответить коротко: кража со взломом. Я нанял профессионального
взломщика, и мы украли оригинал доклада прямо из лондонского дома помощника
начальника Генерального штаба. Пришлось оглушить и связать прислугу... Впрочем, это
второстепенные детали.
– Здесь также имеются фотографии, – с удовлетворением произнес Людендорф. Он
принялся рассматривать неуклюжие с виду, тяжелые машины. Затем покачал головой. —
Глупо тратить столько ресурсов на такую бесполезную вещь, – заключил он.
В эти мгновения он не видел лица своего собеседника, а напрасно! Английский разведчик
Ньюмен (вовсе не Нойманн!), проникший в самое сердце германского генерального
штаба, не мог удержаться от улыбки. Дезинформировать противника, подсунув ему
подлинный документ!..
Было еще кое-что, чего Людендорф не знал и не мог знать: английское командование все-
таки прислушалось к рекомендациям Фуллера и следующую танковую атаку наметило на
равнину Камбрэ. Что касается собственно танков – то заказ на их изготовление успели
выполнить почти целиком прежде, чем приказ о его отмене достиг цели.
Конец ноября 1917 года, равнина Камбрэ
– Мы должны действовать скрытно, – Хейг развернул карту и склонился над ней. —
Информация, господа, такое же оружие на войне, как и пушки. Предлагаю организовать
фальшивый штаб вот здесь, – он указал на Авринкур, – и создать иллюзию бурной
военной деятельности. Это в шестидесяти километрах от реального места предполагаемой
атаки.
Несколько дней немцы наблюдали оживленную деятельность у Авринкура. Туда
доставлялись платформы с техникой, заезжали штабные автомобили.
В пять утра 20 ноября немцы буквально залили Авринкур огнем. А через полтора часа
двести английских танков подошли к передовой – совершенно в другом месте.
За танками двигалась пехота.
– Огонь! – неслышно за грохотом орудий кричали командиры, взмахивая рукой. Все
заволокло дымом, грязью, копотью. За этой завесой немцы не видели, что происходит.
Тяжелые бронированные «черепахи» наползали на немецкие окопы, давили солдат,
уничтожали заграждения. «Линия Зигфрида» была прорвана. Англичане продвинулись на
десять километров вглубь. Для позиционной войны – сногсшибательный успех.
Один только Людендорф, казалось, сохранял полное присутствие духа. Он был даже