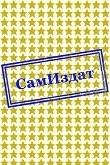Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
у нас, на Северо-Кавказском да Закавказском фронтах, почти сплошь танки иностранные.
Разве советские машины не лучше? Они и для климата нашего приспособленные.
– Здесь близко переправлять, – объяснил командир, гвардии капитан Шепельков. —
«Персидский коридор», слыхал? На политинформации-то ходишь? Союзники поставляют
грузы к нам через Иран. Чем через всю страну тащить, лучше уж на месте использовать.
Вот и сражаемся – на «Валентайнах», «Шерманах», «Тетрархах»...
– А откуда название такое – «Валентин»? – не унимался младший лейтенант. —
Товарищ политрук, кстати, не говорит, – быстро добавил он.
– Говорят, – сказал Шепельков, – есть у англичан такой праздник, день святого
Валентина. Вроде как день влюбленных. Если тебе, положим, Сидоркин, понравится
какая-нибудь девочка, ты ей в этот день преподнеси подарок, и готово дело.
– Стало быть, немцам подарки делать будем, – задумчиво произнес Сидоркин. – Из
пушки да пулеметов.

– Ну вот что вы глупости бойцам рассказываете, товарищ гвардии капитан! – к
разговаривающим подошел политрук, сухо
улыбнулся. – Где вы набрались этих «святых Валентинов»? Название танка – от
сокращенного названия фирмы-изготовителя, «Виккерс-Армстронг». Для краткости и
удобства обозначения.
– Писали бы просто «МК-3», – пробурчал Сидоркин.
– Ладно, хватит, – политрук вздохнул. – Все готово, товарищи? Завтра в бой.
29 сентября 1942 года, долина Алханчурт
«Если свою машину не любить, не понимать, не слышать ее, – думал капитан
Шепельков, – то и сражаться на ней невозможно».
Мотор у «Валентайна» тихий, надежный, но требует деликатного обхождения. Танк – не
учебное пособие, а поле боя – не класс, тут ошибок допускать нельзя. А учились «с
колес».
В первый же день, когда в бригаду прибыли «Валентайны», начали осваивать новые
танки. Бригада с самого начала комплектовалась очень разной техникой, вот и решено
было: использовать все таким образом, чтобы английская техника дополнялась советской
и наоборот.
– Если ты не умеешь с танком обращаться, еще не значит, что танк плохой, – говорил
своим бойцам Шепельков, а сам думал: главное – не сомневаться! Потому что
«Валентайн» поначалу лично у него вызывал крепкие сомнения.
Что будет с водой в системе охлаждения танков, когда начнутся морозы? «Англичанин»-
то деликатный!.. А гусеницы – не будут ли соскакивать или, того хуже, хлебать грязь?
Самое плохое, однако, – что нет в боекомплектах осколочно-фугасных снарядов для
пушек. С остальным еще можно разобраться.
Двигатель, сердце танка. Автомобильный двигатель. Чтобы сохранять тепло, придется
прикрывать радиаторы фанерой, брезентом, а то и шинелью. Человек потерпит, а
двигатель – нет.
А ведь впереди – зима...
И как уберечь «англичан» от мороза – непонятно. Но ответственность за технику – дело
великое, поэтому Шепельков принял решение: танк постоянно держать в горячем
состоянии. Не заведется на морозе – хуже будет. Правда, расход моторесурса
увеличится, а делать-то что? Потерять танк – еще хуже.
И опять же, снег, распутица. Придется приваривать к каждому траку гусеницы стальные
пластины. Ничего, машина маневренная, по большому счету – удобная. Приноровиться
только надо.
Вчера наконец пришла инструкция вместе с описанием танка. Перевели на русский язык,
размножили и разослали.
Механик-водитель зачитывал вслух, плакал настоящими слезами и требовал выдать ему
водки.
– Вы только это послушайте, товарищ командир! – Листок со строго отпечатанными
буквами в его руке подрагивал. – «Если после четырех-пяти попыток двигатель
английского танка завести не удалось, надо, при наличии приспособления для запуска с
помощью эфира, зарядить пистолет ампулой, нажать на рычаг прокола капсюля и
стартером завести двигатель»...
– Ну, и что тут непонятного? – строго вопросил товарищ гвардии капитан.
– А дальше? – механик-водитель горестно вздохнул. – «После заводки двигателя не
давать ему работать на оборотах выше 800 в минуту до момента, пока температура масла
не достигнет 80 градусов по Фаренгейту...» Это сколько, если говорить по-человечески?
– Я позвоню в штаб полка, – обещал командир. – В самом деле, безобразие. Таблиц до
сих пор нет.
– А давление, товарищ командир, должно быть 80 футов на квадратный дюйм, —
добавил помпотех.
– Ты хоть выучил, сколько это – дюйм, фут? – спросил его командир. – Мы ездим на
иностранной технике, тут нужна тонкость.
– «Движение танка можно начать только после полного прогрева двигателя и
обязательно с первой передачи во избежание повреждений», – донесся до них плачущий
голос водителя.
– Осваивай, и нечего сопли распускать, – строго сказал товарищ гвардии капитан. —
Комсомолец ты или нет?
...«Валентайн» Шепелькова уже занял свое место в строю.

В первом эшелоне шли танки КВ и «Матильда», во втором – Т-34, в третьем —
«Валентайны» и Т-70. Плечом к плечу, что не сумеет один – подхватит другой.
Все, вперед.
– Огонь! Огонь!
Слева и справа действовали «Валентайны» «соседей». Один вдруг перестал стрелять.
Шепельков, знавший танк лучше других, выругался: английское оружие требовательно к
смазке, а тут смазка, видать, загустела...
– Горит, товарищ гвардии капитан! Горит немец!
Шепельков увидел, что впереди пылает один из пяти танков противника.
Немцы стреляли. «Валентайн» лавировал среди выстрелов – спасибо английским
товарищам, действительно маневренная машина!
Вперед, только вперед. Где «соседи»? Справа никого, слева – гвардии старший лейтенант
на «Валентайне». Пехоту отсекли еще раньше.
– Беречь снаряды, без приказа не стрелять, – распорядился командир.
Вот что действительно хорошо – это связь. Все английские танки обеспечены
радиостанциями. И запросто можно говорить друг с другом. А заодно послушать, как орут
по-немецки враги. Успокаивает, как музыка, по выражению Сидоркина.
Шепельков раздавил немецкое противотанковое орудие, и тут его взору открылась
странная картина: на «Валентайне» лейтенанта Воронкова стояли... немецкие пехотинцы.
Они стучали прикладами по броне, вроде как – «пустите нас!»

– За своих приняли, – догадался Шепельков. – Машина-то иностранная, вот немцы и
купились! Ничего, голубчики, сейчас будет вам подарок ко дню святого Валентина!
Он подождал, пока к «Валентайну» подойдет побольше врагов, и открыл по ним огонь из
пулемета.
– Из дымовых гранатометов – огонь! – приказал командир.
Дымовая завеса затянула «Валентайны». Шепельков вдруг ощутил благодарность к своей
машине. Найдено, стало быть, взаимопонимание!..
46. Битва в грозу
2 июля 1939 года, левый берег реки Халхин-гол, 21.00
Полковник Тамада погрузился в глубокую задумчивость.
Невысокий, коренастый, медлительный, он командовал Четвертым танковым полком. На
начало операции это были 565 солдат и офицеров, тридцать пять легких танков Тип 95,
восемь средних танков Тип 89 и три танкетки Тип 94.
Сейчас ему предстояло решить, как действовать дальше.
Во второй половине дня 2 июля полк Тамады быстро продвигался к рубежу атаки.
Он сбился с пути. Следовало двигаться в южном направлении и прикрыть с левого фланга
Третий танковый полк Йошимару. Вместо этого танки Тамады взяли курс восточнее.

Сталь танковой брони делала бесполезными магнитные компасы. Ориентироваться по
местности не получалось: кругом тянулись сплошные одинаковые дюны.
Затем русские открыли огонь на правом фланге Тамады.
В половину восьмого пошел дождь. Левый берег, где находились орудия русских,
замолчал.
«Следует обойти дюны и вести наступление через равнину в юго-восточном
направлении», – решил Тамада.
По его приказу люди подожгли камыши. Теперь противотанковым орудиям негде
прятаться. Если русские что-то задумали, Тамада сразу это увидит.
– Уничтожайте пушки «Советов», бейте по их бронемашинам! – приказал Тамада.
Русские стреляли из пяти или шести орудий. К счастью, они вели огонь практически
вслепую, думал Тамада. Он приказал танкам остановиться.
– Разве мы не должны постоянно находиться в движении, чтобы противник не мог
поразить нас огнем? – вопросил майор Огата, правая рука и помощник полковника,
известный остряк и спорщик.
– Противник обнаружит нас в любом случае, – ответил Тамада, – но если мы будем
стоять и не производить шум, то, полагаю, это произойдет позднее.
С этими словами Тамада выглянул из башни и в бинокль принялся осматривать
местность. Надвигались сумерки, облака затягивали небо.
2 июля 1939 года, 21 час, северо-восточнее озера Ирингин
– Положение наше таково, – подытожил Тамада, – километрах в трех от нас к юго-
западу – три русских батареи на возвышенности. К югу в двух километрах – позиции
противника с неустановленным количеством личного состава.
– Ваши приказы? – осведомился Огата.
Тамада покачал головой.
– Плохо соображаю, – признал он. – Мы, северяне, люди медлительные. Нужно
подумать, чтобы не попасть впросак. У нас около сорока легких танков, а у русских —
огромное количество бронетехники и артиллерии. Мы запросто можем попасть под
перекрестный огонь.
– Так что же, – почти вскрикнул Огата, – будем ждать? А как же Йошимару? Мы ведь
должны были поддержать его!
– Зовите сюда командиров рот, – приказал Тамада. – Мне надоело, майор, спорить
исключительно с вами. Хочу посоветоваться со всеми моими офицерами.
Вокруг командирского танка собралось человек десять.
Тамада заговорил:
– Мы обнаружили, что грузовики и пехота «Советов» отходят. Я намерен преследовать
их. Артиллерия противника, как нам известно, располагается сейчас между нашими
подразделениями и перекрестком дорог. Поэтому первое, что следует сделать, – это
уничтожить артиллерийские позиции врага.
– А это соответствует уставу? – подал голос командир взвода Томиока.
– Инструкции штаба, – сказал Тамада, – говорят о необходимости «найти хорошую
возможность», но не дают конкретных указаний. Полагаю, мы имеем возможность
провести внезапную ночную атаку всеми имеющимися в полку танками.
Несколько человек переглянулись, затем все тот же молодой лейтенант сказал:
– Мы считаем идею ночного наступления нецелесообразной. Руководство по
эксплуатации наших танков запрещает проводить подобные операции ночью.
– Там сказано не так, – напомнил Тамада.
Но сбить лейтенанта ему не удалось. Он тоже хорошо знал устав:
– Там сказано, что использование танков ночью разрешено только во взаимодействии с
пехотой и только с участием не более одного танкового взвода.
– Сейчас возникли особые обстоятельства, – напирал Тамада. Чем больше с ним
спорили, тем больше хотелось ему провести эту атаку.
Другой командир вмешался в разговор:
– Нам ничего толком не известно о местоположении противника. Мы знаем лишь, что
артиллерия находится где-то там, – он махнул рукой, – просто потому, что оттуда
прилетают артиллерийские снаряды.
Майор Огата заговорил своим громким, хорошо знакомым каждому в полку голосом:

– Да, ночных учений с использованием танков никогда не проводилось. Да, ночные
операции по применению танков очень рискованны, хотя бы потому, что можно угодить в
канаву. Обычно предполагается, что если танки и продвигаются ночью, то лишь по
территории, отвоеванной днем, под охраной пехоты. Но мы должны учитывать одно:
генерал Ясуока поставил перед нами задачу – попасть на другой берег реки и смять там
русских. Что означает провал нашего наступления? Он означает неподчинение
командиру! Если мы будем бездействовать нынешней ночью, это наложит неизгладимое
пятно на наш полк. Потери неизбежны. Но эта ночная атака нам необходима – ради
сохранения нашей чести.
– А если она провалится? – спросил лейтенант.
Огата пожал плечами:
– Ответ очевиден – самоубийство.
2 июля 1939 года, 22 часа
– Я требую, – говорил Тамада, – от всех командиров рот полной солидарности,
единства и отчаянной решимости. Наш сосед, полковник Йошимару, ведет интенсивный
бой с противником. Если мы сейчас отойдем, то черное пятно ляжет на нашу честь. Если
же решительно проведем ночное наступление, то получим надежду прорвать оборону
«Советов». Поэтому с настоящего момента весь личный состав полка будет искать и
уничтожать противника, ведя стремительное наступление всеми силами и средствами.
Рискованно вести большую танковую часть в бой ночью, не зная местоположения
противника и особенно – местности. Но боевая задача требует этого.
– Сейчас мы зависим от воли судьбы, – прибавил Огата со спокойствием, достойным
эпического героя.
3 июля 1939 года, 22.30
Черные облака заволокли небо. Наступила ночь.
Солдатам раздали сигареты.
– На каждом танке следует установить японский флаг, – распоряжались командиры
взводов, – каждое подразделение будет вести наступление в строгом боевом порядке.
Огата отдавал последние приказы:
– «Режущее лезвие атаки» – средние танки четвертой роты. Они пойдут впереди всего
полка, развернувшись в ряд. Сразу за ними – штаб полка. Слева – первая рота, справа —
третья. Выдвигаться в походных колоннах. Вторая рота – полковой резерв, ей следует
двигаться рассредоточенной по фронту. Расстояние между подразделениями – тридцать
метров, между танками – шесть метров.
Он помолчал и добавил:
– Такой атаки не знала еще военная история!
Средние танки Тип 89 «режущего лезвия атаки» пошли вперед на минимальной скорости
– около пяти километров в час.
– Огонь не открывать! – приказал командир. – Противник должен открыть огонь
первым.
В тишине слышен был лишь лязг гусениц.
Облака затянули луну. Видимость оставалась не больше десяти метров.
На башне передового танка ехал майор Огата, не отрывающий глаз от бинокля.
– Верьте, друзья, у меня есть шестое чувство! – говорил он в странной эйфории.
Время от времени майор отдавал приказы, выравнивая строй по центральной машине —
той, на которой ехал он сам.
Установить надежную связь между подразделениями оказалось непросто. Командиры
взводов высовывались из люков и постоянно смотрели в бинокль.
То и дело вспыхивали молнии, озаряя местность. Радиосвязь в такой скученности
работала плохо, командиры предпочитали просто смотреть друг на друга.
3 июля 1939 года, 00 часов
В полночь майор Огата закричал:
– Следы! Что я говорил? Здесь прошли танки! Русские двинулись на юго-восток! Мы
идем в правильном направлении!
В темноте мелькнули какие-то тени. Русские?
Над танками грянул страшный гром, вспыхнули и разорвались сразу несколько молний,
хлынул ливень, и в яркой вспышке вдруг четко обрисовались позиции советских войск.
До сих пор командиры ехали с открытыми люками, чтобы смотреть из башен. Когда
небеса разверзлись, и хляби обрушились, несколько командиров не захотели забираться
обратно в танки и вести наблюдение сквозь узкие смотровые щели, а вместо этого надели
противогазы.
Рядом с танком лейтенанта Томиоки громыхнуло так отчаянно, что лейтенант решил
было, что молния поразила одну из машин. Однако ему лишь показалось.
– Чудо, – прошептал он, когда на миг в ярчайшей вспышке перед ним явились
советские войска. – Это похоже на знаменитую атаку Оды Нобунаги, когда он пошел в
бой во время сильного шторма.
Пример из истории шестнадцатого века подбодрил лейтенанта.
«Чудо», однако, работало на обе стороны: русские тоже увидели прямо перед собой
японские танки. Они открыли было огонь, но в условиях непосредственного
соприкосновения с противником артиллерия оказалась бесполезной: снаряды пролетали
выше цели.
Томиока сорвал противогаз и глубоко втянул ноздрями прохладный ночной воздух.
– В атаку! Вперед! – закричал он. – Огонь в горизонтальной плоскости!
И вынул пистолет.
Лейтенант намеревался стрелять во все, что хотя бы отдаленно напоминало солдат
Красной Армии.
Танки Томиоки вели огонь по каждой позиции противника, наезжали на артиллерийские
орудия, взрывали боеприпасы.
Томиока, мокрый насквозь, оставил люки танков открытыми – чтобы лучше видеть
обстановку.
«Странные они, эти русские, – думал он. – Ни одной попытки провести короткие
контратаки против наших танков. Японцы без колебаний использовали бы
противотанковые отряды смертников...»
На левом фланге легкие танки Тамады смяли пехоту противника и глубоко проникли на
позиции советских войск.
Танк лейтенанта Ито был подбит – снаряд попал в отсек с боеприпасами. Полыхнуло
желтое пламя, и лейтенант упал – у него обгорели руки и лицо. Он очнулся от того, что
водитель вытаскивает его из танка. Ито рухнул на землю и снова отключился.
– Лейтенант! – Это был пулеметчик, тоже раненый. – Нужно уходить! Наш танк горит,
русские его видят и прицеливаются.
Ито повернул голову и обнаружил, что почти ослеп. Опираясь на руку пулеметчика, он
побрел сквозь ночь в поисках своих.
...Полковник Тамада вдруг обнаружил, что остался один со своим штабом. Где танки? Где
противник? Молния больше не освещала поле боя. Вдали громыхало, но где?
«Это была моя идея – ночная атака, – думал Тамада. – И в результате я потерял целый
полк».
– Огата, – произнес полковник, – что ты сейчас скажешь обо всем этом?..
Огата похолодел. Он узнал цитату.
Некогда один герой обратил эти слова к своему другу в сходной ситуации. Смертельно
раненный в живот, он таким образом просил отрубить ему голову.
Огата как истинный самурай понял: полковник Тамада размышляет сейчас о
самоубийстве. И дал понять это очень изящно, процитировав художественное
произведение.
– Сначала мы должны установить, что произошло, – сохраняя хладнокровие, ответил
Огата.
Он взял большой флаг Японии и поднял его на шесте. У Огаты мало было надежды на то,
что таким простым способом он соберет танки.
Но у него получилось. Полковник Тамада воспрял духом, а через несколько часов пришла
информация: боевые действия в целом ведутся успешно.
Постепенно уцелевшие танки Четвертого полка собирались вокруг своего командира.
Третьему полку повезло меньше: полковник Йошимару был убит.
Но тогда Тамада еще не знал об этом. Со своими танками он неуклонно продвигался к
реке Халхин-гол.
– Слышу лязг гусениц, – сообщил Огата.
Скоро появился средний танк с японским флагом, различимым в рассветных сумерках.
– Здесь лейтенант Ито, он сильно ранен, – доложил сержант.
Слабым голосом Ито произнес:
– Я прошу прощения за потерю танка. Ранен также мой механик-водитель и за это я тоже
прошу прощения.
– Ты молодец, мой мальчик, ты герой, – отечески отозвался Тамада. – Я благодарен
тебе за хорошую работу.
(...Танк лейтенанта Ито потом появился в газете. Красноармейцы весело позировали на
фоне своего трофея. Тамаду, как и лейтенанта Ито, очень обеспокоил данный факт: ведь

экипаж обязан разделить судьбу своего танка. Следует ли все-таки совершить
самоубийство? И если да, то кому – лейтенанту Ито или полковнику, его командиру?
Тамада так и не пришел к какому-либо определенному выводу).
3 июля 1939 года, 5 часов утра, район юго-западнее пруда Юзуру
Измученные люди дремали в своих танках.
Четвертый полк Тамады остановился после тяжелого боя.
Полковник отправил майора Огату с поручением:
– Вы должны разыскать командный пункт Ясуоки, изучить сложившуюся обстановку,
доложить о нашей ночной атаке и узнать, каковы наши задачи.
После этого он растянулся на земле и мгновенно заснул.
Риск ночной атаки оказался оправдан. Теперь можно было передохнуть.

47. Родная Эмча
5 сентября 1941 года, Вашингтон
Комитет вооружений Конгресса США остался удовлетворен новым танком.
Машину обозначали просто – «средний танк М4»: со сварным корпусом – М4 и всѐ, а с
литым – М4А1.
Все эти тонкости поглотило общеармейское наименование – «Генерал Шерман», которое
англичане сократили просто до «Шермана», а русские низвели до «шарманки» —
впрочем, ненадолго: чем-чем, а «шарманкой» эта машина не являлась...
17 ноября 1942 года, Северо-Кавказский фронт, расположение 5-й гвардейской танковой
бригады
– Товарищ командир, «американцев» привезли!
Новую технику ждали. Говорили, американцы учли русский климат и другие трудности.
Особенно же – насчет топлива.
С предыдущим танком, М3, имелась сложность: у него бензиновый мотор и работать он
мог только на импортном высокооктановом бензине. Неудобно.
Американские товарищи пожелание союзников учли: установленные на танке двигатели
надежно работали на советском дизельном топливе и дизельном масле.
Да и вообще машина как-то сразу располагала к себе.
Главное – она оказалась тихая!
– Идет как царевна-лебедь, – высказался поэтически настроенный рядовой Синицын.
– Ага, только вот пехоту на эту царевну не посадишь, – осадил его сержант Ковалев. —
Ни тебе поручней, ни скоб. Сыпаться будут с машины, как яблоки.
– Интересно, а сами-то американцы как пехоту возят? – задумался Синицын.

– В особых грузовиках возят, – сказал сержант. – Вслед за танками.
– Что, и в атаку на грузовиках бегут? – фыркнул Синицын.
– Ты лучше в машину вникай, потому что нам на ней воевать, – ответил Ковалев, – а
что там у американцев делается, – к счастью, не нашего ума дело.
Попробовать новую машину хотелось всем. С первого же раза становилось очевидно, что
танк быстроходный и маневренный.
– Не, тут все равно какая-нибудь загвоздка найдется, – утверждал скептически
настроенный сержант. – Не бывает так, чтобы танк был весь идеальный. Если ты не
видишь недостатков, это еще не значит, что их нет.
В документах «Шерман» значился как «М4А2», и это «эм-четыре» быстро превратилось в
«эмча», вроде как – ласковое наименование.
Эмча вызывала особую нежность вооружением: 75-миллиметровая пушка, два пулемета
«Браунинг», дымовой гранатомет, зенитный крупнокалиберный пулемет.
И, товарищи, радиостанция. Это вообще чудеса современной техники.
Внутри танка обнаружился настоящий «отель»: сиденья кожей обтянуты, ручки
никелированные.
Один недостаток все-таки нашли сразу: в отличие от Т-34, который умел крутиться на
месте, «Шерман» разворачивался только по кругу, как автомобиль.
– Это мы переживем, – сказал командир. – Броня бы не подвела.
...И вот в чем прав оказался скептик-сержант Ковалев, так это в том, что у «Шермана»
имеются недостатки, и как раз по части защиты.
Слабым местом танка оказалась его броня. Толщина у нее большая, до шестидесяти
миллиметров, но... Сама броня оказалась недоброкачественной. «Юнкерс» ее пробивает из
пушки, бывает, даже при обстреле осколочными боеприпасами скалывается.
До американской стороны жалобы на дефекты брони дошли весной сорок третьего.
Отгрузка М4А2 в СССР приостановилась – союзники честно исправляли дефект...
2 января 1943 года, Мурманск
В незамерзающем порту Мурманск разгружали корабли, пришедшие из-за океана.
Американцы продолжали поставлять в Советский Союз свои танки.
– Вишь, как запаковали, – восхищались механики. – Новогодний подарок.
– Будет из этого «подарка» немцам подарок, – отвечал другой.
Распаковать каждый из «Шерманов» оказалось делом весьма хитрым и заняло несколько
дней.
Все танки были тщательно оклеены плотной темной бумагой, пропитанной влагостойким
составом. Свободным оставался только люк механика-водителя – здесь оклейку содрали
еще в порту, чтобы отвести танк от порта до станции погрузки.
Внутри танка – где «отель», – не было ни капли влаги, хотя до того машина шла морем.
Труднее всего приходилось при расконсервации пушки и спаренного с ней пулемета:
орудия были обильно покрыты густой смазкой, а с дульной и казенной части залиты
пушечным салом. Поди отковыряй такую «пробочку» в тридцать сантиметров толщиной.
– Да, основательный народ эти американцы.
27 октября 1943 года, лес под Наро-Фоминском
Танковая бригада знакомилась с новыми американскими танками – «Шерманами».
Плакатов и инструкций еще не издали, учились на «живой машине», для чего разрешено
было одну «эмчу» разобрать и поглядеть, что там «у ней внутрях», как выразился механик
Федотов.
Дней десять так копались, исследуя механизмы незнакомого танка, а потом все тщательно
собрали обратно.
Занимались стрельбами, тактическими учениями в поле...
И тут пришел приказ: срочно грузиться, срочно ехать!
Бригаду отправляли на фронт – под Киев.

20 ноября 1943 года, район города Фастов, 1-й Украинский фронт
Поезд остановился в чистом поле.
Украина.
Командир танковой бригады подполковник Николай Чернушевич объявил:
– Товарищи! Получен приказ из штаба: немедленно разгрузиться и, совершив марш,
занять оборону севернее города Фастов.
– Как будем разгружаться, товарищ подполковник? – раздались голоса. – Тут и
разгрузочной площадки-то нет!
– А как танк разворачивать? «Шерману» чтобы повернуться – много места надо, это ж
не «тридцатьчетверка».
– Товарищи, решаем по обстановке. Передовая требует срочного ввода свежих
резервов...
Командир первого батальона капитан Николай Маслюков сказал:
– Есть у меня механик-регулировщик старшина Григорий Нестеров. Говорит, знает, как в
такой ситуации разгружать танки. Готов показать, как «прыгать с платформы».
– Выхода нет, давайте.
Хвостовую платформу откатили на несколько метров назад и открыли борта. Заработал
мотор. «Эмча» двинулась вперед,
остановилась... Казалось, бронированная громадина вот-вот сорвется вниз. Тормоза
сработали надежно. Опять водитель подал машину вперед и назад – угол к платформе
все больше увеличивался.
Через полчаса таких маневров «Шерман» стал поперек платформы. Медленно поехал
вперед. На миг завис носом в воздухе, «клюнул»...
Оглушительный треск: сломались доски настила. Заскрежетали металлические борта
платформы, гусеницы ударились о землю. В стороны брызнули щебенка
железнодорожной насыпи, комья земли...
Торжествующе взревел мотор. «Шерман» выкатился на ровную площадку и остановился.
Механик выглянул из люка – лицо красное, залито потом.
– Готово, – доложил он.
Гусеницы целы. Платформа, правда, вдребезги.
– Все видели, товарищи? – обратился к танкистам подполковник Чернушевич. – Все,
совещание с демонстрацией закончены. Прыгаем.
Эшелон рассыпался по перегону – для каждого танка подыскивали удобные площадки.
Только и слышно было, как трещат доски, звенит металл, ревут двигатели. То и дело
раздавались громкие вопли, то радостные, то огорченные, в зависимости от результата:
– Есть!
Или:
– Завалился!
Две машины опрокинулись и лежали на боку. К ним подошли более «удачливые» танки,
зацепили «лежебок» буксирными тросами, поставили на гусеницы.
– Ну что, товарищи, поломок вроде бы нет, – доложил заместитель командира
батальона по технической части старший лейтенант Александр Дубицкий. – Механизмы
наших «Шерманов» выдержали проверку резким динамическим ударом. Так что молодцы
американские товарищи.
Танки двинулись по степи навстречу фронту.
Изуродованные платформы остались стоять на путях. После экстренной «цирковой»
разгрузки танков они годились только на металлолом.
13 марта 1944 года, 3-й Украинский фронт, район села Явкино
– Товарищ гвардии младший лейтенант, гусеничную цепь разорвало, – доложил
механик-водитель старший сержант Иван Володин.
«Эмча» остановилась.
Делать нечего – ремонтировать придется.
– Так самолеты же, товарищ гвардии младший лейтенант! – сказал со вздохом Володин.
– Самолеты – не самолеты, в танке не отсидимся, – отрезал Сивков. – Чинить надо и
снова в бой.
«Юнкерсы» заметили подбитый танк. «Шерман» – машина высокая, мишень заметная.
Пролетая низко над «Эмчой», немецкие самолеты стреляли по советским танкистам.
– Вот ведь гад, высунуться не дает! – сердился механик-водитель. – Ну, пусть себе, а я
свое дело сделаю.
«Юнкерс» вернулся, когда Володин уже заканчивал ремонт.
– Иван, летит! – крикнул сержант Калиниченко, наводчик орудия.
– Погоди, сейчас, – отвечал Володин.
– «Юнкерс» ждать не будет...
Поздно: Володин упал, прошитый очередью. Калиниченко выскочил, чтобы оттащить его,
и последняя пуля пришлась ему в грудь.
Уже почти совсем стемнело. «Юнкерсы» улетели.
– Хорош немец тем, что бомбит и стреляет точно по расписанию, – сказал командир
танка. – Что делать будем, товарищ Крестьянинов?
Рядовой Крестьянинов сжал губы.
– Отомстим за наших товарищей.
– Как сражаться, экипаж – всего нас двое... – Сивков вздохнул. – Ладно, вот что. Ты,
Петр, давай за механика-водителя. Я в башню. В степи застревать негоже, утром вернутся
«Юнкерсы» – и останется от «Эмчи» мокрое место.
– Куда прорываться будем? – спросил Крестьянинов.
– Дуй на юг, – приказал командир. – Догоним наших. Они должны быть в районе села
Явкино.
Явкино возникло в темноте украинской ночи. «Шерман» остановился. Младший
лейтенант Сивков откинул люк, прислушался... немецкая речь.
– Немцы в себе! – сказал он своему водителю.
– Что делать будем, товарищ младший лейтенант?
– Что-что!.. – передразнил Сивков. – Прорываться к нашим. У тебя другие
предложения? Давай, гони!

«Шерман» ворвался в село. Сивков открыл ураганный огонь из всех видов оружия.
Обезумевшая громадина металась по улицам села, паля во все стороны.
– Russische Panzer!
Казалось, в селе не один, а десяток танков.
– Ага, не нравится? – ворчал Сивков.
...И тут в темноте «Эмча» свалилась в ров.
Некоторое время было тихо. Затем возле танка послышалась механически-правильная
русская речь:
– Русский танкист. Сдавайся плен.
– Комсомольцы не сдаются! – заорал Сивков и бросил наугад в темноту связку гранат.
– Прибили кого, товарищ младший лейтенант? – спросил Крестьянинов спустя
некоторое время.
– В темноте плохо вижу... – ответил командир. – Лежат, вроде, какие-то... Человек
пять, может, семь.
– Хорошо вы их приложили, товарищ младший лейтенант, – вздохнул Крестьянинов.
Немцы скоро вернулись с твердым намерением захватить танк.
Боеприпасы заканчивались. Работала только зенитная установка. Сивков снова открыл
огонь.
– Слушай, Петр, – хрипло крикнул он, – сейчас все кончится. Стрелять больше нечем.
Не хочу бросать танк.
– Не, «Эмчу» оставлять – гиблое дело, – поддержал Крестьянинов. – Помрем, а не
сдадимся, товарищ младший лейтенант!
По его лицу потекли слезы.
Сивков яростно записал в блокноте: «Мы оставшиеся двое в танке номер 17 решили
лучше умереть в родном танке, чем бросать его! В плен сдаваться не будем. В последнюю
минуту жизнь взорвем гранатами танк, чтобы врагу не попал».
Блокнот он положил в планшет, защелкнул застежку.
Снаружи снова началась стрельба.
– Пора.
Сильный взрыв сотряс «Эмчу»…
А предсмертное письмо гвардии младшего лейтенанта Сивкова было найдено.
Командир танка Сивков и радист Крестьянинов посмертно стали Героями Советского
Союза.
Погибли, но не оставили «родную Эмчу»...
...Этот танк был с советскими танкистами до самого конца войны.
И после войны служил людям: башни снимали, машину переделывали в тягач. Последний
из них был списан в 1996 году.
48. Двуглавый «крейсер»
5 ноября 1937 года, Харьков
Общее собрание партактива Харьковского Паровозостроительного завода проходило
довольно сдержанно.
Собравшиеся старались не смотреть на пустующие места, где обычно сидели самые
шумные, самые инициативные члены партии – квалифицированные инженеры.