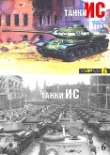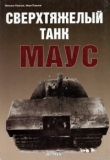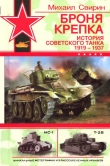Текст книги "Легенды танкистов - 2"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Кто мог подумать, что среди них окажутся враги народа?
С другой стороны – но об этом вслух не заговаривали, – возможно, произошла ошибка.
Чудовищная ошибка. Но партия и органы разберутся, и скоро все опять наладится.
Однако, так или иначе, докладчик сумел затронуть за живое.
Говорилось об Испании. О том, как советские танки на испанской земле бьются за
свободу братского народа. И о том, что, учитывая испанский опыт, Автобронетанковое
управление пришло к выводу о необходимости создания нового тяжелого танка прорыва
на базе Т-35.
– Это будет удивительная машина, товарищи, – голос докладчика звенел. Смотреть в
листки, на которых было отпечатано проектное задание от АБТУ, не требовалось: эти
цифры и буквы запечатлелись в памяти, точно выжженные огнем. – Сухопутный
крейсер! Дредноут! Общая масса, как предполагается, должна доходить до шестидесяти
тонн, броня – от семидесяти пяти до сорока пяти миллиметров. Громадина, способная
сокрушить самую мощную линию обороны.
– Здоровенная махина, – подал голос кто-то из задних рядов.
– Главное, товарищи, – повысил голос докладчик, – предусмотрены целых три башни.
Одна пушка – семидесятишестимиллиметровая, две – сорокапятимиллиметровые, плюс
еще два пулемета ДК и шесть – ДТ.
– А как оно ездить-то будет? – снова спросили из задних рядов.
Докладчик с досадой посмотрел на пустующие места в зале. Те, о ком сегодня не стоит
вспоминать, задавали бы другие вопросы. Но и этот вопрос, в общем, не праздный.
– Предполагается, как уже указывалось, – докладчик сжал в кулаке листки, лоб его
покрылся капельками пота, – использовать трансмиссию и ходовую часть от Т-35.
– А сдюжим?
– Пока, товарищи, займемся эскизной проработкой. Когда настанет время – партия нам
поможет.
19 апреля 1938 года, Ленинград
...И партия помогла харьковским товарищам: подключила к разработке нового
трехбашенного танка Ленинградский Кировский завод.
Ведущий инженер проекта Ермолаев немало времени потратил на изучение эскизов, а
затем на телефонные разговоры с Харьковом.
Приехал специалист, началась доработка.
Харьковчанин немного нервничал, но ленинградцы полностью оправдали свою
общесоюзную репутацию людей интеллигентных и гостеприимных, и скоро коллега
оттаял.
– Конечно, – вздыхал он, – у вас и производственная база помощнее, да и опыт
серийного производства танков уже имеется.
– Мы производили Т-28, а тут – совсем новая машина, – объяснял Ермолаев. – Да и
мощностей наших пока маловато, мы другими делами заняты. Вот когда будут договоры
на изготовление нового танка – тогда пожалуйста...
10 октября 1938 года, Ленинград
Помощника начальника АБТУ военного инженера 1-го ранга Коробкова, возглавлявшего
комиссию, на заводе приняли радушно.
– Мы решили назвать наш танк «СМК» – «Сергей Миронович Киров», – объяснил
Ермолаев. – Как только было принято Постановление Комитета Обороны СНК СССР от
7 августа, работа наша из раздела теоретического мгновенно перешла, так сказать, в
раздел практический.
– Времени, товарищи, мало, – озабоченным тоном сказал Коробков. – Партия и
товарищ Сталин ждут первые танки СМК уже к 1 мая 1939 года. Справитесь?
– Идемте, покажем на месте.
Чертежи были прикреплены к большим деревянным стендам прямо поверх наглядной
агитации. Над краем белого листа виднелись верхушки красных букв, и можно было
угадать слово «КОММУНИЗМ».
– Макет в натуральную величину выполнен из дерева, – Ермолаев перевел Коробкова в
большой заводской цех с асфальтированным полом. – Здесь сразу нужно указать, что
имеют место некоторые отклонения от заданных тактико-технических требований.
Коробков нахмурился.
– Говорите, товарищи.
– В частности, вместо подвески по типу Т-35 со спиральными пружинами мы
использовали торсионные валы, – «покаялся» инженер. – Но это оправдано нашими
производственными возможностями.
После долгого осмотра и обеда в заводской столовой комиссия дала «добро».
– Ваши коллеги на заводе номер 185 – имени Кирова – могут вас и обогнать, —
проговорил под конец Коробков. – Мы теперь туда направляемся. Их «изделие 100»
создается по тому же типу, что и ваш СМК. Но конкуренции нет, товарищи, – он
засмеялся, – мы не в капиталистическом мире. Если завтра война, если завтра в поход —
в бой пойдут оба танка, не сомневайтесь.

9 декабря 1938 года, Москва, Кремль
Сталин выслушивал докладчиков по обыкновению молча.
На совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Комитета Обороны речь шла об
испанском опыте и о новых танках прорыва.
Коробков развернул чертежи, указал на достоинства обоих танков, на их особенности и
вероятное боевое применение.
– Как, вы сказали, они называются? – вдруг перебил Сталин.
– Т-100 и СМК, товарищ Сталин.
– Неплохо, – одобрил вождь. – Коротко и ясно. Но вот только, – он вынул изо рта
трубку и выпустил колечко, – не пойму, зачем три башни? Это ведь как-то неудобно, что
три башни?
– Для лучшего радиуса обстрела, товарищ Сталин, – сказал Коробков.
– Для лучшего обстрела пусть лучше вращаются башни, – распорядился Сталин. —
Слишком тяжелая машина получается – трехголовая. Давайте сократим число башен до
двух?
Он взял лист с чертежом и написал короткую резолюцию.
20 сентября 1939 года, полигон Кубинка, Подмосковье
Рев моторов распугал птиц. Ясное небо сияло над СССР.
Из глубины леса одна за другой выезжали машины, возле дощатой трибуны
останавливались. Нарком машиностроения Малышев, приехавший один из первых,
заметно волновался.
– Большой день, – обратился маршал Ворошилов к начальнику АБТУ Павлову, Герою
Советского Союза, герою боев в Испании.
Павлов молча кивнул, улыбнулся скупо.
Испания доказала преимущество новой техники, важность ее применения в боевых
условиях. Но каждый год приносил что-то новое, заставлял изменять, утяжелять,
усовершенствовать машины.
Сегодня должен был пройти правительственный показ серийных и опытных танков.
Конечно, войну – когда она начнется, – выиграют танки серийные. Но опытные не
менее важны, они могут показать направление поиска.
– А там что? – Ворошилов смотрел на большие двубашенные танки.
Да, машины медлительные, но какая в них сила! СМК утюжит насыпи, играючи берет
эскарп…
В следующей войне, думает Павлов, эти танки покажут себя.
1 декабря 1940 года, Ленинград
– Товарищи, – старший лейтенант Петин выглядел очень серьезным, – Москва дала
«добро», и мы не можем подвести. Наши танки отправляются на фронт, навстречу
коварному врагу. Именно нам выпало проверить их в боевых условиях.
Несколько рабочих были специально отобраны для этих испытаний. За короткий срок они
научились водить машины, стрелять из пушки и пулемета. И вот теперь экипаж СМК
отправляется в снега на финскую границу.
Кроме старшего лейтенанта Петина, сержанта Могильченко и двух красноармейцев, в
состав экипажа вошли трое рабочих Кировского завода: механик-водитель Игнатьев,
моторист Куницын и трансмиссионщик Токарев.
– Сами строили, – засмеялся Игнатьев, – сами и в бой поведем. Так сказать, полный
контроль качества!

17 декабря 1939 года, район Хотинен
Рота тяжелых танков под командованием капитана Колотушкина вступила в бой.
Она состояла из «сухопутных крейсеров»: СМК, Т-100 и КВ – опытный танк, носивший
имя Клима Ворошилова.
СМК возглавил танковую колонну. Скучный белый финский снег лежал по обочинам, из
снега торчали хилые палки – деревца.
Впереди что-то темнело... Вроде, ящики какие-то. Финны бросили? Танк тяжко проехался
по этому незначительному препятствию.
Прогремел взрыв.
– Черти! – закричал водитель. – Фугас замаскировали! Под доски сунули!..
– Что там, Игнатьев? – спросил старший лейтенант.
– Да черт его знает, кажется, гусеницу повредило и ленивец... Застряли мы тут, товарищ
старший лейтенант!
– Починить можно?
– Для того мы и рабочие Кировского завода, – был ответ.
Два других тяжелых танка остановились рядом, прикрывая подбитого товарища.
Осторожно выбрались трое, спрыгнули на снег. Устраивать ловушки и засады – на это
финны мастера. Хорошо бы под снайперскую пулю еще не попасть.
– Холодно!..
Дышали на руки, грелись по очереди. Тяжелые танки стояли – ждали. Время шло,
зимний день короток – начало темнеть.
– Не получается, товарищ старший лейтенант! – доложил наконец Токарев. – Не
починить на месте.
– Пока остановимся, завтра продолжим, – распорядился Петин.
19 декабря 1939 года, Хотиненский укрепрайон
СМК снова был на ходу.
Старший лейтенант Петин коротко обрисовал задачу: поддержать наши части, которые
прорвались в глубь финских укреплений.
Бок о бок с СМК шла «сотка» – другой экспериментальный танк, в состав которого также
были включены рабочие с изготовившего танк завода номер 185.
Тяжелые «крейсеры» поддерживали пять Т-28.
Казалось, земля сама ложится под гусеницы неудержимых махин. Все глубже уходили в
оборону противника танки прорыва...
И снова взрыв, на сей раз прямо под СМК, который шел впереди.
И снова «сотка» остановилась рядом, прикрывая товарища.
– Будем чинить! – решили рабочие.
Ледяной ветер кусал руки, металл обжигал, как огонь, когда случайно доводилось
коснуться его рукой без перчатки. Наконец удалось соединить разбитые гусеницы.
– Игнатьев, заводи! – приказал сержант Могильченко.
Мотор заглох.
– Что, никак?
– Пробую, товарищ лейтенант!.. Не заводится.
– Давай буксир, – предложил командир Т-100 лейтенант Астахов.
Но тут против танкистов выступил гололед: гусеницы «сотки» пробуксовывали. Мотор
ревел так, словно пытался пробуравить небо, однако танки не сдвинулись с места.
– Отставить, – устало сказал Астахов. – Будем драться, сколько можем, на месте, с
неподвижной огневой точки.
...Бой длился пять часов.
– Все, боезапас кончился, товарищ старший лейтенант! – доложил сержант
Могильченко. – Будем к соседям перебираться?

Он первым выскочил из танка и упал, заливаясь кровью.
За ним осторожно сунулся Игнатьев. Старший лейтенант заметил, что у водителя кровь
течет по щеке, но на вопрос о ранении Игнатьев только отмахнулся: ерунда.
Один за другим перебирались с подбитого СМК на Т-100 члены экипажа. Один из пяти Т-
28 прикрывал этот переход.
– Тесно, как... в консервной банке, – прошептал моторист Куницын.
– Смотри ты, привередничает! – засмеялся артиллерист «сотки» Артамонов. —
Располагайся, как получится, тут хоромов обещать не можем.
Могильченко лежал тихо. Петин прислушивался – дышит ли еще сержант, но слышно
было плохо. Только слабое пожатие руки говорило о том, что Могильченко жив.
Возвращение «сотки» в расположение Двадцатой танковой бригады было встречено
общей радостью и поздравлениями.
9 марта 1940 года, станция Перк-Ярви
– Вот зверь-машина! – дивились механики.
Поврежденный СМК тащили шесть танков Т-28. На станции предстояло разобрать его и
отправить на Кировский завод – для ремонта.
Начальник АБТУ Дмитрий Григорьевич Павлов был в ярости.
Потерять секретную боевую машину! Хуже того – бросить ее там, где до нее, уж конечно
же, доберутся злокозненные финны!..
– Спасти танк! Любой ценой! – распорядился Павлов.
В конце тридцать девятого этот приказ попытались выполнить аж две роты под
командованием капитана Никуленко. Два орудия, семь танков Т-28...

Им действительно удалось прорваться за финские надолбы, но тут советских солдат
встретил сильный огонь противника. Сорок семь человек погибли прежде, чем Никуленко
принял решение отступить.
Павлов бушевал еще какое-то время, но пришлось ждать еще два месяца прежде, чем
выпала возможность хотя бы добраться до танка и осмотреть его.
И вот теперь поврежденный СМК разбирают. Еще есть надежда. Он еще может быть
отремонтирован, и тогда...
...Но надвигалась Великая война. Павлов – он об этом, конечно, еще не догадывался, —
будет расстрелян через месяц после ее начала, а злополучный двухголовый «крейсер»,
пролежав на задворках Кировского завода до пятидесятых годов, так и не дождался своего
«звездного часа».
49. Танк-десантник
15 декабря 1935 года, Ньюкасл
Сэр Ноэль Бѐрч жестом показал мистеру Литтлу на стул.
– Прошу вас, садитесь.
Лесли Литтл был только что назначен руководителем отдела разработок фирмы «Виккерс-
Армстронг». Как и все, он немного робел перед сэром Ноэлем.
Сэр Ноэль был личностью поистине выдающейся. Сейчас ему перевалило за семьдесят.
Свою карьеру он начинал во время Англо-бурской войны. В 1914 году он находился во
Франции под командой сэра Эдмунда Алленби. С 1916-го – «главный артиллерист» при
штабе и с девятнадцатого года – генерал-лейтенант.
Затем – ответственные должности, связанные со снабжением боеприпасами, а с двадцать
седьмого, уволившись из армии, сэр Ноэль Бѐрч, генерал-лейтенант, артиллерист,
кавалерист, герой нескольких войн, становится директором фирмы «Виккерс-Армстронг».
Так что да, перед этим великим человеком поневоле оробеешь.
– Я хочу с вами поговорить на одну очень деликатную тему, – заявил сэр Ноэль Бѐрч. —
Вы, насколько я помню, раньше работали у капитана Лойда? Гм. Тут, следовательно, вот
какая задача... – Он пожевал губами, как будто обдумывая то, что на самом деле давно
уже было обдумано. – В разработках нового танка следует применять только
принципиально новые решения. Понимаете?
– Не совсем, – осторожно ответил Литтл.
– Гм. Насколько вам известно, совсем недавно «Виккерс-Армстронг» объединилась с
фирмой «Карден-Лойд». Это слияние, разумеется, было произведено в интересах обеих
сторон, – начал сэр Ноэль.
Литтл ждал продолжения. Он видел, что Бѐрчу необходимо расставить все точки над «i» и
убедиться в том, что новый руководитель понимает его абсолютно правильно.
– Разумеется, и Джон Карден, и капитан Вивиен Лойд – очень известные разработчики,
создатели весьма разных боевых машин... Их фирма, гм, конечно же представляет собой
признанный мозговой центр в области танкостроения. И британская корона только
выигрывает от такого объединения...
«Годы, проведенные на службе в отделе снабжения, сыграли свою роль, – подумал
Литтл. – Генерал продолжает ходить кругами... Сказал бы прямо – чего он от меня
добивается!»
– Однако, – сэр Ноэль поднял палец и выдержал небольшую паузу, – однако, дорогой
мой сэр, не все так гладко, как хотелось бы. По соглашению между нами и «Карден-
Лойдом» наши новые партнеры получают пять процентов от прибыли в случае
использования их технических решений в наших общих конструкциях.
– Следовательно... – робко подхватил Литтл.
– Следовательно, – завершил генерал-лейтенант с широкой, почти ласковой улыбкой,
– нам надлежит в наших конструкциях всячески избегать технических решений наших
новых партнеров. Поэтому я и говорю о необходимости абсолютно оригинальных
конструкций. Теперь вы меня хорошо понимаете?
18 декабря 1937 года, Ньюкасл – Эпон Тайн, фирма «Виккерс – Армстронг»
Директор управления механизации военного ведомства прибыл на производство
неожиданно.
Его приняли с такой изысканной любезностью, что он поневоле насторожился:
совершенно очевидно, что здесь что-то происходит. Слухи не лгали.

– Итак, господа, прошу – рассказывайте, – попросил он наконец. – Что вы тут
скрываете, словно индийскую женщину под пардой?
«Пардой» в Индии – английской колонии – называли накидку, под которой стыдливая
восточная дама прячет лицо.
– Танк, – был вполне ожидаемый ответ.
Работы велись в инициативном порядке, без предварительного заказа и без лишних
разговоров.
И начались они сравнительно давно, еще до прискорбной гибели конструктора Джона
Кардена в автокатастрофе.
На фирме «Виккерс» были настроены сдержанно, если не сказать – пессимистически. До
сих пор всем их конструкциям не везло: Великобритания их не принимала. По разным
причинам английская армия отказывалась от этих машин. Зато легкие танки «Виккерс»
закупали другие страны. В том числе – Советская Россия.
Впрочем, насчет нового танка, который пока что не имел никакого названия, еще ничего
не было известно. Может быть, как раз он послужит интересам Британии.
– Когда можно будет провести испытания вашей последней машины? – спросил
представитель военного ведомства.
Сэр Ноэль Берч торжественно ответил:
– Май тридцать восьмого. К тому времени наш танк будет готов снять «парду» и
предстать перед военными во всей своей убийственной красе.
8 июня 1938 года, Лондон
Сэр Ноэль Бѐрч был приглашен на совещание чинов имперского генерального штаба и
управления механизации армии.
– Теперь о новой разработке фирмы «Виккерс-Армстронг», – прозвучал голос
докладчика. – В документах эта машина указана под названием «P.R.». Кстати, может
быть, присутствующий здесь сэр Ноэль Берч разъяснит нам, что означает сия
аббревиатура?
Эта аббревиатура означала «Парда» – вуаль... Сэр Ноэль не моргнув глазом ответил:
– «Приват». Эти две буквы – знак того, что танк разрабатывался приватным, то есть —
личным, то есть – инициативным образом.
Едва заметная улыбка скользнула по его губам, но этого никто не заметил.
– На вооружении армии Великобритании уже состоит легкий танк Mk.VI, – продолжал
докладчик. – Возможно, этого нам вполне достаточно. Для чего нужен еще один легкий
танк?
– Возможно, имеет смысл ввести категорию «легких крейсерских танков»? – предложил
сэр Ноэль.
Как он и ожидал, эта «революционная» идея взбудоражила консервативно настроенное
собрание.
– Для такой машины желательно пушечное вооружение не менее сорока миллиметров!
– прозвучало ответное предложение. – Можно ли установить на ваш «P.R.» пушку
такого калибра?
– Вес танка – семь тонн, – ответил сэр Ноэль. – Думаю, нет, такая пушка невозможна.
Он уже понял, что танк придется усовершенствовать. Или установить пушку, или танка не
будет.
23 июня 1938 года, Ньюкасл
Литтл еще раз перечитал задание, полученное от управления механизации.
Предполагалось вооружить танк двумя пулеметами. Скорость – не меньше шестидесяти
километров в час по шоссе или сорок километров в час по пересеченной местности.
Горючего нужно больше, но это не проблема, запасной бак – на корме... Водителя
оградить от баков с горючим – логично... В днище машины предусмотреть отверстие для
слива бензина из поврежденных баков – логично...
Министерство лелеяло надежду использовать новый танк в пустыне. Теперь еще нужно
разобраться с двигателем. Очень непросто ездить по пустыне на танке, знаете ли. Тем
более – гонять со скоростью в сорок километров в час. Песок, жара. Нужно все
проверить.
4 сентября 1938 года, Ньюкасл
– Отныне танк «Парда» называется не «P.R.», и не «Приват» и не еще как-нибудь, а
очень просто: «Легкий танк Mk.VII», – объявил сэр Ноэль.

Он немного ошибался: спустя некоторое время танк получил личное имя – «Тетрарх».
Происхождение этого имени также скрылось под флером «парды»: то ли «владыка
четвертой части подвластной империи земли», то ли «четырехарочный танк»...
Это все не имело большого значения. Туман – и имена, тонущие в тумане, – ничто по
сравнению с собственно машиной. С танком.
С легким крейсерским танком, на который все-таки установили сорокамиллиметровую
пушку (спаренную с пулеметом).
8 ноября 1940 года, Бирмингем
Первые танки Mk.VII вышли из заводских ворот.
На конференции военного ведомства по вопросам производства бронетанковой техники
было принято решение: выпустить серию из ста двадцати машин – легких танков Mk.VII
– в фирме Metropolitan-Cammel Carraige and Wagon, если коротко – «Метро-Кеммел».
Эта фирма была одной из составных частей концерна «Виккерс-Армстронг».
И вот танки пошли...
Заказ был сокращен до семидесяти единиц еще до того, как собрали первый танк. Неудача
Британских экспедиционных сил в районе Дюнкерка заставила генеральный штаб
пересмотреть свои требования к танкам.
Возможно, следует ожидать вторжения немцев на Острова. Говорить об этом вслух не
стоит, но обдумывать всякие возможности, в том числе и неприятные, поневоле
приходится. А в таком случае нужнее окажутся не легкие десантные, но пехотные и
крейсерские танки. Меньше легких, больше тяжелых – таков новый девиз с учетом
изменившихся обстоятельств.
Фирма «Метро-Кеммел» продолжала настаивать: «Тетрархи» необходимы Британии.
– На какое количество танков вы, в конце концов, рассчитываете? – прищурился
Черчилль.
– Мы заказали броневые плиты на двести с лишним танков, – сознались наконец в
«Метро-Кеммел». – Поверьте, в самое ближайшее время мы завершим производство ста
танков.
– Гм, – был невнятный ответ из министерства. – Это следует обдумать всесторонне.
После «всестороннего» обдумывания цифра военного заказа поползла вверх: сто двадцать
машин...
9 февраля 1942 года, Лондон
– ...И последнее на сегодня, – заседание в военном ведомстве подходило к концу, —
легкий танк «Тетрарх». На сегодняшний момент мы имеем сто семьдесят семь машин.
Танк этот – легкий, восемь с половиной тонн, быстроходный, слабовооруженный, с
очень слабой броней – всего 14 миллиметров. Для поддержки пехоты он не годится.
– А если?..
Мысль «витала в воздухе» не первый месяц.
В Бельгии и Голландии немцы успели блеснуть своими парашютно-десантными
войсками. В мае сорок первого они повторили успех при захвате с воздуха острова Крит,
где наряду с греками потерпели неудачу британцы.
– Но разве танки могут летать?..
Средств доставки танков на поле боя по воздуху не существовало.
И вот тут Мартел вспомнил о Киевских маневрах в далеком тридцать пятом.
Для доставки танкеток, пушек и грузовиков были задействованы две тяжелые
авиабригады, оснащенные тяжелыми бомбардировщиками ТБ-3. Техника перевозилась
под их фюзеляжами.
– Танки могут летать! – уверенно сказал Мартел. – Советы это уже делали.
Необходимо только найти подходящий самолет.
– Такового самолета не существует! – резко ответил Черчилль.
– В таком случае, придется его создать, – подытожил Мартел.
18 ноября 1942 года, полигон фирмы General Aircraft
Планер поражал воображение.
Он был огромный. Самый большой в Англии – это точно. При весе в шестнадцать тонн
он имел размах крыльев в сорок пять метров.

Носовая часть планера откидывалась вбок, чтобы танк мог свободно заехать внутрь и так
же покинуть планер.
– Обратите внимание, – заметил представитель фирмы Уинстону Черчиллю, который
явился лично обозреть новое чудо британского гения, – планер не имеет шасси. Садится
прямо на брюхо. Это существенно облегчает танку выход наружу.
– Где находится экипаж во время перелета танка?
– Внутри машины. Другого места нет.
– Неплохо, – подытожил наконец Черчилль. – Думаю, настала пора показать, на что
способны легкие британские танки.
6 июля 1944 года, побережье Нормандии
Для «Тетрархов» наступил великий день. День «D», звездные мгновения летающих
танков.
Шестая английская воздушно-десантная дивизия готовилась высадиться на побережье
оккупированной Франции.
Вместе с людьми летели танки. Восемь «Тетрархов» загрузились во чрева своих планеров.
– Все пройдет идеально, – думал командир танка номер пять, капитан Голдсмит. – Мы
уже проделывали это, когда высаживались на Мадагаскар. Просто упали французам на
голову, и вишисты бежали. Все отработано. С осени сорок третьего мы тренировались в
Дорсете. Погрузка-выгрузка. Имитации посадок загруженных планеров, в том числе на
неприспособленную местность. Это британский танк на британском планере.
Бомбардировщики «Галифакс» буксировали «Гамилькары» над проливом.

...Никто так и не узнал, что в действительности произошло.
Танк вместе с экипажем выпал через раскрывшиеся створки «Гамилькара» и исчез в водах
пролива.
Спустя несколько минут остальные благополучно приземлились. «Делай как в Дорсете.
Погрузка-выгрузка».
Но... Не тут-то было.
Впереди блестела лентой река Орн, а все поле было усеяно парашютами.
Танки двинулись вперед и почти сразу же намотали на гусеницы стропы парашютов.
Напрасно ревели моторы, напрасно рвались вперед боевые машины.
– Стой!..
Капитан Голдсмит еще не знал о гибели одного из танков. Но он знал другое: если
машина не сдвинется с места, она будет бесполезна. И потому было принято единственно
возможное решение:
– Будем использовать их как бронированные огневые точки.
Последнее сражение с немцами – на континенте – началось. Легкие, не слишком
удачливые «Тетрархи» приняли последний бой 24 марта 1945 года – при форсировании
Рейна...
50. «Ученик Чингис-Хана»
2 июня 1939 года, Москва, приемная наркома Ворошилова
Комкор Жуков вошел в кабинет.
Нарком, стоявший у окна, повернулся к нему, протянул руку:
– Хорошо добрались из Минска? Садитесь. Чаю? Чемодан для вас уже собран.
Жуков уселся.
– Чемодан? – переспросил он.
Ворошилов разложил перед ним карту, Жуков разглядел название города – «Чита».
– Японцы вторглись в пределы дружественной нам Монголии и хозяйничают там, как
хотят. Комдив Фекленко очевидно не справляется с обстановкой. Авантюра японцами
затеяна серьезная, товарищ Жуков. Можете вылететь немедленно и принять
командование?
– Готов хоть сейчас, – ответил Жуков.
– Хорошо. – Нарком встал. – И как только разберетесь на месте в обстановке, сразу
доложите. Как можно более откровенно.
Жуков отсалютовал и вышел.
5 июня 1939 года, Тамцак-Булак, штаб 57-го особого корпуса
– Черт знает что! – в голос орал Жуков. – Вы головой думаете или своей трусливой
задницей? Как можно командовать армией, сидя в ста двадцати километрах от поля боя?
– Обстановка сложная, изучена еще не до конца, – промямлил Фекленко.
– То есть, вы ничего не знаете? – уточнил Жуков и употребил несколько слов,
характеризующих его как унтер-офицера старой закалки.
– Район событий еще не подготовлен в оперативном отношении... Нет телефонно-
телеграфных линий, командного пункта...
– И что для этого сделано?
– Ну, мы думаем послать за лесоматериалом...
Лесоматериал приходилось возить километров так за шестьсот. Жуков сделался
свекольного цвета и вышел покурить.
Нужно успокоиться и подумать.
Он вернулся с уже почти готовым ответом для Ворошилова.
– Товарищи, – заговорил Жуков, – то, что происходит, – не просто пограничный
конфликт. А у нас не произведено детальное знакомство с местностью, противник не
разведан. Это следует немедленно исправить. Почему наша авиация несет такие потери?
– Прислали неопытных летчиков, молодых, – подал голос полковой комиссар Никишев.
– А у японцев дерутся асы. Вот и сбивают.

Жуков сделал пометку в блокноте и продолжил:
– Сил, которыми располагает 57-й особый корпус, недостаточно. В этом следует
отдавать себе отчет. Я напишу откровенно в Москву, чтобы нам прислали подкрепление.
Необходимо усилить наши авиационные части, выдвинуть к району боевых действий не
менее трех стрелковых дивизий и одной танковой бригады. Значительно укрепить
артиллерию.
Он помолчал, оперся ладонью о карту, расстеленную на столе.
– Теперь главное. Нам следует удерживать плацдарм на правом берегу Халхин-гола и
подготовить удар по противнику из глубины.
Жуков сам не заметил, как начал говорить «нам».
За несколько дней до того, как пришло сообщение Генштаба о снятии Фекленко и
назначении командиром корпуса Жукова, мысленно он уже разворачивал войска и бросал
их в бой, на противника.
3 июля 1939 года, командный пункт Жукова
– Георгий Константинович, самураи!
Старший советник монгольской армии, советский полковник Иван Михайлович Афонин,
ворвался в палатку.
Под глазом у полковника пылал нарыв: лютые степные комары не давали спать,
забирались в палатки, жалили, места укусов распухали.
– На рассвете я выехал к горе Баин-Цаган, проверить оборону монгольских кавалеристов,
– сообщил Афонин.
Монгольская кавалерия не отличалась крепкой дисциплиной. За этим приходилось
следить постоянно.
– Продолжайте, Иван Михайлович, – сказал Жуков. – Выпейте чаю. В жару, говорят,
горячий лучше пить.
– Не знаю, что там говорят... – Афонин покачал головой. – Ночью самураи скрытно
переправились через Халхин-гол и атаковали монгольскую кавдивизию. Кавалеристы
сопротивлялись слабо, они кочевники – рассыпались, как привыкли... У самураев
серьезное преимущество в силах.
– Без лирики, – отрезал Жуков. – Что там конкретно происходит?
– Перед рассветом самураи захватили гору Баин-Цаган и прилегающие к ней местности.
Самураи вот-вот ударят нам во фланг и тыл. Сейчас их некому остановить.
– Выезжаем, – резко сказал Жуков.
Командный пункт снялся с места за полчаса и был переброшен к горе Хамар-Даба.
Жуков вышел из автомобиля, остановился на склоне. Внизу бежала река Халхин-гол, за
рекой высилась сопка, а слева поднималась та самая гора Баин-Цаган, где сейчас
окопались самураи.
Ночной маневр. Ловко.
Как им удалось так быстро навести переправу через реку? Могут окружить. Могут.
Жуков думал.
Все резервы – танковая бригада, пехотный полк, бронедивизион, – все сейчас в ста
двадцати километрах от фронта. Следует немедленно поднять их по тревоге и выиграть
время до их прибытия.
Нужно задержать самураев.
– Поднимаем всю нашу авиацию, – сказал Жуков.
– Всю, Георгий Константинович?
– Абсолютно всю! Пусть бомбят и штурмуют гору Баин-Цаган, не дают самураям и носа
высунуть. Обстреливать также переправу через реку. Нельзя чтобы японское
командование имело возможность перебрасывать войска на плацдарм. И отступать с горы
им тоже не позволим. Хотят сдохнуть на Баин-Цагане – обеспечим им это удовольствие.
Самолеты поднялись в небо. Их было больше, чем москитов. Гора как будто извергала
пламя, превратившись в вулкан. Жуков ждал.
11-я танковая бригада Яковлева находилась уже в пути.

3 июля 1939 года, 9 часов, гора Баин-Цаган
Передовые подразделения авангардного батальона 11-й танковой бригады прибыли.
Жуков выехал к ним на автомобиле.
– Товарищ Яковлев, медлить с контрударом нельзя, – быстро сказал он, едва найдя
время обменяться приветствием. Он заговорил, не успев опустить руку от козырька. —
Если противник обнаружит подход наших танковых частей, он мгновенно примет меры
для обороны и начнет бомбить танковые колонны. А здесь степь, укрыться негде. Даже
кустов толком нет. Расстреляет, как кроликов.
Он оглядел танки – покрытые пылью, разогретые.
Несколько танкистов высунулись из люков, кое-кто спрыгнул на землю, жадно курили.
– Когда сможете атаковать? – спросил Жуков.
Яковлев прикинул в уме.
– Через полтора часа.
– Хорошо, – подытожил Жуков. – Я прикажу ускорить движение танков и артиллерии,
а вы атакуйте сходу. Артподготовки не будет. Пехотного прикрытия тоже. Только танки.
Яковлев смотрел на красное от загара лицо Жукова, очень простое, с рублеными чертами,
и думал: «Он кавалерист, как эти монголы. Действует танками как кавалерией. Но почему
бы нет? Почему же нет?»
Жуков перевел взгляд на Яковлева, встретился с ним глазами:
– Что-то еще, товарищ Яковлев?
– Нет, товарищ Жуков. Атакуем самураев с ходу в 10 часов 45 минут.

3 июля 1939 года, 10 часов 45 минут, район горы Баин-Цаган
– Снять с танков все лишнее! Подготовить оружие к бою!