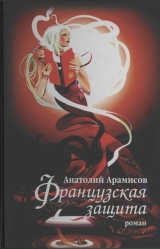
Текст книги "Французская защита"
Автор книги: Анатолий Арамисов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Виктора сбили с ног сразу три охранника, ринувшиеся из-за спины Женевьевы.
– A' cachot![26]26
A' cachot! – В карцер! (фр.)
[Закрыть] – как удар хлыста, прозвучала её команда. Сеанс одновременной игры закончился.
* * *
Виктор, получив сильный толчок в спину, едва удержался на ногах, чтобы не упасть на холодный пол.
В карцере было темно.
В маленьком окошке вверху сквозь толстые прутья слабо мерцали звезды.
Одинцов на ощупь пробрался к нему и, повернувшись лицом к двери, осмотрелся. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и он увидел, – вдоль правой стены находится что-то подобие деревянной койки. Он шагнул к ней и дернул, пытаясь придать горизонтальное положение.
Деревяшка не поддавалась.
Руки Виктора нащупали с краю что-то похожее на запор, и лишь после пятиминутной возни с ним койка с грохотом открылась на девяносто градусов.
Одинцов машинально надавил на неё вниз (проверить, держит ли), и только после этого устало прилег на тонкие деревянные бруски.
Он закинул руки за голову, приняв свою любимую позу, закрыл глаза. Стремительной лентой пронеслись события этого долгого дня. Виктор не чувствовал ни малейшей доли раскаяния за случившиеся в конце сеанса.
Наоборот, происшедшее словно добавило ему внутренней уверенности, даже самоуважения, и в душе не было той утренней тоски, которая резанула его при пробуждении.
Он был уже наслышан об условиях пребывания в карцере, и знал, что каждый заключенный должен быть внутренне готов к этому испытанию. Лёха как-то в один вечер рассказывал ему жуткие вещи из своего жизненного опыта по этой части.
– Здесь – просто курорт по сравнению с нашими тюрягами! – воскликнул он, видя в глазах Виктора тоску. – Не горюй, тебе недолго маяться!
– А чем отличаются наша тюрьма от французской? – спросил Одинцов.
– Ты что? – Лёха аж подпрыгнул. – Небо и земля! Главное – кормёжка и содержание в камерах! У нас часто сидят, как сельди в бочках, даже ночью спят по очереди. И кормят, чуть ли не отбросами. А здесь… Сокамерник сладко зажмурился, словно довольный кот и продолжил:
– Здесь лафа, работать много не заставляют, можешь на спортплощадке мячик погонять, книги даже читать дают.
– А меня, ты думаешь, что больше всего удивляет во французской тюрьме?
– Что? – Лёха с любопытством посмотрел на Одинцова.
– То, что здесь персонал при встрече прямо на глазах заключенных целуется между собой, ну, знаешь, как они это делают – два раза, в одну щеку и другую.
Лёха захохотал:
– Точно! Как бы у нас это смотрелось, ежели бы «вертухаи» утром при встрече стали лобызаться! Да их бы все гомиками считали!
И вот теперь Одинцову предстояло пройти новое испытание.
Одиночка. Карцер.
Слабый шорох раздался внизу.
Мышь? Или крыса?
Виктор привстал с койки и посмотрел по направлению звука.
Темень.
Ни зги не видно.
Одинцов подернул плечами. Он с детства панически боялся маленьких коротконогих тварей.
«Не хватало еще здесь такого соседства… Хотя, я слышал, в наших карцерах нередко зекам приходится стоять по щиколотку в воде, в камере, кишащей крысами…»
Виктор прислушался.
Тихо.
Он снова прилег на койку, повернулся лицом к стене.
«Надо постараться заснуть. Сколько сейчас времени? Наверное, около полуночи. С утра, быть может, станет ясно, сколько дней придется мне здесь куковать. Все как-то быстро произошло, и Женевьева была сильно разозлена происшедшей дракой. Её можно понять – сделала что-то вроде праздника для заключенных, а получилось вот как..
Интересно – Лёха и этот Жан тоже «загремели» в карцер? Француз же, по сути, начал драку…»
Виктор явственно услышал, как маленькие лапки прошелестели шашками по бетонному полу. Он снова резко повернулся и, напрягая зрение, пытался что-то разглядеть в темноте. Потом подтянул к себе левую ногу, и осторожно снял специальный тапок, в который одевают каждого узника «Seine Saint-Denis».
Едва заметная тень мелькнула в дальнем углу, внизу у окна послышалось шуршание, и Одинцов с силой запустил туда обувь. Звук удара совпал с резким визгом – тапок попала в цель.
Ошеломленная столь нерадушным отношением нового гостя, хозяйка камеры – крыса, пронеслась по диагонали к тому месту, откуда донеслось первое шуршание.
– Эх, бл…, вот кота Ваську нашего бы сюда! – вслух выругался Одинцов. – Он тут быстро бы порядок навел!
Виктор присел на койке, подтянув колени к груди.
Сон как рукой сняло.
Сам воздух камеры, а не только пол, по которому гуляла тварь, в мгновение стал омерзителен Виктору.
Его организм, с раннего детства болезненно реагировавший на присутствие подобных незваных «гостей», а также плохо переносивший укусы комаров, мух, не говоря уже о пчелах и осах, автоматически запротестовал.
Виктор почувствовал спазмы в горле, и, пытаясь справится с подступающим рвотным рефлексом, резко соскочил с койки и в два быстрых шага подобрался к окну.
Струя свежего воздуха слабо вошла в легкие заключенного, и Виктору стало чуть легче. Он постоял так минут пять, потом носком правой ноги нащупал валявшийся в углу тапок, надел его.
Спазмы прошли, и Одинцов снова забрался на койку.
Виктор вспомнил, как в детстве, когда его родители (а отец, Одинцов – старший, был моряк) в очередной раз переехали в маленький дом – развалюху, то по ночам семью донимали крысы, прогрызавшие деревянные половые доски. Они обитали под кухней, откуда доносились запахи еды,
и под покровом ночи шустро сновали там, забираясь даже на стол. Однажды крысы перегрызли провода от электрической плитки, и в этот же день отец принес домой взятого «напрокат» огромного кота по имени Васька.
Пушистый и внешне добродушный котяра оказался настоящим убийцей для подпольных тварей.
В первую же ночь пребывания Васьки на новом месте семья Одинцовых проснулась от ужасного визга на кухне. В наступившей тишине послышались быстрые кошачьи шаги. Когда отец включил свет, то открылась картина, достойная кисти художника: кот победно сидел рядом с полуза-душенной крысой гигантских размеров и играл с ней, правой лапой поворачивая поверженную противницу туда – обратно.
После того, как вся стая утром покинула подпольное пространство, стало ясно – Васька прикончил главаря.
…Виктор вздохнул, пытаясь прогнать невеселые мысли о незваной обитательнице карцера, опять повернулся на бок и закрыл глаза.
Сон не шел.
Время тянулось мучительно медленно.
Внезапно Одинцов услышал в коридоре голоса. Они с каждой секундой становились все громче.
Виктор приподнял голову, ладонью подпер щеку и прислушался.
Один голос, резкий, с характерным фальцетом, Виктор сразу узнал. Он принадлежал Жану Темплеру. Тот явно протестовал, видимо выражая недовольство перемещением себя любимого в этот мрачный отсек тюремного здания.
Через минуту совсем близко от камеры Одинцова лязгнул замок, послышался скрип открываемой двери, потом она с оглушительным грохотом захлопнулась под выкрик наркомана:
– Merde![27]27
Merde! – Дерьмо! (фр.)
[Закрыть]
Приглушенное бормотание в соседней камере слышалось в течение часа. Виктор поймал себя на мысли, что в душе радуется соседству француза. Во-первых: справедливость восторжествовала, и зачинщик конфликта тоже угодил в карцер.
Во-вторых: стало как-то веселее оттого, что рядом за стеной находится еще один живой человек. Пусть даже испытывающий к Одинцову неприязнь после случившегося.
Наконец Темплер затих, и Виктор стал погружаться в дрёму.
Это был не сон, скорее полузабытье. К тому же в камере стало заметно холодать: окно с решеткой не было закрыто стеклом, и температура в карцере приближалась, вероятно, к уличной.
Светало.
Внезапно резкий выкрик и оглушительный визг словно катапульта подбросили Виктора на койке:
– Canaille! Canaille! Merde![28]28
Canaille! Canaille! Merde! – Сволочь, сволочь, черт! (фр.)
[Закрыть] – кричал Темплер в соседней камере.
«Бог мой! Наверное, его укусила крыса!» – первое, что пришло в голову Одинцову.
Через секунду послышался странный «хакающий» звук, будто бы выдох, и в то же время мало похожий на человеческий голос:
– Хаак!
Одновременно с ним раздался какой-то лязг, словно чем-то железным резко царапнули по стене.
Француз еще несколько минут выкрикивал ругательства, потом в коридоре раздались шаги, и подошедший охранник спросил заключенного:
– Qu у a-t-il?[29]29
Qu у a-t-il? – В чем дело? (фр.)
[Закрыть]
Темплер нервным тоном что-то объяснил ему, тот сдержанно хохотнул и, ничего не ответив, застучал каблуками по коридору, удаляясь в свою каморку.
Француз бурчал себе под нос еще с полчаса, чем-то стучал в своей одиночке, и лишь под утро успокоился.
Лучи солнца постепенно отодвигали мрак в камере Одинцова. Глаза Виктора скользили по унылому однообразию тюремных стен серо-грязного цвета, точно так же выглядели пол и потолок В правом углу от двери виднелось мокрое пятно, словно туда плеснули водой из ведра. Приглядевшись, Одинцов с ужасом увидел, что мокрота была кровавого, красного цвета…
Кровь??
От этого пятна по полу к койке Виктора тянулся след, прежде невидимый из-за темноты, а сейчас хорошо различимый: будто бы по бетонному пространству полз маленький окровавленный гномик, теряя капли крови на своем пути.
Страшная догадка пронзила мозг Виктора, он резко заглянул под свою откидную койку и отшатнулся.
У самой стены лежала мертвая крыса, задрав все четыре лапки вверх. Но не это было самое страшное.
Крыса была как будто исполосована острой бритвой. Удар лезвия пришелся по ее животу и он был вскрыт, словно консервная банка, обнаженные внутренности вылезли, свалились вбок, и наверное, от них шел кровавый след по камере Одинцова, когда бедное животное в агонии ползло к человеку.
Виктор вытер ладонью вспотевший лоб.
«Да. Темплер оказался явно негостеприимнее меня по отношении к крысе…»
Теперь настала очередь Одинцова барабанить по железной двери. Виктор выкрикнул в коридорное пространство с пару десятков слов, добрая половина которых были из матерного лексикона великого и могучего. Минуты через три в коридоре послышался топот, к двери подбежали сразу два охранника и открыли её: высокий негр с выражением застывшей печали на лице и толстый коротышка с зажатым в руке носовым платком, которым он вытирал через каждые десять секунд вспотевший лоб.
– Qu у a-t-il? – задал тот же вопрос, что и соседу Виктора некоторое время назад высокий негр.
Вместо ответа Одинцов, не оборачиваясь, ткнул рукой в направлении подвесной койки.
Толстяк подошел к ней и, заглянув вниз, тотчас с брезгливым выражением на лице отпрянул назад.
Он что-то быстро сказал своему напарнику, тот повернулся и зашагал по коридору.
Через несколько минут негр вернулся, неся в руках что-то наподобие веника и грязное ведро.
– Ramassez![30]30
Ramassez! – Уберите! (фр.)
[Закрыть] – скомандовал Виктору толстяк, указав рукой в направлении убитой крысы.
– Пошел на …й, сам убирай! – ответил по-русски Одинцов. – Переводи меня в другую камеру отсюда!
– Je ne parle pas russe! – отчеканил тот, глаза толстого француза стали наливаться кровью.
– Ramassez!! – повторил он, хватая Виктора за рукав, и пытаясь развернуть его в направлении койки.
Внутри Виктора знакомо закипело…
«Только держать себя в руках! Не хватает мне еще этого урода избить! Тогда долго отсюда не выйду»…
Он снова бросил взгляд вниз, и тут организм заключенного не выдержал. Одинцов мотнул головой в сторону, стараясь, чтобы брызги рвотной массы не попали на оторопевших французов…
– Merde! – в один голос закричали те. – Cochon![31]31
Cochon! – Свинья! (фр.)
[Закрыть]
Они отпрянули от прислонившегося к дверному косяку Виктора.
Того долго сотрясали рвотные рыдания тела.
До тех пор, пока вызванная штатная уборщица тюрьмы не убрала все в камере, включая кровавый след, оставленный смертельно раненой крысой.
Из соседней камеры раздавался ликующий смех фиолетоголового наркомана.
Когда уборщица закончила работу, негр запер камеру на ключ, потом взял Одинцова под руку и повел по пустынному коридору на выход.
Тюрьма уже не спала.
Виктор шел мимо решетчатых отделений камер, сопровождаемый свистом и улюлюканьем заключенных. Почти каждый из них считал своим долгом что-то выкрикнуть в адрес русского.
Слова сливались в один сплошной крик, и лишь отдельные обрывки фраз сознание автоматически переводило на родной язык.
Одинцов сжал кулаки, и, стиснув зубы, боролся с желанием бросить в ответ какое-нибудь замысловатое многоэтажное ругательство.
Негр, который вел Виктора, слегка ухмылялся, на его лице застыла маска гордой значительности, словно он лично задержал важного государственного преступника.
Французские зэки только что проснулись и совершали утренний туалет: умывались, брились, чистили зубы, словом, готовились к завтраку. Некоторые прилипли к решеткам, белея полосами только что нанесенной пены для бритья.
Необычно-оживленное веселье царило в этот момент в коридорах «Seine Saint-Denis».
Поравнявшись со своей камерой, Виктор бросил взгляд внутрь её.
Лёха почему-то еще лежал на койке, отвернувшись к стене.
«Что это с ним? – с некоторой тревогой подумал Одинцов. – Обычно он встает раньше всех, жаворонок по натуре…»
– A' gauche![32]32
А' gauche! – Налево! (фр.)
[Закрыть] – негр подтолкнул Виктора в сторону большой красивой двери, обитой темно-бордовой кожей.
Они остановились.
Охранник нажал на неприметную кнопку звонка, и через несколько секунд дверь отворилась.
На пороге стояла высокая, спортивного вида молодая женщина, крашеная блондинка.
Она внимательно посмотрела на русского заключенного и улыбнулась:
– Входите! – несмотря на сильный акцент, слово она выговорила правильно.
Одинцов удивленно уставился на француженку.
Женщина выразительно взглянула на охранника:
– Merci!
Тот моментально сделал «налево кругом» и удалился.
Виктор шагнул вперед и через несколько метров очутился в комнате, явно секретарской; справа виднелась точно такая же дверь, что и на входе, она была чуть приоткрыта.
Блондинка жестом пригласила Одинцова проследовать дальше.
«На «ковер», что ли, меня привели?» – с усмешкой успел подумать Виктор, входя в просторный кабинет.
В конце его за столом сидела Женевьева.
«Точно!»
Начальник тюрьмы поднялась с кожаного кресла и, видя, что Одинцов в нерешительности остановился у двери, молча показала рукой на стул, стоявший сбоку около её стола.
Перед Женевьевой возле телефона стояла шахматная доска, не та клеенчатая, что во вчерашнем сеансе, а из тонкого дерева, изящно сделанная хорошим мастером.
«Стаунтоновские…» – наметанный глаз русского шахматиста сразу определил тип красиво вырезанных из дерева фигурок.
«Дорогой комплект»…
Точно такой же он видел в известном шахматном магазине на длинной улице под названием La Fayette, недалеко от знаменитого универмага. Усаживаясь за стул, Виктор бросил взгляд на дверь. Секретарша стояла на входе, ожидая распоряжений начальницы.
– Чай? Кофе? – неожиданно по-русски, с таким же акцентом, что и у блондинки, спросила Женевьева и слегка улыбнулась, наблюдая за вытянувшимся от изумления лицом Одинцова.
– Вы тоже говорите, как и…? – Виктор повернул голову вправо-влево, на обеих женщин, которые с утра порадовали его знакомыми словами.
– Да, немного, – оливковые глаза Женевьевы жили какой-то своей, интересной жизнью: они то прищуривались оценивающе, то стремительно расширялись, придавая лицу выражение немого вопроса, – я когда-то изучала ваш язык в университете.
– И неплохо изучали, – улыбнулся Виктор. С души немного спало тревожное ожидание нового наказания; Одинцов понимал, что последствия драки в тюрьме могут быть разными, и мысль о худшем варианте – новый суд и продление срока, тонким сверлом пронизывала его мозг.
Но он отгонял её, надеясь, как и любой русский: «Авось пронесет!»
– Так что будете пить? – Женевьева сделала нетерпеливое движение в кресле.
– Кофе, пожалуйста, – быстро ответил заключенный и посмотрел на шахматную доску.
Француженка перехватила его взгляд.
Там стояла позиция из их вчерашней партии. Виктор разыграл вариант, рекомендованный классиком Ароном Нимцовичем, смысл которого заключался в блокадном давлении на черные поля в центре доски.
– А Вы неплохо вели партию! – Виктор тронул рукой белые фигуры. – Я думаю, что…
– Да, я занималась в студенчестве шахматами, – перебила его Женевьева, – играла за команду Сорбонны, мечтала попасть в национальную сборную, но…увы, работа, карьера вышли на первый план. Пришлось бросить.
Она помолчала, потом чуть подвинула доску в сторону Одинцова и сказала:
– Хочу узнать, где я вчера ошиблась? Почему проиграла?
И, увидев нескрываемое облегчение в глазах русского, добавила:
– А потом мы решим – подавать твое дело о драке с Темплером в суд или оставить право наказания за администрацией нашей тюрьмы.
Она говорила медленно, тщательно подбирая слова, но было видно, что разговор на этом языке с заключенным доставляет ей если не радость, то какое-то удовлетворение.
В такие минуты, вероятно, память быстро возвращает человека на годы назад, в этом конкретном случае – в её студенческую молодость. Женевьева изучала русский не только в университете, она покупала у букинистов шахматные книги, авторами которых были советские гроссмейстеры, и читала их примечания к партиям.
Виктор чувствовал, что француженка начинает с ним какую-то свою игру. Он вспомнил, как Лёха не раз в камере шепотом говорил, что от начальницы нужно держаться подальше, потому что среди заключенных о ней ходили самые разные слухи.
Она была непонятна. И – непредсказуема.
– Ну что ж, чему быть – тому не миновать! – бодро ответил Одинцов, и наклонил голову к доске.
Он быстро восстановил фигуры в исходную позицию и стал ход за ходом повторять вчерашнее сражение с Женевьевой.
– О! Русский маэстро запомнил всю партию со мной? – доброжелательная улыбка залила лицо француженки. – Какая честь! – закончила она с некоторой иронией.
– Вы здесь не при чем, – несколько холодно ответил Виктор, – просто все партии сеанса как бы автоматически отпечатываются в памяти, и на следующее утро я могу восстановить любую из них.
– Это невероятно! – воскликнула Женевьева, откинувшись на кресло. – Я не верю!
– Хорошо, давайте пари! – вдруг неожиданно для себя предложил Одинцов.
– Какое пари? – наклонилась грудью на край стола начальница.
– Что я могу показать Вам все партии сеанса.
– Неужели? На что будет пари?
– Если я выигрываю, меня выпускают из карцера!
Женевьева рассмеялась:
– Деловой подход! Хорошо, я согласна! Только сначала – мою партию и ошибки в ней!
– Отлично! – удовлетворенно произнес Одинцов и принялся дальше воспроизводить ходы француженки.
– Вот здесь, на пятнадцатом, черными сделана первая неточность…при переходе из дебюта в миттельшпиль…Вы напрасно разменяли своего слона на коня белых, – Виктор, не спеша, вернул фигуру противницы назад, – надо было сыграть вот сюда…
Женевьева внимательно следила за перемещениями на шахматной доске: пальцы русского как-то по-особенному легко, но вместе с тем цепко брали фигуры и пешки, быстро ставили их на черно-белые клетки, возвращали обратно – словом, производили тот самый процесс, который игроки называют подробным анализом партии.
Взгляд Виктора летал между деревянной доской на столе и лицом Женевьевы, Одинцов внимательно наблюдал, какое впечатление производят его манипуляции на француженку, и порою специально «подкручивал» сюжет партии, давая простор своей фантазии; иногда женщина протягивала руку и, молчаливо возражая, делала свой ход, предлагала альтернативный вариант. Который тут же опровергался русским.
Женевьева хмурилась при этом, но все же сдерживала внутреннюю гордыню, все больше проникаясь уважением к мастерству оппонента.
Виктор левой рукой подносил чашку с кофе ко рту, делал пару маленьких глотков, не прекращая ни на секунду анализа партии.
Наконец, они подошли к заключительному удару белых фигур, после которого француженка в гневе сбросила фигуры на пол.
– Здесь уже всё, партию не спасти, – мягко убеждал Одинцов нежданную ученицу, которая упрямо искала шансы на ничью, – я мог выиграть несколькими путями.
Женевьева недоуменно взглянула на Одинцова:
– Так что? Неужели я проиграла пятнадцатым ходом? Из-за неправильного размена?
– Да, именно так. После этого ваша партия медленно, но неуклонно катилась «под откос».
– Под чего? – переспросила француженка.
– К финишу, – поправился Виктор, – печальному…
И улыбнулся.
В эту секунду на столе начальницы мягко зажурчал ручейком небольшой телефон, стоящий с краю.
– J’écoute?[33]33
J’écoute? – Слушаю? (фр.)
[Закрыть] – Женевьева взяла трубку, с полминуты молчала, слушая собеседника, потом что-то быстро проговорила и положила ее на аппарат.
– Bon! – после некоторой паузы произнесла женщина. – Теперь продемонстрируйте свою память!
– Хорошо! – в тон ответил ей на русском этим же словом Виктор. – Начнем с доски, что была рядом с Вами.
И Одинцов быстро стал показывать партию с Мишелем Лернером. И попутно рассказывал Женевьеве о фокусе двух заключенных.
Та рассмеялась:
– Неужели так все было, как в фильме «Если наступит завтра?»
– Точно так, только наоборот. Но идея – одна и та же. Там в роли обманщицы выступала героиня, а у нас вчера – двое зэков.
Когда Виктор объяснил француженке свой замысел со взятием пешки на проходе, и продемонстрировал, как ему удалось его исполнить, та пришла в восторг.
– А я из-за своей партии ничего не поняла, – почему Темплер так разозлился? – губы Женевьевы широко раздвинулись, обнажая в улыбке идеально ровный ряд белых зубов. – Однако, из-за этого пострадал твой друг.
Виктор хотел засмеяться вместе с начальницей и тут же осёкся.
– Как это? – облизнул он пересохшие губы.
– Кто-то утром бросил в твоего спящего товарища свинцовой чушкой. Сейчас он в тюремном госпитале.
Одинцов резко встал со стула.
– А ты не спеши. Сядь! Мы еще не закончили беседу! – свинцовая завеса закрыла зеленый цвет оливок в глазах женщины.
Виктор повиновался.
– Ну, показывай остальные партии, – тонкие губы снова поехали в стороны, – иначе ты проиграл пари…
– Нет, я не хочу, – Одинцов смотрел Женевьеве в глаза.
«Пошла ты… Будь что будет… Развлекаловка закончилась…мать твою!» Француженка словно прочла мысли заключенного.
Тонкие пальцы потянулись к темной кнопке на краю стола.
Дверь приоткрылась, выглянула секретарша.
Женевьева отдала распоряжение, и спустя минуту тот же негр-охранник привел Одинцова к знакомой железной двери холодного карцера.
– *А' gauche! – Налево! (фр.)
– “J’écoute? – Слушаю? (фр.)
* * *
Часы ожидания превратились в вечность.
Виктор, сжав руками виски, лежал на деревянной койке карцера. Свежий ветерок с воли задувал через окно камеры запахи весны, где-то недалеко щебетали птицы, а ему было плохо, как никогда.
В обычной жизни мы часто не замечаем страданий наших друзей, а если видим и чувствуем их, то нередко – как-то отстраненно, вскользь, затухающе…
В экстремальных условиях, например, на войне, боевое братство имеет совсем другой смысл, другой вес. В людях просыпаются неведомые ранее черты: мужество, самопожертвование, взаимовыручка; даже раненые не хотят уходить с поля боя, чтобы не подводить своих товарищей. Заключение на чужбине – тоже своего рода экстремальная ситуация. И там слово родного русского языка рядом – словно глоток воды в жаркой пустыне.
Душа Виктора рвалась в тюремный госпиталь.
«Что там с Лёхой? Жив ли вообще? Он так неподвижно лежал на своей койке. Будто бы не дышал. Сволочи…»
И кисти рук Одинцова непроизвольно сжимались в кулаки.
В середине дня звякнул замок, открылась тяжелая дверь, негр поставил на пол камеры пластмассовую тарелку с крышкой и закрытый стаканчик с жидкостью.
Виктор приподнял голову и тут же снова опустил ее.
Есть почему-то не хотелось.
«Что же придумать? Что?? Как мне узнать о Лёхе? Знать бы, как дело повернется…эх!»
Рядом зазвучал визгливый голос Темплера. Француз был недоволен качеством принесенной еды.
«Скотина… была б моя воля – засунул бы тебе в пасть ту крысу… и заставил сожрать… Баран фиолетовый, родит же Земля уродов, ходят такие по ней, воруют, насилуют, убивают, и – хоть бы что…
Вот сидит рядом со мною, вроде как мы с ним одинаковые. Карцер у обоих. Надолго ли, вот вопрос? Начальница что-то смолчала, какой срок мне здесь тянуть».
Голос Темплера смолк.
Виктор прислушался. Сосед орудовал ложкой, шумно втягивая ртом вермишель из пластмассовой тарелки.
Одинцов покосился вниз.
Из-под крышки стоящей на полу тарелки доносился аромат супа быстрого приготовления.
«А не объявить ли мне голодовку? – пришла в голову неожиданная мысль.
– Точно! Потребую свидания с Лёхой, иначе отказываюсь принимать пищу!»
И Виктор, вскочив с койки, нервно заходил по камере.
Спустя полчаса в коридоре снова послышались голоса. Высокий негр, открыв дверь, посмотрел на русского, потом вниз на нетронутую тарелку, хмыкнул.
На следующий день в камеру Одинцова никто не заглядывал. Виктор слышал, как Темплер получил свою порцию, потом громко чавкал, поглощая пищу.
– Дайте воды, сволочи! – Одинцов забарабанил кулаками в дверь камеры.
Тишина.
Ночью пошел дождь.
Виктор, словно акробат, опираясь ногами на стенки камеры, с трудом долез до тюремного окна, подтянулся на руках, потом снял с ноги тапок, и просунул его между решеток.
Капли влаги падали в стоптанную обувь.
Спустя полчаса тапок лишь промок под каплями, внутри воды почти не было.
Страшно затекли руки и ноги, но жажда была сильнее любой боли. Одинцов уже почти отчаялся и хотел спрыгнуть вниз, как внезапно за окном начался такой ливень, что тапок наполнился за три минуты.
Виктор дрожащей рукой подтянул его к себе и жадно выпил содержимое. Потом снова просунул руку между решеткой, но в этот миг ливень прекратился.
«Все! Хорошего понемножку. Как бы не брякнуться здесь…» – Виктор начал осторожно спускаться вниз, но через мгновение его босая нога все же соскользнула с влажной стены, и он, падая в темноту, не успел сгруппироваться и прижать голову подбородком к груди…
…Яркая вспышка в сознании от удара о бетонный пол.
И – опять мрак, ночной мрак тюремной камеры.
Тишина ее нарушалась лишь шуршанием еще одной четвероногой твари, подобравшейся к лежащему без сознания Одинцову.
Крыса с наслаждением слизывала ручеек крови, извивавшейся по тюремному полу из головы Виктора…
Белый потолок вонзил свой немыслимый свет через тяжело приоткрывшиеся веки.
«Где я?» – первая мысль скользнула в сознании Виктора и передалась по физиологическим механизмам организма к запекшимся губам.
Над ним склонилось лицо женщины.
Оно немного заслонило пронзительный свет и резануло второй, облегчающей МЫСЛЬЮ:
«На этом свете, похоже…»
Женщина внимательно посмотрела на русского, который сутки пролежал без сознания в холодном карцере, и быстро вышла из тюремной медицинской палаты.
Боль медленно покидала организм Одинцова. Три дня он не мог пошевелить головой, врачи прикрепили сзади на затылок специальный корсет, и сиделка-сестра осторожно, с большим трудом, время от времени переворачивала русского заключенного со спины на бок и обратно.
– Где Лёха? Лёха где? – еле слышно шептал Виктор сиделке, молодой француженке с неказистым личиком, в веснушках, со смешно вздернутым вверх маленьким носиком.
– Je ne pari pas russe! – немного испуганно отвечала та, когда кисть Одинцова сжимала её руку, ставящую капельницу, словно требуя немедленно доставить сюда соседа по камере.
Спустя еще два дня, когда боль в голове Виктора отступила окончательно, и он стал приподниматься на постели, в палату, шурша накрахмаленным белым халатом, вошла Женевьева.
– Оставьте нас! – приказала она санитарке.
Та поспешно вышла за дверь.
– Как самочувствие, мэтр? – холодным тоном произнесла начальник тюрьмы.
– Мерси за заботу, в порядке, – взгляд Виктора безучастно скользил по потолку.
– Смотри мне в глаза! – медленно проговорила француженка.
Одинцов приподнялся на постели, подложил под спину широкую подушку и встретился взглядом с тюремщицей.
– Я слушаю Вас…
– Почему ты отказался покинуть карцер? Упрямство? Гордыня? Какое тебе дело до твоего соседа-уголовника? Он просто вор, а ты попал сюда из-за своей горячности. Не понимаю я вас, русских.
– Женевьева… – Виктор впервые назвал начальницу по имени. Та быстро поставила стул рядом с кроватью и села.
– Да?
– Что с моим соседом? Где он? Скажи, я прошу.
Француженка отвела глаза.
У Одинцова задрожали губы.
«Так я и знал!»
Он с трудом справился с собой, стиснул зубы, чтобы не закричать от боли, ненависти, лишь глаза его повлажнели…
– А я сегодня видел странный сон, – внезапно проговорил Виктор, выпрямляясь на постели.
– Что? – недоуменно вскинула брови Женевьева.
– Да. Сон. Будто бы я ухожу на свободу из тюрьмы, зову с собой Лёху, а он не может встать с койки – лежит, покрытый льдом вместо одеяла…
Он помолчал, и, сглотнув слюну, продолжил:
– Я пытаюсь сбить с него лед и ломаю в кровь все ногти… Потом почему-то кладу на эту ледяную глыбу компьютер, да… именно компьютер… ноутбук. И лед начинает таять…
Женевьева с тревогой заглянула в глаза Одинцову.
– Не волнуйтесь, я не сошел с ума. Всего лишь рассказываю сон.
– Странный сон, – тихо проговорила француженка.
– Так что? Кто его? Темплер?
Женевьева кивнула.
Она сама не ожидала от себя такого поступка. Прийти в тюремную палату к русскому заключенному – это было грубое нарушение этикета, негласных правил, царящих в системе наказаний Франции.
Но её, так много времени посвятившей в юности изучению тайн чуда-игры под названием шахматы, привлекал этот русский мастер, она чувствовала в нем родственную душу.
К тому же он был внешне симпатичен, высок, строен, по-детски открытый взгляд его серо-голубых глаз резко контрастировал с теми частыми темно-маслянистыми, похотливо-хитрыми взорами ее соотечественников, с которыми она ежедневно сталкивалась на улицах Парижа.
Виктор издал короткий стон и откинулся на подушку.
– Он его ножом? Или чушкой, как ты сказала в кабинете?
– Мне сначала доложили так. Потом выяснилось, что кроме синяка на голове у него была перерезана артерия…
Одинцов вытер ладонью вспотевший лоб.
– И что будет Темплеру за это?
– Ничего. У него и так пожизненное.
Виктор помолчал и глухо произнес:
– Но почему… почему же, когда лед растаял…. от ноутбука…, я взял его за руку и мы вышли из тюрьмы. Вместе. И он сказал мне: «Смотри, Витек! Наша Москва!»
Почему??
Женевьева молчала.
– Где он сейчас? – Виктор посмотрел ей в глаза. – В морге?
– Да.
– И долго он там будет находиться?
– Пока родные не заберут. Если через год этого не произойдет, его похоронят на кладбище для неопознанных трупов.
Одинцов закрыл лицо руками.
Пауза.
– Да кто заберет! – воскликнул он. – У Лёхи никого же не было из родных. Родители умерли, а жена ушла, и вряд ли захочет тратить столько денег на то, чтобы забрать его в Россию!
Женевьева молчала.
– А я, идиот, даже не знаю, как его фамилия! – ошеломленный такой догадкой, растерянно проговорил Виктор. – Все Лёха, да Лёха…
Он вопросительно поднял глаза на Женевьеву.
– Серов его фамилия, – ответила та и внезапно положила свою тонкую кисть на запястье русского:








