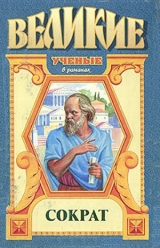
Текст книги "Чаша цикуты. Сократ"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
За дверью послышался шум. Перикл пошёл выяснить, в чём причина шума, и увидел, что вестовой Антикл не впускает к нему Ксантиппа, его старшего сына.
– Ты посмотри! – закричал Ксантипп, увидев отца. – Этот рыжий цербер[51]51
Цербер — в греческой мифологии трёхглавый пёс, страж в царстве мёртвых Аида.
[Закрыть] не впускает меня к тебе!
– Пусть войдёт, – сказал Антиклу Перикл. – Ты правильно исполняешь мой приказ, но я уже свободен.
Перикл вернулся в комнату. Ксантипп поспешил за ним.
– Что ещё? – спросил Перикл, оборачиваясь к сыну, неприятно поражённый тем, что сегодня Ксантипп, как никогда ранее, похож на него. Похожесть детей и родителей – явление обычное, и в этом нет ничего неприятного, тем более поразительного. Но есть сходство и сходство. Ксантипп похож на отца так, как бывает похожа карикатура на оригинал. Если Перикла прозвали Лукоголовым из-за того, что голова у него напоминает формой продолговатую морскую луковицу, то у Ксантиппа голова в два раза меньше, но в два раза длиннее... И так во всём: что у Перикла хорошее, то у Ксантиппа плохое, а что у Перикла плохое, то у Ксантиппа уродливое. Перикл жалел, что назвал сына именем своего отца, прославленного победителя варваров при Микале[52]52
...прославленного победителя варваров при Микале. — У мыса Микале в 479 г. до н. э. греческая армия одержала победу над персами. Отец Перикла Ксантипп был активным политическим деятелем, подвергался остракизму, затем был архонтом, стратегом и отличился в битве при Микале.
[Закрыть]. Завистливый, лживый и склочный Ксантипп не был украшением рода Холаргов, Периклу же постоянно досаждал своей лживостью и никчёмностью.
Ничего хорошего Перикл не ждал от сына и теперь, потому и встретил его с нескрываемой досадой.
– Что ещё? – повторил Перикл свой вопрос.
– Ещё то, – сразу же переходя на крик, начал Ксантипп, размахивая от возбуждения руками, – что деньги у Геродота попросил я! То есть я послал к Геродоту за деньгами от твоего имени... Потому что мы нищие, я и моя жена, потому что ты даёшь нам такую скудную сумму на жизнь, что можно околеть! Ты скряга, ты издеваешься над нами. И я послал к Геродоту человека, потому что был вынужден...
– Успокойся, – сказал сыну Перикл. – Перестань кричать и размахивать руками! – повысил он голос. – Иначе я прикажу вышвырнуть тебя вон!
– Ты уже вышвырнул мою мать ради любовницы, ради этой узкоглазой Аспазии! – закричал в ответ Ксантипп, всё более впадая в ярость. – Ты насильно выдал мою мать за другого, чтобы затащить в постель эту милетскую змею! Ну что ж, давай, разгони весь дом! Но скоро и тебя прогонят, и не только из дома, но из Афин! Вспомни судьбу Фемистокла: как он ни обманывал афинян, они всё же раскусили его и выставили за пределы страны!
– Дурак! – отрезал Перикл, повернулся и направился к скамье, чтобы сесть, а точнее, чтобы отойти подальше от Ксантиппа и таким образом подавить в себе желание ударить его. Правая рука уже сама схватилась за рукоятку меча, и Периклу стоило больших усилий удержать её от рокового рывка. – Идиот! – сказал он садясь. – О чём заговорил! Что ты смыслишь в делах любви и государства? Ведь у тебя лишь одна страсть – набить брюхо и напиться до одурения. Лишь для этого и нужны тебе деньги. А я-то думал, что Геродот затеял против меня какую-то интригу, требуя возвращения денег, которые я у него не брал. А тут, оказывается, вот что: деньги у Геродота обманным путём выудил ты, прикрывшись моим именем. – Перикл вдруг рассмеялся и успокоился. – Ладно, – сказал он. – Я верну Геродоту твой долг. Но это в последний раз, Ксантипп. Ты слышишь? В последний раз! Я и Аспазия тратим столько же денег, сколько и ты с женой. И больше вы не получите. Хозяйство наше способно кормить и одевать нас только при тех затратах, которые я установил. Всё! Убирайся! – потребовал он. – И не забудь сказать об этом твоей жене.
– Сам скажешь, – ответил Ксантипп, направляясь к двери. – Сам скажешь, когда она в очередной раз залезет в твою постель...
Перикл схватил со стола пиксиду[53]53
Пиксида – чернильница.
[Закрыть] и метнул её в сына. Пиксида разлетелась вдребезги, забрызгав чернилами белую стену. Ксантипп успел увернуться от неё и выбежал вон, что-то крича.
Парал, младший сын Перикла от первой жены, был прямой противоположностью Ксантиппу: похожий на мать, он был красив, добр и нежен, любил философию и музыку, не пропускал ни одного собрания, которые устраивала Аспазия для своих друзей – философов, художников, скульпторов, поэтов, музыкантов, среди которых ещё недавно самыми видными фигурами были Анаксагор, Фидий, учитель музыки Пифоклид, художник Полигиот...
Но больше, чем Парала, Перикл любил самого младшего, подаренного ему Аспазией в первый год их любви, – Перикла-младшего, Перикла Незаконного, как он называл его иногда, потому что Аспазия родила его, ещё не состоя с ним, с Периклом-старшим, в законном браке. Перикл видел в Перикле-младшем себя, своё истинное продолжение, полагая, что сын станет со временем доблестным воином и государственным мужем. Такую же судьбу предрекала Периклу-младшему и Аспазия, считая, что судьба воина и государственного мужа – это подлинно мужская судьба. Недаром же в таком качестве она избрала и полюбила Перикла – за воинское мужество и государственный ум.
А первую жену, мать Ксантиппа и Парала, Перикл отнюдь не насильно изгнал из дому и выдал замуж за другого. Он женился на ней после смерти Гиппоника, её первого мужа, от которого у неё был сын Каллий. Несколько лет они жили в любви и согласии, но потом совместная жизнь перестала им нравиться. Они разошлись по обоюдному согласию, после чего Перикл женился на Аспазии, а Арсиноя по совету её опекуна вышла замуж за другого и живёт счастливо. Будь всё иначе – так, как говорил Ксантипп, – никогда бы не быть Периклу стратегом: афиняне не прощают своим вождям дурных поступков.
VII
Сократ и младший брат покойного Фидия Панен нашли доносчика Менона в мастерской плавильщика Хария у подножия Ареопага.
Харий отливал из бронзы пряжки и прочие мелкие украшения по формам, изготовленным Меноном, продавал их владельцу медной лавки на Агоре и делился доходами с Меноном – платил ему его долю за изготовление форм. Поэтому Менон и навещал время от времени мастерскую Хария. Там и посоветовал поискать его Сократу и Панену владелец медной лавки. Конечно, Менона можно было бы застать и дома, но идти к нему домой Сократ и Панен не решились: Менон мог бы поднять шум и заявить, что Сократ и Панен явились к нему в дом, чтобы отомстить за Фидия. Для такого обвинения в доме у него всегда нашлись бы свидетели, а всякая месть сурово преследовалась законом: даже за попытку мести виновные подлежали изгнанию из Афин. Поэтому безопаснее было встретиться с Меноном у плавильщика Хария: дескать, зашли к Харию – по делам, разумеется, у скульптора, каковым всё ещё считался Сократ, и художника Панена всегда могло найтись общее дело с плавильщиком – и случайно увидели Менона.
– А, Менон! – первым обратился к Менону Панен, после того как поздоровался с Харием. – И ты здесь?
Менон хотел было молча уйти, но Сократ, стоявший в дверях, не пропустил его.
– Не торопись, – сказал он Менону. – Раз уж встретились, давай поговорим. Ты скульптор, и я скульптор – разве нам не о чем потолковать?
Панен давно знал Менона: он, как и Менон, много лет проработал вместе с Фидием: Менон – в качестве скульптора, Панен – как художник. Впрочем, Менон пришёл к Фидию уже здесь, в Афинах. Панен же начал работать вместе с братом ещё в Олимпии, где Фидий создавал Зевса. В Олимпии Фидий доверил младшему брату расписать окружавшие трон Зевса барьеры. Панен изобразил на них атланта, державшего свод неба, Геракла, Тесея, Перифоя. Фидий поклонялся мрамору, дереву, слоновой кости, золоту, самоцветам, а Панен – мелосской земле, аттической глине, понтийскому синопсису, атраментуму... Какие счастливые времена были тогда и какие горькие наступили теперь!
Знал Панен и литейщика Хария, вольноотпущенника, за помощью к которому обращались многие скульпторы, когда надо было отлить из бронзы мелкую деталь. Знал Хария и Сократ. Так что их появление здесь выглядело вполне обычно.
– Менон спешит, и поэтому мы поговорим сначала с ним, – сказал Харию Панен. – А ты, надеюсь, угостишь нас вином, Харий? Мы шли к тебе через холм, и нас мучит жажда.
– Могу угостить лишь молоком, – ответил Харий. – Кто дышит парами расплавленного металла, тот утоляет жажду молоком, а не вином.
– Согласны на молоко, – сказал Сократ, – хотя молоко – это пища младенцев, а не напиток для мужчин. Но будь по-твоему, неси молоко.
– И для тебя, Менон? – спросил Харий.
– Не надо, – ответил Менон. – С тобой потом не расплатишься.
– Напрасно так говоришь, – обиделся Харий. – По-моему, ты даже злоупотребляешь моей щедростью. Я плачу тебе вдвое больше, чем платят другие плавильщики, – ты это знаешь.
– Но не от щедрости, а из боязни, что я кое-что знаю о твоих тёмных делах, Харий.
– А кто меня втянул в эти дела? Разве не ты, Менон?
– Хватит вам! – остановил перебранку Менона и Хария Сократ. – У вас ещё будет время разобраться в ваших делах. Сейчас же поговорим о наших. Но не присесть ли нам? Мы шли через холм, и у нас устали ноги. Да и жажда мучает, – напомнил Харию об обещанном молоке Сократ.
– Что вам надо? – спросил Менон, когда Харий вышел. – Если вы думаете, что удастся запугать меня, то ошибаетесь: завтра экклесия примет решение о моей безопасности, потому что благо государства дороже чести одного мошенника.
– Но это завтра, – сказал, приближаясь к Менону, Панен. – А сегодня я могу убить тебя!
– Остановись! – встал между Паненом и доносчиком Меноном Сократ.
Менон выхватил из горнила железный щуп и прижался спиной к стене, готовый дать отпор Панену. Панен плюнул себе под ноги и отошёл к скамье, на которой стояли пустые тигли. Столкнул несколько тиглей со скамьи и сел, набычившись и сжав на коленях тяжёлые кулаки. Панен был художником, но руки у него были как у каменотёса. Такими руками можно выжимать из камней воду.
– Присядь и ты, – предложил Менону Сократ, сам усаживаясь на толстое бревно, отгораживавшее угол, куда Харий сбрасывал шлак. – Панен тебя не тронет, – пообещал он. – Правда, Панен?
Панен промычал что-то в ответ, но остался сидеть на скамье.
Менон, не выпуская из рук щуп, присел на другой конец бревна.
– Менон, – спросил Сократ, подвинувшись к нему, – во сколько же талантов золота ты оценил жизнь Фидия? В один, два или три? Ведь на одеяние Афины Парфенос было отпущено из казны сорок талантов золота. И наша богиня Афина стоит вся в золотом одеянии. Нет на статуе такого места, кроме лица и рук, которое не было бы покрыто золотом. Всё это видели, всё это знают. Значит, золота на ней ровно столько, сколько надо. Я прав?
– Да, золота на статуе ровно столько, сколько надо, – ответил Менон. – Но не столько, сколько было отпущено из казны.
– Ты хочешь сказать, что из казны было отпущено лишнее золото?
– Да.
– И это лишнее золото похищено?
– Ты сам всё понял, не стоит спрашивать.
– А с тем золотом, что на Афине, всё в порядке? Это именно то золото, что было отпущено?
– Конечно. Другого золота не было, – ответил Менон, не совсем, кажется, поняв, о чём спросил его Сократ.
– А как можно узнать, что на Афине именно то золото, что было выдано из казны? Ведь оно было расплавлено, перелито в другие формы, его ковали, растягивали, шлифовали. Оно совсем теперь не похоже на то, что было раньше. Золотая монета превратилась в цветок, слиток – в шлем, груда браслетов – в обруч щита.
– Конечно, оно теперь не похоже на то золото, что было раньше, но это – то самое золото.
– Почему же?
– Потому что другого не было!
– А если бы другое всё-таки было, его можно было бы теперь найти в одеянии Афины?
– Как? – удивился Менон.
– Не знаю как, – улыбнулся Сократ. – Но и ты тоже не знаешь этого?
– Не знаю.
– А не то же это самое, как если бы мы наполнили кувшин водой из двух источников, а потом попытались бы отделить воду, взятую из одного источника, от воды, которую взяли в другом?
– Пожалуй, что то же самое, – согласился Менон.
– И вот если бы кто-то вынес из мастерской часть золота, то можно было бы сказать, что вынесено золото полиса или какое-то другое?
– Нельзя.
– Фидий вынужден был отдавать часть золота плавильщикам, что бы те, расплавив его и затем смешав, получили золотой лист определённого цвета. Ведь если смешивать жёлтое золото и красное, можно получить золото необходимого цвета. Верно?
– Верно. Вот и Харий этим иногда занимается.
– Иногда в золото для этой цели добавляют другие металлы.
– Об этом все знают.
– Но чаще в золоте уже имеются примеси других металлов.
– Да, их добавляют в золото ювелиры, у которых мы покупаем золотые вещи.
– Стало быть, если мы взяли две вещи, одну из жёлтого золота, другую из красного, расплавили их и смешали, получив слиток, отличающийся по цвету как от первой вещи, так и от второй, то никто не посмеет утверждать, что мы добавили в слиток другой металл?
– Конечно.
– А если бы мы во время плавления добавили в тигель какое-то количество другого металла, то могли бы мы потом узнать, что другой металл добавлен?
–Могли бы, – ответил Менон. – По весу. Тогда слиток получился бы тяжелее, чем две расплавленные вещи.
– А если бы мы заведомо отлили из тигля такое количество чистого золота, какое составляет добавка из другого металла? Могли бы мы по весу определить, что добавлен другой металл?
– Не могли бы.
– А по цвету?
– Пожалуй, тоже не смогли бы.
– Это тем более невозможно было бы сделать по прошествии какого-то длительного времени, верно?
– Верно.
– Итак, о хищении золота мы можем судить лишь тогда, когда его стало меньше, чем было. Скажем, было двадцать талантов, а осталось девятнадцать. Можно с этим согласиться?
– Можно. К тому же я ничего другого не утверждаю, – вскинул голову Менон. – Золота на одеяние Афины было потрачено меньше, чем отпущено из казны. А разница похищена.
– И это всё, что ты утверждаешь?
– Да.
– А если окажется, что золотое одеяние Афины весит ровно столько же, сколько было отпущено золота из казны на изготовление этого одеяния? Что ты скажешь тогда, Менон?
Менон встал. Встал и Сократ.
– Тогда тебе придётся сознаться в том, что ты лжец, – подсказал он Менону ответ.
– Я сам видел, как Фидий уносил из мастерской золотые пластины и вещи! – закричал Менон. – Он уносил их тайно! Он заворачивал их в тряпицу и тайно уносил!
– Но ты не видел, как он их приносил, – спокойно сказал Сократ. – Стало быть, если ты не видел, то ты и не знаешь, приносил он их или не приносил. А ведь мог принести обратно, Менон. Подумай. Мог бы?
– Мог бы. Но я этого не видел!
– Правильно. Поэтому ты не можешь утверждать, что Фидий не приносил золотые пластины и вещи обратно. Не можешь!
– Ну, не могу, – согласился Менон. – Зато я могу утверждать, что он их уносил!
– Уносил, а золота осталось ровно столько же, сколько и было. Стало быть, приносил обратно. Ведь золото не тыква, само не растёт, – засмеялся Сократ.
– А кто тебе сказал, что золота осталось столько же, сколько было отпущено?
– Об этом скажут те, кому доверено взвесить одеяние Афины.
– Доверено? Кем? – Менон испуганно завертел головой. – Кем доверено? Когда будут взвешивать?
– Завтра, Менон. Но тебя туда не допустят: Афина не может обнажаться перед лжецами и доносчиками.
Пришёл Харий и принёс кувшин молока. Пока Сократ и Панен, охая от наслаждения, пили холодное молоко, Менон не попрощавшись ушёл.
– Я кое-что слышал, – признался Харий. – Но вот что я должен вам сказать: сегодня следовало бы особенно тщательно охранять вход в Парфенон.
VIII
Это случилось на четвёртом году тридцать седьмой Олимпиады: некто Килон, знатный афинянин и победитель тридцать пятой Олимпиады, скучая от безделья, отправился в Дельфы и попросил у бога оракул. Жрецы Пифийского храма в ответ на его просьбу и богатые подношения принесли ему такое прорицание: на величайшем празднике Зевса Килон овладеет афинским Акрополем. Килон позвал толкователей-эксегетов[54]54
Эксегеты (экзегеты) – должностные лица в Афинах, ведавшие исполнением религиозных обрядов, в том числе обряда очищения убийц. Назначались обычно в количестве трёх человек.
[Закрыть], и те сказали ему так: «Во время Олимпийских игр ты захватишь Акрополь и станешь тираном Афин».
Килон дождался начала игр в пелопоннесской Олимпии, попросил у тестя, мегарского тирана Феагена, отряд вооружённых людей, собрал своих сторонников в Афинах и захватил Акрополь. И всё, наверное, было бы так, как предсказала Пифия, если бы не одно обстоятельство: эксегеты сказали, что величайший праздник Зевса – это пелопоннесские игры в честь Зевса Олимпийского, тогда как Пифия, надо думать, подразумевала под величайшим праздником Зевса Диасии величайший праздник Зевса Милостивого, который справлялся не в Олимпии, а в Аттике и в другое время. Словом, Килон неправильно выбрал срок для совершения задуманного. И потому, едва он со своим отрядом поднялся на Акрополь, возмущённые афиняне сбежались со всего города и окрестных полей и окружили Акрополь. Вскоре афинян заменили вооружённые отряды, которыми командовали архонты. Осада Акрополя длилась несколько дней. Осаждённые жестоко страдали от голода и жажды. Килону удалось бежать. Его же приверженцы, оставшиеся на Акрополе, вошли в храм Афины и сели у алтаря богини, моля её о защите. Архонт Алкмеонид Мегакл, командовавший вооружёнными отрядами афинян, повелел вывести сторонников Килона из храма, пообещав не причинить им вреда. Когда же приверженцы Килона покинули храм, Мегакл велел их умертвить. Тем самым он нарушил своё обещание и осквернил алтарь великой богини. Это было страшное святотатство, за которое род Алкмеонидов подлежал позорному изгнанию из Афин. Первое изгнание Алкмеонидов из Афин было совершено Солоном, второе – Писистратом, третье – Клеоменом, царём Спарты, которому удалось поднять на восстание афинян около пятидесяти лет назад.
Перикл – потомок Алкмеонида Мегакла по матери, которая была племянницей Алкмеонида Клисфена. Спартанцы требуют четвёртого очищения Афин от осквернителей богини – и, стало быть, изгнания Перикла. Впрочем, о последнем они открыто не заявляют: глупо было бы рассчитывать на то, что афиняне примут решение об изгнании Перикла: с ним связаны все значительные победы Афин за последние пятнадцать лет, с ним же они, несомненно, связывают и надежду победить Спарту, если война будет развязана. Неполное изгнание Алкмеонидов – вот что важно для Спарты; неполное изгнание рода осквернителей алтаря Афины – вот причина войны, и среди этих причин – несчастное родство Перикла с Алкмеонидами. Война будет поставлена ему в вину в случае неудач. Сами эти неудачи будут приписаны ему, и тогда вопрос о его изгнании или отстранении от должности стратега решится сам собой. Тогда спартанцы победят. Вот в чём коварство и дальновидность царя Архидама...
Экклесия выслушала спартанских послов и после выступления нескольких ораторов отвергла требование об очищении Афин. Решение это было обосновано тем, что осквернение алтаря Афины совершено более двух веков назад, что уже умерли несколько поколений Алкмеонидов и что ныне живущие не могут отвечать за преступления далёких предков. В то же время, говорилось в решении народного собрания, требование Спарты не может считаться правомочным до тех пор, пока спартанцы сами не очистятся от скверны, которой они запятнали себя после убийства илотов на Тенаре.
Рамфий, Мелесипп и Агесандр, послы Лакедемона, посовещавшись, сняли своё требование об очищении Афин от Алкмеонидов, расценив решение экклесии как справедливое, и заявили следующее: «Спартанцы желают мира, и мир будет, если Афины признают независимость эллинов». Иными словами, они потребовали признать право эллинских городов, входивших в Афинский морской союз, на полную независимость. После этого заявления послов ораторы выстроились у Камня в длинную очередь. Ораторы-демагоги и ораторы-аристократы мало чем отличались в своих речах друг от друга: и те и другие требовали немедленно начать войну со Спартой ради блага афинян, хотя видели перед собой разных афинян: демагоги видели бедных афинян и обещали им богатую военную добычу, аристократы же видели перед собой богатых афинян и обещали им избавление от бремени налогов, если государство обогатится за счёт всё той же военной добычи. Но ни кожевенник Клеон, ни канатчик Евкрат, ни аристократы Писандр и Ферамен ничего не говорили народу о том, что с ним станется, если война со Спартой будет проиграна.
Когда очередь ораторов у Камня иссякла, слово взял Перикл. Экклесия, плохо слушавшая предыдущих ораторов, притихла: что бы ни говорили о Перикле сплетники и клеветники, он – первый человек в Афинах. И мудрость афинской демократии заключается в том, что экклесия не принимает решения, не выслушав Перикла.
– Политэ! – обратился к народному собранию Перикл. – Чтобы принять решение о войне, не требуется ни большого ума, ни большого мужества. В любом случае принять такое решение легче, чем вести войну. А военное счастье переменчиво. И тот, кто сегодня желает начать войну с пелопоннесцами, при первой же военной неудаче станет кричать о том, что войну надо прекратить. Но война, афиняне, как камень, сброшенный с горы, – её на полпути не остановишь. Исход войны нельзя предвидеть, так же как проникнуть в человеческие мысли.
Экклесия, разгорячённая воинственными речами Клеона и Писандра, зароптала.
Перикл ожидал этого, выдержал длительную паузу и бросил народу другую, более приемлемую для него мысль.
– Но нам не следует уступать пелопоннесцам! – выкрикнул он на одном выдохе и увидел, как мысль упала на благодатную почву и мгновенно взошла бурными криками одобрения и рукоплесканиями. – Лакедемоняне давно замышляют против нас недоброе! – добавил он с тем же воодушевлением. – Мы предлагаем им переговоры, мирное решение всех споров в третейском суде, а они бряцают оружием. Они хотят нами повелевать! – Народное собрание разразилось рёвом негодования, обращённым к пелопоннесцам. – Посольство царя Архидама, находящееся здесь, требует от нас, чтобы мы признали независимость эллинов. Это нечто большее, чем то, что они требовали раньше. А раньше они приказывали нам снять осаду и предоставить свободу взбунтовавшейся Потидее, признать независимость Эгины, отменить мегарские постановления... И вот теперь они приказывают нам предоставить независимость всем эллинам. Независимость от кого? – Перикл повернул лицо в сторону спартанского посольства: – Независимость от Афин?
– Да, от Афин! – ответил ему кто-то из послов Спарты.
– Но это ложь, афиняне! – снова обратился к собранию Перикл.
– Афинский морской союз – это союз эллинских полисов не только с Афинами, но и со всеми другими эллинскими полисами. Это союз эллинов с эллинами! И если рухнет этот союз... Если рухнет этот союз, – повторил Перикл громче, – рухнет весь эллинский мир! Любой варвар перещёлкает нас порознь, как орехи! Погибнет нечто, что было создано мудростью и трудом всех эллинов. Вот и решайте теперь, что лучше: могущий эллинский союз или независимость всех эллинов, которая обернётся для них неминуемой гибелью!
– Союз! – закричала в ответ экклесия. – Эллинский союз!
– Итак, мы решительно отвергаем требование Пелопоннеса! Голосуете ли вы за это, афиняне? – спросил Перикл.
Над Пниксом взметнулся лес рук.
– Мы не желаем идти на уступки и скорее объявим Лакедемону войну, чем сделаем хоть одну уступку по приказу! Так?
– Так! – закричала многотысячная экклесия. – Так!
– Значит, ты на нашей стороне? – спросил Перикла Клеон, стоявший внизу у Камня.
Перикл не ответил ему и продолжил речь:
– Теперь, афиняне, сопоставим наши силы и силы Лакедемона. Послушайте: пелопоннесцы – земледельцы, земля их кормит, и они не могут оставить её надолго, чтобы воевать в другой стране; у пелопоннесцев нет богатой казны, и, стало быть, у них не хватит средств на ведение длительной войны; флот Пелопоннеса ни по своей выучке, ни по своей мощи не может сравниться с нашим могучим и опытным в боевом деле флотом; если же они нападут на нашу землю по суше – а только такого нападения и следует ожидать, – то мы нападём на них с моря, и тогда опустошение даже части Пелопоннеса будет для них важнее и губительнее, чем для нас – опустошение всей Аттики. Мы можем потерять Аттику и жить на островах. Но где будут жить наши противники, потеряв Пелопоннес? Мы победим в предстоящей войне, афиняне! Мы победим!
Экклесия ликовала. Нo Перикл оставался на Камне и, значит, хотел ещё что-то сказать, хотя экклесии казалось, вероятно, что он уже всё сказал.
– И вот наш ответ послам из Лакедемона, – снова заговорил Перикл, когда народное собрание успокоилось. – Мы открываем мегарцам наш рынок и гавани, если лакедемоняне также перестанут изгонять чужестранцев, то есть нас и наших союзников, что, кстати, соответствует нашему договору с Лакедемоном. Мы признаем и независимость союзников, поскольку мы признали уже такое право при заключении договора, если лакедемоняне также предоставят право своим городам управляться по их усмотрению, а не по произволу лакедемонян. Мы также готовы, согласно договору, подчиниться решению третейского суда. Итак, войны мы не начнём! Но в случае нападения лакедемонян будем защищаться! Это справедливый и достойный нашего города ответ, афиняне! Мы будем достойны наших предков и станем всеми силами противодействовать врагу, чтобы передать потомству нашу державу такой же великой и могущественной, как ныне! Вот наш ответ Лакедемону, афиняне! Согласны ли вы со мной?
Экклесия проголосовала за ответ Перикла. Но собрание на этом не закончилось: когда удалились послы Лакедемона, на Камень поднялся Гликон, оратор, друг Писандра и Ферамена, и выступил в защиту доносчика Менона. Меной, сказал он, подал донос на Фидия, заботясь о сохранности казны Афин и, стало быть, о благополучии всего народа, а потому должен быть поставлен под защиту всего народа и в награду за смелость освобождён от повинностей и наказаний даже в том случае, если вина Фидия не будет доказана. Гликон предложил также взвесить золотое одеяние Афины, чтобы установить истину, а виновных в смерти Фидия привлечь к суду Ареопага.
Народное собрание приняло сторону Гликона и утвердило всё, что он предложил. Доносчик Менон был поставлен под защиту государства, а Перикл, чьим умом и трудами держалось это государство, покинул Пникс с пощёчиной – так оценил последнее решение экклесии Сократ. Но война Лакедемону не была объявлена. Эта победа Перикла перевешивала его неожиданное поражение, нанесённое Гликоном. Перикл это понимал. Понимал он также и то, что война отодвинута лишь на время, что Лакедемон уже вынул из ножен меч вероломного Ареса[55]55
...меч вероломного Ареса. — Арес – в греческой мифологии бог коварной, вероломной войны в отличие от Афины Паллады – богини войны честной и справедливой.
[Закрыть] и теперь не остановится. Безрассудная ненависть Лакедемона к Афинам так велика, что пелопоннесцы, утратив разум, отвергают всё то общее, что связывало их веками с эллинами Аттики; иные даже не хотят называть себя эллинами, придумывают себе новые названия, иначе, чем афиняне, произносят греческие слова, заимствуют и переделывают на свой лад слова других народов, чтобы этим отличаться от афинян, изобретают новые обычаи, уверяя, что это их старые обычаи, и поклоняются другим богам. Всё это нелепо и трагично, ибо это – начало гибели прекрасного эллинского мира. Внутренняя вражда погубила уже многие народы...








