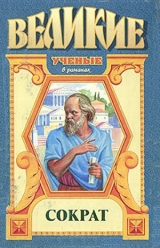
Текст книги "Чаша цикуты. Сократ"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Пир длился до утра. Домой Перикла провожали Софокл и Сократ. Потом их догнал Гиппократ[106]106
Гиппократ (ок. 460—377) – основатель научной медицины. Он написал ряд сочинений по разным разделам и отраслям медицины. Основной принцип Гиппократа в лечении – следовать природе, и лишь если сама природа не даёт исцеления, прибегать к хирургии. Гиппократа интересовали также философия и общественные науки. Он автор трактата «О климате и об отношениях воды и суши». Гиппократ придавал большое значение влиянию на человеческий организм климатического фактора.
[Закрыть], молодой врач, приехавший недавно в Афины с острова Кос. Гиппократ был гостем Софокла, и потому Софокл представил его Периклу.
– Как ты лечишь? – спросил его Перикл. – Травами, соками, колдовством, заклинаниями?
Гиппократ покраснел, но ответил с достоинством:
– У всякой болезни есть естественная причина. Я нахожу эту причину и устраняю её.
– Вот и славно, – сказал Перикл. – Полечил бы меня. Что-то болит в груди.
– Я это заметил, – ответил Гиппократ. – Ты постоянно прижимаешь к груди руку. И вот мой первый совет: прекрати ночные бдения и пусть твои друзья пируют без тебя. Софокл старше тебя, но сух и изящен. Сократ здоров, как молодой бык. А ты устал.
– Да, я устал, – согласился Перикл. – Никогда я не ощущал такой усталости, как сейчас. Пойдём со мной, – предложил он Гиппократу. – Я расскажу тебе о моих недугах.
– Я сам хотел предложить тебе мою помощь, – ответил Гиппократ.
XIX
Ксантиппа встретила мужа миролюбиво, хотя он и пропировал всю ночь. Это было странно, противоречило обыкновению. Ксантиппа это понимала и сама постаралась объяснить Сократу столь неожиданную перемену в своём поведении.
– Говорят, что на пиру у Софокла был Перикл и что ты провожал его до дома, – сказала она. – Вот и попросил бы у него какой-нибудь службы для себя, а то мы совсем обнищали.
– В следующий раз попрошу, – пообещал Сократ, но лишь с тем, чтобы прекратить этот тягостный для него разговор. – Попрошусь в стратеги, например, – решил он попугать Ксантиппу.
– Зачем же сразу в стратеги? – возразила Ксантиппа. – Да и никто не возьмёт тебя на такую большую должность. Какой из тебя стратег?
– Очень даже хороший стратег может получиться. Вот и самосский философ Мелисс был отличным стратегом, и Софокл был стратегом. Правда, Мелисс разбил Софокла.
– Хорошо, что не убил, – вздохнула Ксантиппа. – Стратегов часто убивают. Так что в стратеги не просись.
– Ладно, – согласился Сократ, – не буду.
– А вот попросись-ка ты на место Диния, который был сборщиком налогов на Агоре, – посоветовала Ксантиппа. – Такое доходное место, – произнесла она мечтательно, – всегда вдоволь продуктов...
– Да ведь Диния убили, – напомнил жене Сократ. – В стратеги ты мне запрещаешь идти, потому что стратегов на войне часто убивают, а на место Диния советуешь, хотя сборщиков налогов тоже убивают, и совсем не на войне...
Трудно сказать, чем кончился бы этот разговор, если бы у ворот не появился Ллкивиад с друзьями.
– Сократ! – позвал он. – Подойди к нам! Мы принесли тебе подарок!
Сократ вопросительно посмотрел на Ксантиппу: она всегда противилась его встречам с молодыми богатыми повесами.
– Раз подарок – иди, – и на этот раз изменила своему обычаю Ксантиппа.
Алкивиад распахнул плащ и показал Сократу то, что назвал подарком, – это был небольшой кувшин, ойнохойя[107]107
Ойнохойя («винолейка») – сосуд для разлива вина.
[Закрыть].
– Ты принёс мне вина? – спросил Сократ.
– Только кувшин, – засмеялся в ответ Алкивиад. – Но посмотри, что это за кувшин. На нём изображена корова с телёнком. Видишь?
– Да, вижу.
– И ничего не понимаешь?
– Ничего.
Алкивиад приблизил губы к уху Сократа и прошептал:
– Из этого кувшина Эвангел наливал вино Фидию. Мы нашли кувшин под кучей соломы в камере Фидия. Пустой, конечно. Но это именно тот кувшин. Я хорошо помню его. Раньше мне приносили в нём молоко. Возьми! – Алкивиад сунул кувшин в руку Сократа: – Пригодится.
Шумная толпа молодых людей удалилась вместе с Алкивиадом.
Сократ заглянул в кувшин, понюхал, чем из него пахнет. Пахло вином и прелой соломой. Сократ провёл пальцем по внутренней стенке кувшина. На пальце остался чёрный липкий след. Хотел было попробовать его на язык, но, подумав, не решился, вспомнив о яде, который мог оказаться в кувшине. Рассмотрел рисунок – корову и припавшего к её вымени телёнка. Рисунок был сделан изящно и наверняка принадлежал руке большого мастера. Словом, кувшин был не из тех, какие можно купить у горшечников в любой день на любом рынке. И если уж он запомнился Алкивиаду, то Эвангел помнит его, вне всякого сомнения.
– Что в кувшине? – спросила Ксантиппа. – Неужели этот гуляка догадался принести своему учителю кувшин масла?
– Пока только кувшин, – ответил Сократ. – Масло он принесёт в другой раз, – и добавил, чтоб Ксантиппа не позарилась на пустой кувшин: – Тут рисунок есть, так мне надо перенести его на мраморную плитку.
– Ты получил заказ на новую метопу? – обрадовалась Ксантиппа.
– Да. Ты очень догадлива.
В тот же день Сократ разыскал Гиппократа и спросил его, можно ли по винному осадку на дне кувшина определить, было ли вино отравлено. Гиппократ сказал, что можно, если развести осадок в воде и дать её выпить какому-нибудь очень маленькому животному, например мышке, – для большого животного яда может не хватить.
Кувшин Сократ принёс с собой, а вот мышь пришлось ловить довольно долго. В конце концов им помог Эвангел: купил мышь на рынке у гадалки, предсказывавшей юнцам любовные удачи и неудачи по мышиным внутренностям. О том, зачем Сократу и Гиппократу мышь, Эвангел спрашивать не стал, полагая, вероятно, что она им нужна для тех же занятий, что и гадалке.
Мышь поили через тонкую камышинку. Влили в неё по капле весь раствор. Потом дол го ждали, как он на неё подействует. Мышь осталась жива и бодра в той же мере, как и была.
– Вино не было отравлено, – сказал Гиппократ, – или яд утратил свою силу.
Они оба порадовались за мышонка и отпустили его в сад.
Вторую половину дня Сократ провёл на Агоре. Сначала дремал в мастерской Симона, слушая и не слушая его бесконечные разговоры о предстоящей женитьбе, потом сидел на площади под навесом гончара из Керамика, держал на коленях кувшин, принесённый Алкивиадом, и то ли в шутку, то ли всерьёз продавал его, прося несоразмерно огромную цену. Одни покупатели смеялись и уходили, говоря, что Сократ, вероятно, повредился в уме. Другие оставались, присаживались рядом с Сократом и с любопытством ждали, чем всё это кончится: поколотят ли в конце концов Сократа за его наглость или найдётся сумасшедший, который купит его кувшин. Когда Сократ принялся продавать отдельно кувшин и отдельно нарисованных на нём корову и телёнка, пришёл новый, назначенный вместо Диния сборщик налогов и сказал, что Сократу следует перейти со своим товаром на скотный рынок, поскольку коров и телят на Агоре продавать запрещено.
– А как же быть с кувшином? – спросил Сократ. – Ведь на скотном рынке запрещено торговать кувшинами.
Сборщик налогов, которого звали Эпикл, ответил, что в таком случае Сократу придётся оставить кувшин здесь, на Агоре, а корову и телёнка перегнать на скотный рынок.
– Но ведь я-то один! – возразил Эпиклу Сократ. – Как я могу разделиться на двух Сократов?
– Точно так же, как ты разделил кувшин и нарисованных на нём животных, – ответил Эпикл.
Гончар и все присутствовавшие при этом расхохотались, думая, что Эпикл одержал верх над Сократом.
Смех не смутил Сократа. Он сам рассмеялся и сказал:
– Я согласен. Значит, здесь останется от кувшина то, чем он похож на все другие кувшины, – его кувшинность, а от меня – то, чем я похож на всех других людей. То же, чем этот кувшин не похож на все другие кувшины – вот это изображение коровы и телёнка, – отправится на скотный рынок вместе с тем, чем я не похож на всех других людей. Теперь вопрос: чем же я не похож на всех других людей?
– Своей глупостью, – ответил самонадеянный Эпикл, чем вызвал новый взрыв хохота.
– Значит, всех людей роднит мудрость, а отличает глупость? – спросил Сократ.
– Выходит, что так, – ответил Эпикл.
– Тем и ты отличаешься от всех других людей?
Эпикл нахмурился. Зеваки притихли, ожидая, что он скажет.
– Отвечай! – потребовал Сократ.
– Да, отвечай! – потребовали другие.
– Если мы все отличаемся друг от друга глупостью, то тем самым мы и похожи друг на друга, – нашёл, наконец, что сказать Эпикл.
– Справедливо. Но никто из присутствующих здесь не посылал меня на скотный рынок торговать изображением коровы и телёнка. Только ты один додумался до такого. Вот этим ты по-настоящему и отличаешься от всех нас, Эпикл!
– Попроси у нас что-нибудь за веселье, которое ты нам доставил, – сказали Сократу люди, когда рассерженный Эпикл ушёл.
– Хорошо, – не стал отказываться Сократ. – Налейте мне полный кувшин хорошего вина.
С кувшином вина Сократ пришёл к Периклу. Пришёл не один, а вместе с Софоклом.
– Что вас привело ко мне? – спросил Перикл, когда Сократа и Софокла впустили к нему.
– Прошёл ровно год с того дня, как умер Фидий, – ответил Сократ. – И вот мы решили помянуть его вместе с тобой, выпив по кружке доброго вина. Я принёс тот самый кувшин, из которого пил в последний час Фидий, – объяснил он, ставя кувшин на стол. – В нём осталась даже часть того вина, которое он пил. Правда, я добавил сюда другого, чтобы хватило всем.
– Хорошо, что вы напомнили мне об этом дне, – сказал Перикл. – Это тяжёлый день. Знать бы тогда, что мы видимся с Фидием в последний раз.
– Кто-то знал, – заметил Сократ.
– Кто? – вскинул брови Перикл.
– Не знаю. Но кто-то знал.
– Возможно, сам Фидий, – предположил Софокл.
– Нет! – резко возразил Перикл. – Я думал об этом. Фидий не мог покончить с собой – он хотел оправдаться. Поэтому и от побега отказался. Позови Эвангела, – приказал он вестовому. – Пусть принесёт кружки.
– И Аспазию позови, – подсказал Сократ. – Она готовила для Фидия это вино.
– Да, пусть позовут Аспазию, – согласился Перикл, взглянув на Сократа.
Сократ прочёл в его глазах тревогу.
Аспазия и Эвангел пришли вместе. Эвангел принёс поднос с кружками. Следом за ними появился Гиппократ. Увидев, что Эвангел разливает в кружки вино, Гиппократ сказал:
– Периклу не следует пить – это повредит его здоровью.
– Пустое! – возразил Перикл, беря кружку с вином. – Следует воздать подземным богам и тем, чья исполнилась воля, – он плеснул на пол немного вина. – И выпить за Фидия, чтоб он ждал нас, когда придёт и наша пора, чтобы мы не разминулись с ним в той вечности, миг которой длиннее всей нашей жизни. Жизнь нам даётся на время, а смерть – навсегда... Ты узнала этот кувшин, Аспазия? – спросил он жену.
Аспазия удивлённо взглянула на него.
– О боги! – воскликнул Эвангел. – Неужели тот самый кувшин, который я оставил у Фидия?!
– Тот самый, – ответил Сократ. – И вино то же самое.
– Налей и себе, – сказал Эвангелу Перикл.
Эвангел наполнил вином ещё одну кружку. Руки его дрожали.
– Больше нет, – сказал он, заглянув в пустой кувшин. – Это всё.
– Чтобы помянуть, достаточно и одного глотка, – Перикл капнул вином на ладонь, дохнул на неё, чтобы с теплом дыхания запах вина поднялся к небесам, потом поднёс кружку ко рту и осушил её до дна. – Теперь твоя очередь, – сказал он Софоклу.
– Пусть он услышит меня, – произнёс Софокл, борясь со спазмом в горле. – Пусть помнит обо мне, как я о нём.
– Теперь ты, – сказал Перикл Сократу, когда Софокл выпил.
– Последний смертный вздох – есть первый вздох бессмертия. Пусть так и будет, о Зевс, Вершитель Судеб, – Сократ выпил вино с закрытыми глазами, будто надеялся, что так можно заглянуть в ту тьму, где обитают все бессмертные.
– Аспазия, – окликнул жену Перикл. – И ты скажи.
Аспазия вздрогнула, словно проснулась, повела глазами по сторонам.
– Сказать? – спросила она. – О Фидии?
– Да. И выпей вино.
– Ох, – вздохнула она, – я будто видела его. И слышала. Он мне сказал... Он мне сказал... О боги! – вскрикнула она вдруг, покачнувшись и роняя на пол кружку с вином. – О боги!
Гиппократ успел подбежать к ней и не дал ей упасть.
– Воды! – потребовал он.
Перикл взял кружку с вином у Эвангела и поднёс её к губам побледневшей жены.
– Пей, – сказал он. – Это вино.
– Нет, – прошептала она отворачиваясь. – Нет. Мне дурно, – и оттолкнула руку мужа. Красное вино выплеснулось из кружки на его белый плащ.
– Мы зашли слишком далеко, – сказал Сократу Перикл, когда Гиппократ и слуги увели Аспазию в её покои.
– Пусть так, – ответил Сократ. – Но и мы виноваты в смерти Фидия. Мы можем испытывать других, лишь испытывая себя. Истина добывается большой ценою, потому что мы похищаем её у богов.
– И какой ты сделал вывод из всей этой истории? – спросил Сократа Софокл, прощаясь с ним у своего дома.
– Ты хочешь спросить об Аспазии?
– Да, – признался Софокл.
– Об Аспазии я скажу лишь то, что она не умрёт разом с Периклом. Она хочет пережить его. Перикла она любит меньше, чем свою жизнь. А это не любовь.
– Так кто же убил Фидия, Сократ? – спросил Софокл.
– Афины, – ответил Сократ. – Как бы и нас не постигла та же судьба.
XX
Едва наступило лето, Архидам вновь собрал на Истме многотысячную армию и вторгся с нею в Аттику. Но это было лишь полбеды, потому что одновременно с Архидамом в Аттику вторглась другая армия, более жестокая и бесчеловечная, имя которой – чума. Знающие люди говорили, что она зародилась в Эфиопии, откуда вскоре перекинулась на Египет, Ливию и на все персидские владения. Пощадив Пелопоннес, она вдруг объявилась в Пирее, а затем и в Афинах. Тогда многие стали вспоминать оракул, полученный пелопоннесцами в Дельфах накануне их прошлогоднего вторжения в Аттику. Пифия тогда сказала пелопоннесцам, что если они будут вести войну всеми силами, то одержат победу и сам Бог им поможет. Вспомнили афиняне и другие оракулы, например тот, что был дан им в древности: «Грянет дорийская брань, и мор воспоследствует с нею».
Теперь всё это сбывалось: и война, и чума.
Богатый юноша Фукидид, товарищ Алкивиада, был одним из первых, кто заболел в Афинах чумой, одним из немногих, кто выжил, и единственным, кто описал тогда эту болезнь, чтобы люди легко могли распознать её, если она появится в будущем. Алкивиад привёз это описание в лагерь афинских гоплитов, осаждавших в то время Эпидавр. Среди этих гоплитов был и его учитель Сократ, которому Алкивиад показал свиток с описанием чумы прежде, чем другим. В сущности, это было послание Фукидида к тем, кто находился за пределами Афин и не знал, что происходит в городе.
« Никогда ещё чума не поражала так молниеносно и с такой силой и не уносила столь много жизней, как сейчас, – писал Фукидид. – Врачи не знают её природы, не могут помочь больным и сами становятся её первыми жертвами. Против болезни бессильны и все другие средства. Все мольбы в храмах, обращения к оракулам и прорицателям напрасны. Люди сломлены бедствием и совершенно оставили надежды на спасение.
До вспышки повальной болезни в городе почти не было других заболеваний. Если же кто-нибудь и страдал раньше каким-либо недугом, то теперь всё переходит в эту болезнь. У совершенно же здоровых людей вдруг появляется сильный жар в голове, покраснение и воспаление глаз. Внутри же глотка и язык тотчас же становятся кроваво-красными, а дыхание – порывистым и зловонным. Больной начинает чихать и хрипеть, и через некоторое время болезнь переходит на грудь с сильным кашлем. Когда же болезнь проникает в брюшную полость, начинается тошнота и выделение желчи с рвотой, сопровождаемой сильной болью. Большинство больных страдает от мучительного позыва на икоту, вызывающего сильные судороги. Тело больного не очень горячее на ощупь и не бледное, а с каким-то красновато-сизым оттенком и покрывается маленькими гнойными волдырями и нарывами. Внутри же жар настолько велик, что больные не могут вынести даже тончайших покрывал, кисейных накидок или чего-либо подобного, им остаётся только лежать нагими, а приятнее всего погрузиться в холодную воду. Мучимые неутолимой жаждой, больные, оставшиеся без присмотра, кидаются в колодцы; но сколько бы они ни пили, это не приносит облегчения. К тому же больной всё время страдает от беспокойства и бессонницы. Смерть наступает в большинстве случаев от внутреннего жара на седьмой или девятый день, либо, если организм преодолевает кризис, болезнь переходит в брюшную полость, вызывая изъязвление кишечника и жестокий понос. Чаще всего люди и погибают от слабости, вызываемой этим поносом. Если кто-либо выживает, то последствием перенесённой болезни становится поражение конечностей. Болезнь поражает даже половые органы и пальцы на руках и ногах. Иные слепнут, третьи совершенно теряют память и не узнают ни себя, ни своих родных.
Недуг поражает всех, как сильных, так и слабых, – продолжал читать Сократ послание Фукидида, лёжа в тени палатки, которая мало спасала от жары, – однако самым страшным во всём этом бедствии является упадок духа: едва кто-нибудь почувствует недомогание, тотчас впадает в полное уныние и уже более не сопротивляется, становясь жертвой болезни. Когда люди из боязни заразы избегают посещать больных, те умирают в полном одиночестве. Люди вымирают целыми домами, так как никто не ухаживает за ними. А если кто и навещает больных, то сам заболевает. Но находятся всё же люди, которые, не щадя себя, из чувства чести навещают больных, которых оставили даже родственники. Больше всего проявляют участие к больным и умирающим те, кто сам уже перенёс болезнь. Вторично болезнь никого не поражает. Поэтому выздоровевших превозносят как счастливцев.
Это бедствие отягчается наплывом беженцев из всей страны. Жилищ не хватает. Многим приходится жить в душных временных лачугах. Умирающие лежат друг на друге, там, где их застала смерть, или валяются на улицах и у колодцев, полумёртвые от жажды. Святилища вместе с храмовыми участками, где беженцы ищут приюта, полны трупов. Все прежние погребальные обычаи теперь совершенно не соблюдаются. Каждый хоронит своего покойника как может. Иные при этом доходят до полного бесстыдства: складывают своих покойников на чужие костры и поджигают их прежде, чем люди, поставившие костры, успевают подойти. Другие же наваливают принесённые с собой тела поверх уже горящих костров, а сами убегают».
– Хороши же нравы, – вздохнул Сократ, утирая лицо от пота.
– А ты прочти дальше, – сказал Алкивиад. – Там ещё есть кое-что о нравах.
Дальше было вот что: «С появлением чумы в Афинах, – писал Фукидид, – всё больше начало распространяться беззаконие. Поступки, которые совершались ранее лишь тайком, теперь творятся с бесстыдной откровенностью. Действительно, на глазах внезапно меняется судьба людей: можно видеть, как умирают богатые и как люди, прежде ничего не имевшие, сразу же завладевают всем их добром. Все ринулись в чувственные наслаждения, полагая, что жизнь и богатство одинаково преходящи. Жертвовать собою ради прекрасной цели никто уже не желает, так как не знает, не умрёт ли прежде, чем успеет достичь её. Наслаждение и всё, что как-то может служить ему, считаются сами по себе уже полезными и прекрасными. Ни страх перед богами, ни закон человеческий не могут больше удержать людей от преступлений, так как они видят, что все погибают одинаково и поэтому безразлично, почитать ли богов или нет. С другой стороны, никто не уверен, что доживёт до той поры, когда за преступление понесёт наказание по закону. Ведь гораздо более тяжкий приговор судьбы уже висит над головой, а пока он ещё не свершился, человек, естественно, желает по крайней мере как-то насладиться жизнью.
Таково бедствие афинян: в стенах города народ погибает от чумы, а землю разоряют пелопоннесцы».
– Сначала покажи этот свиток Периклу, – посоветовал Алкивиаду Сократ. – Другим же – лишь в том случае, если позволит Перикл.
– Не всякая истина всякому полезна? – усмехнулся Алкивиад.
– Не в этом дело, мой мальчик, – ответил Сократ. – Дело в том, что среди наших воинов началась моровая болезнь. Перикл думает, не оставить ли нам Эпидавр и не вернуться ли в Афины.
– Это глупая мысль, – сказал Алкивиад. – Здоровые должны сесть на корабли и плыть дальше, чтобы разорять Пелопоннес. А больные пусть возвращаются.
– Скажи об этом Периклу, – не стал спорить Сократ.
* * *
Перикл вернулся в Пирей с пятью триерами, доставив домой больных и раненых. Никто не встречал его, кроме береговой флотской команды.
Аспазия не вышла к нему, лишь поговорила через дверь, сославшись на недуг.
– Что с тобой? – испуганно спросил Перикл, подумав о чуме.
– К счастью, не то, что ты думаешь, – ответила Аспазия. – Я просто плохо выгляжу – очень болит голова. Встретимся за ужином. Тебе же советую хорошо помыться. Потом пусть слуги окурят и натрут тебя маслами. Гиппократ скажет какими. Они нас, кажется, спасают от заразы.
За ужином они не встретились: Перикл вернулся домой слишком поздно. Не увидел он жену и утром: ещё до восхода солнца глашатаи стали созывать народ на экклесию, чтобы не стоять ему на Пниксе под палящими солнечными лучами.
Афиняне встретили Перикла возгласами негодования.
– Это ты втянул нас в бессмысленную войну! – кричали они, пока он поднимался на Камень. – Эта война принесла нам чуму!
– Я ожидал вашего негодования, – сказал Перикл, дождавшись тишины. – Вы раздражены против меня, хотя я не хуже многих других умею решать государственные дела, люблю родину и стою выше личной корысти. Переменился не я, переменились вы. После страшных и внезапных ударов судьбы у вас уже не хватает духу стойко держаться ваших прежних решений. Именно это и произошло с вами, главным образом из-за чумы. Что же касается войны и ваших опасений, что мы её проиграем, то здесь я должен повторить то, что уже говорил: общими усилиями мы отстоим пашу свободу! Испытания, ниспосланные богами, следует переносить покорно, как неизбежное, а тяготы войны – мужественно. Так и прежде всегда было в Афинах, и ныне этот обычай не следует изменять. Проникнитесь сознанием, что город наш стяжал себе всесветную славу за то, что никогда не склонялся перед невзгодами, а на войне не щадил ни человеческих жизней, ни трудов и потому до сей поры он на вершине могущества. Память об этой славе сохранится в потомстве навеки, если даже ныне мы несколько отступим, ведь таков всеобщий ход вещей...
Речь Перикла не успокоила афинян. Решением большинства членов экклесии он был отстранён от должности стратега и главы государства. Вернувшись домой, он узнал, что умер его сын Парал. Аспазия впервые увидела Перикла плачущим. И таким старым...
Через несколько дней умер его старший сын Ксантипп, которого он не любил. Затем умерла сестра.
После похорон сестры Перикл позвал Аспазию и сказал:
– Найди дом, в котором нет больных, и уведи туда нашего сына Перикла-младшего.
– Да, я это сделаю, – ответила Аспазия, но так, словно это было её решение, а не Перикла. – Я это непременно сделаю: в нашем доме уже столько смертей.
В тот же день к Периклу пожаловало посольство афинян с просьбой принять прежнюю должность стратега и главы государства.
– Хорошо, – согласился Перикл. – Я вернусь. Но вы признаете Перикла-младшего моим законным сыном и гражданином Афин.
Просьба Перикла вскоре была исполнена, но поздравить Аспазию и Перикла-младшего с этим решением афинян он не смог: они запёрлись в доме, принадлежавшем Аспазии ещё в ту пору, когда она была гетерой, и ни с кем не общались, на чем настоял ранее сам Перикл.
Возвратившийся из похода Сократ застал Перикла уже безнадёжно больным. Перикл с трудом узнал его.
А узнав, попросил подать чашу с водой. Холодная вода немного облегчила его состояние. Он посмотрел на Сократа с улыбкой.
– Скажи друзьям, что я умираю, – сказал он. – Если не веришь, спроси у Гиппократа.
Гиппократ печально покивал головой.
– Пусть друзья придут ко мне, – попросил Перикл. – Но пусть не очень печалятся. Знаешь, Сократ, я умираю со спокойной душой. Ведь ни один афинянин не надел из-за меня чёрного плаща. Ведь это так?
– Это так, – ответил Сократ, утирая слёзы. – Но ты умираешь под чёрным плащом, который приготовили для тебя афиняне.
Перикл слабо махнул рукой.
– Не говори так, – попросил он. – Все мы неблагодарны. Ещё только учимся искусству благодарности... Как ты думаешь: Фидий ждёт меня? – спросил он, помолчав.
– Ждёт, – ответил Сократ и разрыдался.
– Фидий мне сам скажет, кто убил его. Только мне одному.
– Да.
– А я скажу ему, кто убил меня...
Перикл умер через два дня. Перед смертью он просил друзей позаботиться об Аспазии, Перикле-младшем и Алкивиаде.
Аспазия позаботилась о себе сама: она вскоре вышла замуж за Лисикла.
Перикл-младший был казнён в 406 году до н. э. по приговору народного собрания Афин.
Алкивиад предательски убит в 404 году до н. э. во Фригии.








