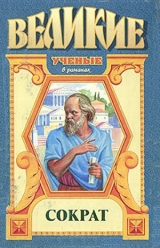
Текст книги "Чаша цикуты. Сократ"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Обвинителем молодых стратегов был демагог Калликсен. Это он потребовал осудить стратегов на народном собрании одним для всех решением. Сократ тогда воспротивился этому: Совет Пятисот, в котором он был тогда эпистатом, председательствующим, признал незаконность требований Калликсена. Но эпистатом, дежурным председателем Совета, Сократ был лишь один день – так полагалось. А уже на другой день Калликсен потребовал, чтобы вместе со стратегами был бы осуждён и Сократ как сторонник стратегов. Сократ не выступил на народном собрании, ему просто не дали слово, но зато выступил по его просьбе Евриптолем, двоюродный брат Алкивиада. И он сказал тогда всё, что следовало сказать: не делайте этого, просил он афинян, не убивайте молодых стратегов. Гораздо справедливее увенчать их, как победителей, венками, чем подвергнуть смертной казни, ослушавшись Калликсена.
Но афиняне были неумолимы. И так же, как молодых стратегов, предали они многих. Теперь – и его, Сократа, который никогда не желал им зла.
– А Перикл-младший, как он вёл себя перед казнью? – спросил тюремщика Сократ.
– В компании с друзьями он умер легко и весело. Помню, он что-то сказал про петуха для Асклепия.
– А, – улыбнулся Сократ, поняв, какого петуха имел в виду Перикл-младший: это он, Сократ, однажды говорил своим ученикам, среди которых был и Перикл-младший, что умирающий должен отдать петуха на алтарь бога врачевания Асклепия, потому что смерть – это выздоровление от всех болей и невзгод, освобождение души из темницы тела. Не такие уж умные слова сказал он тогда и не такие уж весёлые, но говорить их стоит, чтобы вера в жизнь за гробом удерживала нас от страха смерти, который так унижает человека. Все великие и мудрые умирали мужественно, не цепляясь за жизнь, как утопающий за соломинку.
Самого Перикла, двух его сыновей и дочь унесла чума, а последнего сына, которого родила ему Аспазия, убили афиняне. И его племянника Алкивиада они убили и тем самым как бы стёрли память о великом стратеге, о мудром стратеге, лишь для того, кажется, чтобы освободить место тиранам, подобным Критию, или бездарным демагогам, подобным Калликсену и Аниту.
Вскоре после казни молодых стратегов афиняне опомнились, поняли, что совершили чёрное дело под злонамеренную речь Калликсена, который обманул их, утверждая, что и бури не было, и спартанцы при Аргинусских островах не понесли непоправимой потери флота. Калликсена изгнали из Афин, но вскоре он вернулся и умер от голода и вшей, потому что афиняне, ненавидя его за ложь, лишили «огня и воды». Позднее раскаяние. Так и Перикла, свергнув, снова призвали на должность главного стратега, но он был ранен уже в самое сердце чёрной неблагодарностью афинян. И Фидием теперь гордятся, а врагов его презирают... Были у афинян великие государственные мужи, великие художники, скульпторы, воины, поэты, победители Олимпийских игр, но нет в этом пантеоне философов. Софистов они презирают – и по праву, потому что все софисты болтуны, озабоченные постоянно лишь тем, как бы одолеть своего соперника в пустом споре и, выдавая себя за людей многознающих, половчее вытягивать деньги из кошельков людей доверчивых и глупых. Чему же на самом деле верят афиняне? Своим же постановлениям, которые они принимают большинством голосов на народных собраниях, будто большинство мудрее меньшинства, будто сто несведущих лучше одного сведущего. А ещё они верят прорицателям, оракулам, всевозможным глупым приметам, слухам и болтовне демагогов, своих вождей, которых он, Сократ, называет «бобовыми вождями», потому что лишь с помощью бобов, которыми так любят голосовать афиняне, демагоги занимают высокие должности в государстве и мнят себя вершителями человеческих судеб. Нет, не «бобовые вожди» должны править людьми, а мудрые...
Он съел лепёшку. Жевал её долго, чтобы ощутить сладость хлебного зерна, запил водой из кувшина, которая не успела ещё нагреться и приятно освежила его, потом умылся, налив воды в ладонь, утёрся подолом хитона и лёг у стены на топчан, застеленный дерюгой поверх соломы. Солома хорошо пахла и была, судя по всему, свежая, а дерюга постирана и высушена на солнце.
«Отличное ложе, – сказал себе Сократ. – Ты можешь отдохнуть».
Он заложил руки за голову, стал смотреть в потолок, на который падал отсвет из щели над дверью камеры, – за дверью, очевидно, было либо окно, либо просто открытое пространство, на что он не обратил внимания, когда его вели сюда, в камеру. После яркого палящего солнца на холме Ареса сумрак и прохлада подземелья показались Сократу благом. Какой-нибудь софист на этом основании стал бы утверждать, что в тюрьме лучше, чем на воле. Прохладнее и тише – да, но не лучше. Ох не лучше. Впрочем, немного воображения – и вот уже не тяжёлый скальный потолок нависает коряво над тобой, а плывут в свободной тишине высокие облака...
Он давно уже знает эту особенность слов – не только быть связанными в мыслях с тем, что они обозначают, именами и названиями чего они являются, но и вступать в прихотливую связь с другими словами, вещами, явлениями, людьми, не обозначая их, а только напоминая о них, воскрешая в памяти. И вот, когда он подумал об облаках, плывущих над Афинами в высоком синем небе, он вспомнил Аристофана, своего давнего друга, которого нет сейчас в Афинах, потому что его пригласили куда-то, где ставят в театре его очередную комедию. Аристофан моложе его лет на двадцать, но велик и признан давно, и его блистательные комедии разыгрываются в театрах Эллады с непременным успехом. Это прекрасно. Но в этих комедиях нет-нет да и высмеивается он, Сократ, чудак и незадачливый софист, каким он, Сократ, представляется многим. Первую такую комедию Аристофан назвал «Облака». Вот почему Сократ вспомнил об Аристофане, подумав об облаках...
То, что Сократ не признает отечественных богов и развращает молодёжь, не Мелет придумал в своём обвинении. Это даже не выдумка давно озлобившегося на Сократа демагога Анита, «бобового вождя». Афиняне болтают об этом уже давно, потому что эти обвинения вообще касаются софистов, этих бродячих чужаков, которым афинские боги и законы не указ. За это судили и Анаксагора из Клазомен, и Протагора из Абдер. Анаксагор, друг и учитель Перикла, говорил, что мировой материей движет Разум и что, стало быть, мир не нуждается в богах, что солнце – это всего лишь раскалённый камень, а не божественный лик Гелиоса, а луна – только обломок земли. Вся философия для афинян чужестранка, изобретение хитроумных врагов, достойное уничтожения. Афинской философии не существует. Даже Солона, который выдвинулся на роль отечественного философа, они вынудили убежать в Египет. А тут какой-то Сократ, бедняк, оборванец, заявляет, что, познавая себя – ах, ах, какая важная персона! – он познает истину мироздания, что в нём живёт демоний, голос некоего божества, наставляющего его на путь разума и справедливости. И вот ведь ещё какая дерзкая выдумка: будто Дельфийская Пифия сказала, что Софокл мудр, Еврипид мудрее Софокла, а Сократ – самый мудрый из афинян. Какая ложь, какая наглость, какое самомнение!..
Следует изгнать Сократа из Афин, как и всех прочих софистов, и тогда афиняне спокойно займутся своими главными делами – пересудами, сутяжничеством, вымогательствами и крючкотворством. Вот и Аристофан однажды сказал об афинянах горькую правду: «Ваше единственное занятие – сутяжничество». А Лисий... Ах, Лисий, добрый человек. Оратор Лисий написал для Сократа защитительную речь, которую тот должен был, по мнению его друзей, произнести сегодня на суде. В этой речи Лисий льстил афинянам, и уж так льстил, что читать его прекрасно написанную речь было стыдно. Сократ вчера так и сказал Лисию:
– Прекрасная речь, мой Лисий, но для меня неподходящая.
– Как же прекрасная речь может быть для тебя неподходящей? – резонно заметил Лисий.
– А вот так, – ответил ему Сократ, возвращая свиток с речью. – Разве и прекрасные наряды не были бы для меня сегодня неподходящими?
В одном Лисий был прав, сочиняя речь: афиняне любят лесть.
Сегодня Сократ надел новый хитон, но от нового плаща, который подарил ему Критом, отказался, сказав: «Если я мог жить в старом плаще, то и умереть в нём смогу».
Старый привычный плащ. Чёрный. Укрыться им – и умереть...
Хулу на Сократа возводили глупые, сильные, злые, честолюбивые, порочные, трусливые, жадные, ничтожные, продажные – и он смеялся над ними, презирал их, даже ненавидел, клеймя их словами Гомера: перед мудрым Одиссеем глупая чернь должна молчать.
Сначала Сократ обиделся и на Аристофана за то, что тот наговорил о нём в своей комедии «Облака» много вздора и небылиц. Но потом простил Аристофана, а позже крепко подружился с ним, объясняя перемену своего отношения к поэту тем, что тот вывел в комедии не его, не Сократа – философа, любителя мудрости, а софистов, мнимых мудрецов, каковым афинянам представляется порой и Сократ. И всё же с той самой поры, как была поставлена в театре Диониса комедия «Облака», о нём заговорили как о богохульнике и развратителе молодёжи. Это там, в «Облаках», о нём впервые сказано, что он не признает богов Олимпа, а обожествляет облака, что он «проповедник тончайшей чепухи», обучает юношей, как выдать ложь за правду, как выскользнуть из рук кредиторов и поколотить родителей, если те скупы чрезмерно.
Да, таким он мог бы быть, когда б и впрямь был софистом. Но он не софист. Подобно Пифагору, он называет себя философом, любомудром, искателем мудрости, её почитателем. Он ничему никого не учил, а только вместе с другими, беседуя, пытался докопаться до истины, которая, как дар Божий, записана в человеческой душе. А если и учил чему-то, то только тому, как надо учиться и почему, познав себя, человек познает всё мироздание. Он с любовью принимал истину, помогая ей родиться, выбраться из хлама ложных мнений и предрассудков с помощью искусства беседы, которое он называл повивальным искусством, тэхнэ маевтикэ.
Страсть овладеть этим искусством пробудилась в нём давно. Однажды кто-то рассказал ему, что философ Анаксагор утверждает, будто всему в мире сообщает порядок и служит причиной Ум. Сократу это очень понравилось: значит, можно выйти из любого затруднения, если всему причина Ум, рассудил он, а не воздух, огонь, вода, эфир, как говорят другие мудрецы. Размышляя тогда об этом, он пришёл к выводу, что всему причина не просто Ум, а божественный Ум – источник всего. А потому, чтобы познать мир, надо познавать не предметы мира, а их источник, который предшествует им и существует сам по себе как понятие, как принцип, как идея. А вещи, предметы мира потому являются такими, какими они существуют, что причастны этим понятиям, принципам, идеям. Прекрасные вещи причастны прекрасному самому по себе, благие деяния – благу самому по себе, великие поступки – великому самому по себе. И так – всюду и всегда. И в человеке всё обусловлено божественными причинами, а душа его – божественным разумом. И кто познает себя, тот познает божественный разум и всё мироздание. В этом, и только в этом, великий смысл изречения, начертанного в Дельфах на стене храма Аполлона спартанцем Хилоном: «Познай самого себя». Это самый надёжный путь познания. И единственный. Не через пророчества, гадания, приметы, знамения и сны – хотя и этим пренебрегать не надо, – а через познание самого себя, своей причастной божественному разуму души. И человек настолько добродетелен, насколько приобщился к божественной мудрости. Добродетелен Философ. Он стоит между Богом и людьми, погрязшими в невежестве и, стало быть, в пороке. Невежество – самый ужасный порок, потому что является самым страшным оскорблением Бога. А ведь и надо-то всего, чтобы человек вспомнил о прежних знаниях, которыми насытилась его вечная душа в бесконечных странствиях по этому и тому миру, видимому и невидимому... Философия достойна любого трона, а философ – любой короны. Миром должны править знающие...
– А не бобовые вожди! – выкрикнул Сократ и рассмеялся.
XI
Первой навестила его в тюрьме Ксантиппа. Тюремщик разбудил Сократа:
– Уже светает. К тебе пришла жена.
– Хорошая ли погода? – спросил Сократ, поднимаясь со своего тюремного ложа и потягиваясь.
– Хорошая. Всю ночь светили звёзды, да и теперь небо ясно.
– А в каком настроении моя жена?
– Она плачет. Привести?
– Да, приведи. Это моя жена: в хорошую погоду может плакать только она. Но окажи мне одну услугу, – попросил Сократ, – не оставляй меня с женой слишком долго. Никакими словами нельзя изменить погоду, и никакими словами я не смогу утешить жену... Понял ли ты, о чём я тебя прошу?
– Понял, – ответил тюремщик. – Но жену можно утешить иначе, – усмехнулся он. – Или, кроме слов, у тебя для утешения жены ничего нет? Если есть, я стану приводить её к тебе каждый день, но, сам понимаешь, за плату. Много не возьму, – поспешил добавить тюремщик.
– А за то, чтобы выпустить меня отсюда, ты взял бы много? – спросил Сократ. – Во сколько ты оценил бы мою свободу?
– Ты получишь её бесплатно, – сказал тюремщик. – Правда, для этого тебе придётся отправиться на тот свет. На том свете, говорят, лучше, чем здесь. Ты что-то об этом знаешь?
– Скоро узнаю, – ответил Сократ.
Конечно, Ксантиппа плакала. Что ещё могут женщины, когда их настигает беда? Они плачут. Но слёзы ничего не могут изменить. Египтянки собирают свои слёзы по покойникам в прозрачные колбочки, чтобы потом похвастаться перед знакомыми и родственниками, как сильно они скорбят. А некоторые из них, надо думать, доливают в эти флакончики воду, потому что притворщицы и обманщицы. Ксантиппа к таким женщинам, разумеется, не принадлежит. У неё дурной характер, но добрая и честная душа.
Всё осмотрела, обо всём расспросила, попробовала воду из кувшина, отломила кусочек тюремной лепёшки, пожевала и выплюнула, поставила на камень свою корзинку со снедью и снова заплакала.
– Не надо, Ксантиппа, – попросил её Сократ. – Не последний день видимся, ещё наплачешься. Но главное я должен сказать тебе уже сегодня: никуда не ходи, никого за меня не проси, ни перед кем не унижайся, не докучай напрасными требованиями нашим друзьям. Смысл этой моей просьбы в том, что ничто уже не сможет изменить мою участь.
– Дурак, старый мой дурак, – беззлобно запричитала Ксантиппа. – Что ты вбил себе в голову, почему упрямился, не послушался умных советов, отказался от защитительной речи Лисия? Какая участь, какая судьба? Тебя просто подловили, как глупого зайца. А ты полез на рожон. Они только и ждали этого, потому что сами не смогли бы убедить судей в твоей виновности. Ты им так помог, ты так уж постарался, что даже твои сторонники проголосовали против тебя. Архонт-басилевс сказал, когда тебя увели в тюрьму, что ты не философ, а самоубийца. Зачем, Сократ? Зачем?
Когда человек стар, он время от времени думает о смерти, хочет ли он того или не хочет. Ксантиппа тоже уже не молода, но, кажется, мысли о смерти её ещё ни разу не посещали. Хорошо это или плохо – никто не знает. Но вот что важно и несомненно: человек должен понимать, что смерть неизбежна, что это – единственное серьёзное дело в жизни. А Ксантиппа этого не хочет понять. Она думает, что человека уносят в могилу либо болезни, либо раны, но что и болезней и ран, если постараться, можно избежать. И вот он, Сократ, не постарался, хотя мог бы, и в этом виноват. Бедная, бедная Ксантиппа, ты зря суетишься: в том-то и дело, что смерть неизбежна, она существует сама по себе, а то, как она приходит к человеку, не имеет никакого значения. Она должна прийти – и приходит. Вот и всё.
Он сказал Ксантиппе:
– Что толку теперь бранить меня? Это как воду в ступе толочь: нет ни нужды, ни смысла. Нам бы теперь хорошо проститься – вот о чём я подумал. И кое-что обсудить.
– Хорошо проститься? – переспросила Ксантиппа. – Я не поняла. Сейчас проститься, до завтра, или проститься навсегда?
– Навсегда, – ответил Сократ.
– Оймэ! – Ксантиппа прижала руку к сердцу. – Боги, послушайте, что он говорит!
– Можно, я обниму тебя? – спросил Сократ. – Я давно тебя не обнимал.
Ксантиппа, вздыхая, сама подошла к нему, села рядом и обняла, уткнувшись лицом в его грудь.
– Да, так хорошо, – сказал Сократ. – Так хорошо.
Конечно, следовало бы уже теперь сказать Ксантиппе, что ему жаль расставаться с нею, что он всегда любил её, хотя и не всегда жалел, что ему было тепло с нею, уютно жить в одном доме, что ему очень нравилась Ксантиппа-женщина, что он ценил Ксантиппу – хозяйку дома и боготворил Ксантиппу-мать. Так приятно пахнут её волосы – ромашкой и шалфеем, так знакомо бьётся под рукой горячая жилка на её шее. И так неистребимо желание раствориться, исчезнуть в ней или вместе с нею, чтобы ничего больше не знать, ни о чём не думать, только ощущать токи взаимного обволакивания, парения, неразлучного движения в вечность.
– Ты не убивайся, – сказал Сократ, погладив Ксантиппу по голове. – Не надо. Мы и так скоро расстались бы – старость пришла. И возможно, всё было бы и горше, и тяжелее: долгие болезни, долгие страдания, долгие хлопоты... А тут всё случится быстро, без хлопот. Это, конечно, тебя не утешит, но согласиться с этим можно.
Цикуту не выращивают, она сама растёт, и каждый год – в изобилии. По оврагам, в ущельях, на пустырях. Всюду её много. Чего доброго, а цикуты хватает на всех, кого афиняне приговаривают к смерти через отравление. Тюремщики её сами и собирают. Стоит лишь прогуляться вдоль Пникса, под обрывистыми скалами, чтобы наломать её целую вязанку. Здесь же, в тюрьме, её растирают в порошок, заливают водой, настаивают, разливают по чашам сколько надо. В зарослях цикуты пахнет смертью, тлением, от се дурного запаха болит голова, не зря её называют ещё болиголовом. Никто цикуту не ест – ни козы, ни ослы, ни лошади, ни овцы, ни быки. На неё, даже когда она цветёт, не садятся пчёлы. Зато садятся мухи, которые любят гниль и грязь. И люди собирают цикуту, чтобы, приготовив из неё яд, убивать других людей. Впрочем, говорят, что смерть от цикуты – самая безболезненная. Кто выпьет яд цикуты, только и ощутит, как холодеют члены – сначала ноги, потом живот, потом руки, потом холод подбирается к сердцу, и оно останавливается.
Для него ещё чаша не приготовлена, он ещё будет пить вино, пока не вернётся домой «Делиас», священный корабль Аполлона, источающий аромат цветов и благовоний. Вот как получилось: всё самое важное в судьбе Сократа связано с Аполлоном. Он родился в месяце фаргелионе, в один из дней знаменитых Фаргелий, когда эллины празднуют рождение Аполлона. Дельфийская жрица храма Аполлона предрекла ему славу мудреца. Надпись, вырезанная на камнях того же храма и гласящая: «Познай самого себя», стала ключом его философии. И вот теперь Аполлон отсрочил его казнь на целый месяц – ровно настолько, сколько по обыкновению длится плавание священной триеры на остров Делос и обратно.
Смерть мужа не самая главная потеря для женщины, у которой есть дети. А у Ксантиппы их трое: старший Лампрокл, умный мальчик, и двое младших – Софрониск и Менексен. В заботах о них утешится Ксантиппа после его смерти, хотя и нелегко ей придётся с детьми: наследство он оставил ей скудное – старый родительский дом, двух коз, гусей да небольшой виноградник. Конечно, его друзья не бросят Ксантиппу в беде, помогут ей, поделятся всем, что у них есть. Сократ верит в своих друзей – и в тех, которые ему ровесники, как Критон и Симон, и в тех, что ещё молоды, как Платон и Аполлодор.
– Всё же не плачь, Ксантиппа, – попросил Сократ. – Соль твоих слёз, пролитых на мою грудь, прожжёт меня до самого сердца.
– Я уже не плачу, – ответила Ксантиппа, выпрямившись. – Уже совсем не плачу – не осталось слёз. И потому я не переживу тебя. Во мне всё кончилось: слёзы, боль, страхи, желания. Я всего лишь мумия, которая почему-то ещё двигается. Жизнь иссушила меня, Сократ. И всё же твоя смерть – наказание выше всякой меры. Я ничем не досадила ни богам, пи людям, чтобы меня так наказывать.
– Досаждал я, а ты мне помогала, – сказал Сократ – Но досаждал не богам, нет, а только людям, чтобы они постигли божественный смысл жизни. И наказание нам – от людей, а не от богов. Но что от людей, то проходит: и слава и проклятия. А что от богов, то вечно. Вернёшься домой – поцелуй детей. А в другой раз приходи с ними. И не разоряйся на еду для меня. Я просил судей, чтобы меня присудили к бесплатному обеду в пританее до конца жизни, а меня присудили к бесплатному обеду в тюрьме. И тоже до конца жизни. Здесь всего довольно – и воды и хлеба. А больше мне ничего и не надо. Да и друзья, наверное, принесут всякой снеди уже сегодня, так что и тебе с детьми достанется, когда придёшь.
В жизни надо делать всё, что служит жизни, что достигается работой и другими полезными стараниями. Только лень ужасна. Сократ никогда не ленился, как вопреки правде утверждают некоторые. Разумеется, надо выбирать в жизни главное из того, что ты умеешь, к чему тебя призвали боги и природа. Сократ мог бы стать скульптором – когда-то его сам Фидий похвалил за работу; мог бы заняться государственными делами и преуспеть – пробовал он себя и на этом поприще. И тогда у него и у его семьи было бы всё, что так ценят афиняне, – хороший дом, хорошая одежда, обильная и здоровая пища, деньги, украшения, рабы. Но Аполлон призвал его послужить при жизни самой главной музе, высочайшему из искусств, которому он сам покровительствует, – философии. И Сократ это сделал. Правда, богатства у него нет. Но Аполлон и не обещал ему богатства, сытости и роскоши. Добродетельны не богатые, а знающие, потому что только их души чисты.
– Тебе страшно? – спросила Ксантиппа.
– Нет, – ответил Сократ. – Но ты больше не спрашивай меня об этом, чтобы мне не пожалеть самого себя.
– А нас ты пожалел? – принялась за старое Ксантиппа. – О нас ты подумал? Что будет с нами? Нет, я не переживу!
– О вас подумал и я и боги: вы будете жить. И не хуже, чем жили, потому что я был плохим добытчиком, хотя и от вас не требовал многого. Мне достаточно было того, что ты и дети любили меня. А я вас и там, – он поднял лицо к потолку, – буду любить.
– Здесь надо любить! – закричала и снова заплакала Ксантиппа. – На земле надо любить! А любить оттуда – какой прок?
Объяснять что-либо женщине – всё равно что носить воду в решете: сколько ни старайся, ничего не получится. Но женщину можно поцеловать – и это заменит ей все объяснения, все доказательства. Сократ обнял и поцеловал Ксантиппу.
Она снова уткнулась лицом в его грудь, говоря что-то, а потом отстранилась и сказала:
– Конечно, мы любим тебя – я и твои дети. И это всё, что у нас есть для тебя. И вообще всё, что есть. А когда тебя не станет, кого же мы будем любить, что останется от нашей любви?
– Останется память о любви. А это, может быть, больше и важнее, чем сама любовь. Воскресшее в памяти вечно, как душа.
Тюремщик не забыл о просьбе Сократа. Вошёл в камеру и громко сказал, обратясь к Ксантиппе:
– Пора тебе уходить, женщина! Никому из посетителей нельзя находиться в тюрьме слишком долго – это привилегия заключённых.








