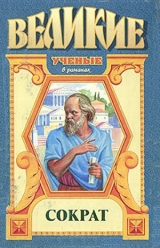
Текст книги "Чаша цикуты. Сократ"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Часть вторая
ЖРЕЦ АГОРЫ
I
Первой проснулась Тимандра. Её сон всегда чуток. Тяжёлый вздох Алкивиада, стон или попытка покинуть ложе для неё всегда были сигналом тревоги. Но разбудил её не Алкивиад. Она поняла это сразу, едва открыв глаза. За дверью, ведущей из спальни в пастаду[108]108
Пастада – гостиная.
[Закрыть], бушевало пламя. Тимандра вскрикнула и повернулась к Алкивиаду. Её любовь к нему была так сильна, что даже теперь, охваченная страхом, она подумала о том, как он прекрасен, её Алкивиад. Её крик не разбудил его. Пламя гудело в нескольких шагах от ложа – там, в пастаде, с треском и грохотом рушился потолок, спальня наполнилась дымом, а он спал, разметав по подушке длинные волосы. Тимандра прильнула к его губам. Он открыл глаза и заключил её в свои объятия.
– Дом горит! – сказала она, готовая умереть, но остаться в его объятиях. – Алкивиад!
И тогда он вскочил, как вскакивают воины, почуяв опасность. В дыму, освещённый красным пламенем, он был похож на бога. Казалось, Алкивиад возник из этого пламени – могучий и прекрасный, но что-то вот-вот мановением ли руки или словом погасит его.
Выход из спальни был только через пастаду. Два верхних оконца были так малы, что выбраться через них наружу было невозможно. Но и к ним уже подобралось пламя; дом, судя по всему, был обложен хворостом.
– Предатели! – яростно закричал Алкивиад. – Будьте вы прокляты!
В следующее мгновение он бросился к Тимандре, схватил её вместе с постелью, завернул в покрывало и ковёр, прижал к себе и кинулся в огонь. В три прыжка он преодолел охваченную огнём пастаду и выскочил во двор. На нём загорелись волосы. Он погасил их руками, бросив Тимандру на кусты лавра. И пока Тимандра выпутывалась из тлеющего кокона простыней и покрывал, Алкивиад накрылся ковром и вернулся в дом, нырнув в пламя. Через минуту он снова был рядом с ней. Теперь он держал в руке меч и был так страшен в ярости, что Тимандра невольно отступила от него.
Он был освещён пламенем горящего дома. И те, кто прятался в темноте, видели его. Но никто из них не откликнулся.
– Бежим, Алкивиад! – сказала Тимандра.
– Уходи! – приказал ей Алкивиад озираясь. – Они тебя не тронут! Беги!
Он был наг. И только пурпурный гиматий, казавшийся почти чёрным, как от запёкшейся крови, был обернут вокруг его левой руки, которую он прижимал к груди, чтобы защитить сердце. Он ждал нападения из темноты. Вертелся волчком, прыгал на шорох, на треск сучьев. Глаза его были полны слёз и горели, словно глаза волка. Мускулы, будто змеи, извивались под кожей его рук и ног. Это был танец на горящих углях, танец в пламени, дикая фракийская пляска.
Копьё беззвучно, как луч, и со скоростью луча скользнуло над кустами, вырвавшись из глубины сада, и вонзилось Алкивиаду в живот.
– Вы трусы! – закричал он, падая на колени и роняя меч. – Вы не воины... Убийцы!
Ухватившись за копьё обеими руками, он попытался вырвать его из тела. Но в это время другое с глухим ударом воткнулось в его спину против сердца. Алкивиад вскинул голову, словно хотел увидеть что-то в небе, среди звёзд, тихо застонал и повалился на бок. Новые копья и стрелы, взметая пыль, ударились в землю вокруг него.
Тимандра, подняв руки, выбежала из-за куста, чтобы умереть рядом с возлюбленным, но убийцы Алкивиада не тронули её. Они исчезли, не рискнув выйти на свет.
Весть о гибели Алкивиада достигла Афин не так скоро, как летит стрела или птица, но и не так медленно, как ползёт змея или черепаха. Из Фригии, из страны матери богов Кибелы[109]109
Кибела – Великая мать, мать богов и всего живущего на земле, богиня плодородия во Фригии. Фригийский культ богини Кибелы был широко распространён во всех странах античного мира.
[Закрыть], где был убит Алкивиад, она пришла под парусами и на вёслах, на торговых и военных судах. Те из афинян, которые были врагами Алкивиада, восприняли её как радостную весть, а те, кто любил его, – как печальную.
Сократ любил Алкивиада. Алкивиад был его воспитанником, учеником, а с некоторых пор и надеждой на возвращение Афинам их прежнего величия, попранного олигархами и Спартой, – величия, которое Афины обрели во времена правления Перикла.
Враги говорили об Алкивиаде: распутник, честолюбец, святотатец, пьяница, изменник, гордец. Друзья Алкивиада видели в нём воплощение всех мыслимых достоинств: красоты, мужества, добросердечия, воинского таланта. Но истина была не в том, что говорили о нём враги и друзья. Она заключалась в том, что знал о нём Сократ: Алкивиад – сплав пороков и достоинств, которыми злоупотребляли и его друзья, и враги, пользуясь им то как щитом, то как мечом для достижения своих целей в этом несовершенном мире: почестей, славы, власти, богатства. Ведь и огонь рождает свет и дым, согревает и обжигает, делает металл мягким, как воск, и прочным, как алмаз. Но можно ли за это восхвалять или винить огонь? В руках доброго он свет и тепло, в руках злого – дым и смерть. Огонь не обладает собственной мудростью, ибо не может познать самого себя. И вот беда Алкивиада, в котором всего было в избытке, кроме мудрости: он не владел ни своими высокими, ни своими низменными страстями. В этом Сократ винил и себя, потому что либо не смог, либо не успел выпутать из тенёт страстей ум Алкивиада, которого доверил ему Перикл...
Пришёл Платон[110]110
Платон (427—347 до н. э.) – знаменитый греческий философ.
[Закрыть] и печалился вместе с Сократом, жалел своего старого учителя, вздыхал, слушал его не перебивая, касался рукой его плеча, гладил, чтобы утешить, держал его чашу с вином, которую принесла Ксантиппа. Сократ то и дело порывался взять чашу, но всякий раз, протянув за нею руку, тут же отводил её и подносил к лицу, чтобы утереть слёзы, забывая о вине. Он вспоминал, словно произносил надгробную речь. Вспоминал о том, как Перикл привёл к нему однажды мальчика Алкивиада, ставшего сиротой, очень знатного и уже избалованного мальчика, сына Клиния, погибшего в бою с беотийцами при Коронее[111]111
В бою с беотийцами при Коронее. — В 457 г. до н. э. афиняне победили беотийцев при Эпофитах, и Беотия вошла в состав Афинского союза. Но в 447 г. до н. э. аристократическая партия завладела городами Херонеей и Орхоменом. Афиняне под начальством Толмида вступили в Беотию, завоевали Херонею, но на обратном пути подверглись нападению и были разбиты около Коронеи. Афиняне вынуждены были отказаться от гегемонии над Беотией, её города стали автономными, и олигархия в них была восстановлена.
[Закрыть]. Род Клиния восходил к Эврисаку, сыну Аякса, героя Троянской войны. Перикл был дядей Алкивиада. Когда он привёл Алкивиада к Сократу, Алкивиаду было пятнадцать лет. Теперь ему исполнилось бы сорок шесть.
– Может быть, я был плохим учителем, но я был ему другом, – сказал Сократ. – Он любил меня.
– Да, – отозвался Платон.
– Да – это о чём? – спросил Сократ. – О том, что я был плохим учителем, о том, что я был ему другом, или о том, что он любил меня?
– Ты спас ему жизнь в бою при Потидее.
Сократ махнул рукой. Он не любил говорить об этом, боясь прослыть хвастуном. Тем более что на его месте, думалось ему, так поступил бы каждый. Ведь позже, в Беотии, в битве при Делии, Алкивиад точно так же спас от гибели Сократа...
Он вспоминал счастливые времена: дружеские пиры, беседы, когда его речи вызывали у Алкивиада слёзы восторга; вздохи раскаяния – когда он, усовершенствовавшись в красноречии, повергал в спорах опытных ораторов и демагогов и возбуждал в народе желание доверить ему свою судьбу.
Он вспоминал о триумфальном возвращении Алкивиада в Афины после вынужденного бегства в Лакедемон и о позоре врагов, оклеветавших Алкивиада перед народом.
– Он был великим стратегом, – сказал Сократ. – И когда б не подлость афинян, он выполнил бы волю Перикла: Карфаген и Ливия, Италия и Пелопоннес давно принадлежали бы Афинам.
– Но ты сам, учитель, отговаривал его от этой затеи и предсказывал, что поход на Сицилию не принесёт пользы Афинам.
– Так и случилось, Платон: Афины не добились победы над Сиракузами и потеряли великого полководца – Алкивиада.
– Как ты мог это предвидеть, если в дело вмешался случай?
– Случай – это зерно: упав на подготовленную почву, зерно прорастает, но гибнет без следа, если упадёт на камни. В те дни, когда готовился сицилийский поход, Афины были благодатной почвой для любого случая, который мог бы помешать замыслам Алкивиада. Ты это знаешь, Платон.
Три стратега были избраны народным собранием для ведения Сицилийской войны: Никий, Ламах и Алкивиад. Никий, храбрейший афинский стратег, был уже старым и рассудительным. Он знал, что любая война чревата двумя исходами: либо победой, либо поражением, а мир – накоплением могущества, и потому делал всё, чтобы задержать выступление афинян против Сиракуз. Украшением его старости было то, что он закончил миром тяжёлую войну с Лакедемоном, которую начал Перикл, и тем заслужил любовь афинян, назвавших желанный мир «Никиевым миром». В случае поражения при Сиракузах он мог бы потерять эту любовь и умереть в позоре.
Ламах был моложе Никия, но старше Алкивиада. Полный сил, он хотел прибавить к своим победам ещё одну, быть может последнюю, перед тем как встретиться со старостью.
Алкивиаду же было немногим более тридцати. Он жаждал славы. Для себя и для Афин. И друзьям и врагам он часто напоминал о клятве, которую каждый афинянин давал в храме Агравла: почитать границей Аттики пшеницу, овёс, виноград и маслину. И говорил: «Там чужая земля, где ничего не растёт». Став стратегом, он растерзал Пелопоннес: разбил войско лакедемонян у Мантинеи, помог аргосцам отпасть от Спарты, уговорил жителей Патр отгородиться от спартанцев Длинными Стенами – и тем обезопасил Афины от нападения с юга, с Пелопоннеса. Казалось, он одерживал победы лишь тем, что появлялся на поле сражения. Но слава Алкивиада отбрасывала мрачную тень, в которой зрел заговор: одни видели в нём врага демократии и будущего тирана, другие – соперника, третьи не верили в его военную удачу и опасались за жизнь своих сыновей, которых он увлекал на погибельный путь, четвёртые были просто трусами, бездарными завистниками чужой славы и врагами военного могущества Афин. Все вместе они вредили Алкивиаду как только могли. Они-то и были той почвой, на которой могло произрасти любое дурное зерно: слухи, клевета, интриги, провокации. Он же был неразборчив в своих увлечениях: любил роскошь, вино, женщин, украшения, был дерзок и легкомыслен. Знатность, богатство, молодость, красота, бесстрашие, удачливость – не они ли подогревали в нём безрассудство? Но и противоположное – низкое происхождение, бедность, уродство, трусость – тоже избавляют людей от дурных поступков. Алкивиад не знал меры. Величие рождает зависть, ничтожество – презрение. Зависть – мстительна, презрение – только брезгливо. Тайна калокагатии – внешней и внутренней гармонии человека, братства судьбы и воли – в познании самого себя. Рукою мудреца, начертавшего на стене Дельфийского храма слова: «Познай самого себя», водил сам Зевс. Но Алкивиад, по его собственным словам, бывал мудр лишь тогда, когда беседовал с мудрецами.
Дурные слухи об Алкивиаде поползли сразу же после того, как он был избран народным собранием главным стратегом. Перемывать косточки великих – любимое занятие толпы. Злонамеренные слухи о них опьяняют толпу, как вино. День славы полководца для толпы – день праздника, но день его позора – день счастья. Когда юный Алкивиад произнёс свою первую речь на Агоре и заслужил бурные рукоплескания, Сократ сказал ему: «До сих пор у тебя были только друзья, теперь же у тебя есть и враги».
Сократ нашёл Алкивиада в Пирее и предупредил его:
– Будь осторожен, опасайся заговора.
– Ты сам видишь, – ответил Алкивиад. – Я забыл, что такое вино и женщины. Я не сплю ночами. Сосчитай триеры, которые стоят у берега. Их сто сорок. Я осмотрел и ощупал каждую из них. Я проверил оружие у пяти тысяч гоплитов, у тысячи лучников и пращников. Я осмотрел всё продовольствие, чтобы не было гнилья и обмана. Каждый день я обращаюсь к войску с речами. Я тороплю всех, но Сиракузы опережают нас, как они уже опередили Афины в морском могуществе. Я работаю для славы Афин и для будущей победы. Кто и в чём может упрекнуть меня, Сократ? Я получил приказ к отплытию, и теперь мне уже никто не помешает.
– Упрекнуть тебя действительно не в чем. Но вспомни великого скульптора Фидия, Алкивиад. Когда он изваял из слоновой кости, золота и драгоценных камней Афину Палладу, прекраснее которой нет в мире и которая затмила собой все чудеса света, когда он был на вершине славы, достичь которой никому не дано, его обвинили в краже золота и заточили в грязную пещеру под Пниксом.
– Фидий был только скульптором, а я – воин. Он держал в руках резец, а я – меч. Я снесу голову каждому, кто оклевещет меня.
– Конечно, ты храбр, мой мальчик, – сказал Сократ. – Но клеветником может стать весь народ. Что ты сделаешь с народом один?
Алкивиад долго молчал, потом отвернулся и, глядя в сторону моря, ответил:
– Я обращусь к другому народу.
– Жажда славы затмила твой ум, – сказал Сократ уходя. – Теперь ты видишь, как ты уязвим.
Отплытию Алкивиада на Сицилию предшествовал Праздник Адониса, когда женщины выносят из дому и выставляют у ворот изображения покойных родственников и оплакивают их, как в день похорон, бьют себя в грудь и поют погребальные песни. Считалось, что начинать военный поход в такие дни – дурная примета. Алкивиад, теряя голос, кричал перед народом на Пниксе: «Почему бы нам не начать с плача, а закончить весельем? Разве лучше начать с веселья и закончить плачем?» Его слушали, с ним соглашались, но уныние не покидало афинян. Жрецы Дельфийского храма Аполлона вынесли из подземелья оракул Пифии, испрошенный афинянами по случаю сицилийского похода Никия, Ламаха и Алкивиада, и истолковали его таким образом, что поход якобы не принесёт Афинам победы. Кто-то поставил на камень даров перед храмом Аполлона богатый подарок, чтобы жрецы именно так истолковали оракул Пифии. Алкивиад был в этом уверен, а народному собранию сказал, что истинный оракул тот, который стоит в Пирее, – могучий флот. Собрание было покорено его красноречием. И тогда случилось последнее, что едва не сорвало Сицилийский поход: кто-то изуродовал десятки герм, отбив у них фаллосы. Гермес почитался у Афинян покровителем героев во время их странствий. Каменные столбы с изображением головы и фаллоса Гермеса устанавливались на перекрёстках улиц и у дорог. И вот оказалось, что покровителю воинов нанесено страшное оскорбление в канун похода на Сиракузы. Чего можно было ждать после такого надругательства? Только гнева Гермеса.
Алкивиад с трибуны Пникса произнёс тогда слова, после которых экклесия разразилась громом смеха и аплодисментов. «О, Гермес! – сказал он, обращаясь к божеству. – Клянусь честью воина, что мы приделаем к твоим гермам новые фаллосы, отрубив их у сиракузян!» Это были кощунственные слова, но никто не обратил на это внимания – так развеселил всех Алкивиад.
Но уже в тот же день поползли слухи и появились свидетели, утверждавшие, что гермы изуродовал во время ночной попойки с друзьями сам Алкивиад. Это была заведомая ложь, но афиняне поверили ей. Алкивиада вызвали в суд, в гелиэю. Суд, однако, не состоялся, потому что в защиту Алкивиада выступили его матросы, гоплиты и лучники, заявив, что без Алкивиада они не тронутся в путь. И тогда экклесия приняла решение судить Алкивиада после войны с Сиракузами, если вина его подтвердится.
Он покидал Пирей с тяжёлой душой. Правильнее было бы требовать немедленного суда, чтобы уплыть очищенным. Но таков, кажется, был коварный замысел его врагов: отнять у него славу после победы в Сицилии. Сократ предсказывал худшее: он уверял Алкивиада, что его попытаются убить до окончания войны, чтобы он не смог вернуться в Афины победителем с огромной, преданной ему армией, – ведь тогда даже боги окажутся на его стороне.
Судебное разбирательство – долгое дело. Армия не могла ждать. Экклесия издала приказ выступать. Алкивиад подчинился обстоятельствам и приказу. К тому же он надеялся на скорую победу.
Луна не набрала и двух четвертей своей полноты, как из Италии пришла весть, что афинский флот благополучно достиг вражеского берега, захватил с ходу Регий и начал штурм сицилийской Катаны. Сообщалось также, что во всём первенствует Алкивиад.
Отсутствие в Афинах Алкивиада развязало руки его врагам. Доносы на него посыпались, как из рога изобилия. Более других усердствовал демагог Андрокл, злейший враг Алкивиада, человек бесчестный, крикливый, завсегдатай винных лавок на Агоре, оборванец и парасит, которого так часто изгоняли из знатных домов, где устраивались симпосии[112]112
Симпосий – у древних греков и римлян – пирушка.
[Закрыть], что он потерял счёт тумакам. Но один тумак, полученный от Алкивиада, он запомнил на всю жизнь и теперь мстил ему за это. Андрокл собрал вокруг себя рабов и метэков, которые в один голос утверждали, что разрушение герм – дело рук Алкивиада. Один из метэков, некто Деоклид, написал под диктовку Андрокла донос, в котором уверял суд, что лично видел, как Алкивиад разбивал священные гермы. Толпы жадных до слухов людей бродили за Андроклом и Деоклидом по Агоре и обступали их, как только они забредали в какой-нибудь портик, требуя, чтобы они повторили свой рассказ о преступлениях Алкивиада, – каждый хотел услышать страшное обвинение собственными ушами. Толпа замирала от ужаса и ревела от мстительного восторга, едва Андрокл или Деоклид открывал рот. Ведь обвинение грозило Алкивиаду смертной казнью.
В один из тех дней Сократ протиснулся сквозь толпу и стал перед доносчиками.
– Узнаете ли вы меня, Андрокл и Деоклид? – спросил он, обратясь к ним.
Все, кто видел Сократа, узнали его, но были очень удивлены, услышав, что он заговорил не своим голосом, подражая комическому поэту Фриниху, – нараспев и картавя. Многие засмеялись, другие притихли, ожидая, чем Сократ объяснит свою забавную игру.
– Да, я узнаю тебя, Сократ, – ответил Андрокл. – Ведь тебя в Афинах каждая собака знает.
– Стало быть, узнаешь? – сказал Сократ всё тем же голосом. – И твой друг Деоклид тоже?
– Я тоже, – ответил Деоклид, – в Афинах есть только одно такое чучело, как ты.
Толпа ожидала, что Сократ отплатит Андроклу и Деоклиду ещё более хлёстким оскорблением – язык у Сократа был подвешен лучше, чем у Андрокла и Деоклида, – но Сократ добродушно улыбнулся, сел на каменную скамью, отложил свой сучковатый посох, сбросил с ног педилы и спросил уже своим голосом, растирая отёкшие ступни:
– Как же вы меня узнали? Ведь голосом я подражал Фриниху – это все подтвердят.
– Да, он подражал поэту Фриниху! – закричали из толпы. – Мы сразу узнали голос Фриниха!
– Так как же вы меня узнали? – повторил свой вопрос Сократ.
– У нас есть не только уши, но и глаза, – ответил Андрокл. – Если бы ты запел даже как сирена[113]113
Сирена – в греческой мифологии полуптица-полуженщина, своим пением завлекавшая моряков в опасные места, где они погибали.
[Закрыть], мы всё равно узнали бы в тебе Сократа. Твою рожу ни с какой другой не спутаешь. Борода у тебя как метла. Нос как тыква, – продолжал он под одобрительный смех собравшихся. – А свой хитон ты не менял, кажется, со времён Перикла. Ведь недаром же говорят, что Фидий ваял с тебя Силена, козлоногого сатира.
– Ты польстил мне, Андрокл, – сказал Сократ, – кого ваял Фидий, тот обрёл вечность. Но не будем препираться по пустякам. А теперь скажи мне, узнал бы ты меня, если бы я подошёл к тебе в темноте и заговорил голосом Фриниха?
– Нет, не узнал бы, – ответил Андрокл.
– А если б я при этом молчал?
– Тоже не узнал бы.
– Твои слова правдивы, – похвалил Андрокла Сократ. – А что скажешь ты? – обратился он к Деоклиду. – Ты тоже узнал меня, потому что увидел?
– Да, тоже.
Толпа недовольно зашумела: разговор становился неинтересным. Она ждала острой стычки между философом и демагогом, а тут началась мирная беседа людей, которые, казалось, во всём согласны друг с другом. Некоторые отделились от толпы, отправившись искать другие развлечения.
– А теперь скажи мне, что такое ненависть, – продолжил Сократ, когда шум за спиной утих. – Не есть ли это жгучее желание мести, Андрокл?
– Да, это жгучее желание мести, – согласился Андрокл. Глаза его при этом засверкали гневом: ведь перед ним сидел не просто философ Сократ, а учитель и друг Алкивиада. Надо было показать это собравшимся, и поэтому Андрокл добавил: – Ненависти достоин также тот, кто защищает врага афинян.
– Я это знаю, – сказал Сократ. – Но ненависть ослепляет, не так ли?
– Это благородное ослепление, Сократ.
– Ненависть неразборчива в средствах, Андрокл.
– Как неразборчивы в своём коварстве враги, Сократ.
– Ненависть может увидеть врага там, где его не было, и не увидеть там, где он был. Ненависть видит то, что помогает мести, и не видит того, что ей мешает.
– Боги прощают это.
– Боги прощают многое, но не прощают ложь, Андрокл. Стал бы ты клясться богам, что узнал меня, если бы я подошёл к тебе молча в полной темноте? Ты уже ответил на этот вопрос, но теперь ты можешь отказаться от прежнего ответа, если тебе наплевать на истину и на богов. Или ты лгал, говоря, что не смог бы узнать меня в темноте?
– Я от прежнего ответа не отказываюсь, – ответил Андрокл.
– А ты, Деоклид? – спросил Сократ.
– Я тоже.
– Ты так же правдив, как и твой друг Андрокл. Это делает тебе честь, – похвалил Деоклида Сократ. – А теперь, правдивый человек, повтори те слова, которые произносил Алкивиад, сокрушая гермы, – попросил он.
– Никаких слов Алкивиада я не слышал, – сказал Деоклид.
– Стало быть, ты узнал его не по голосу, Деоклид?
– Я видел его, как вижу сейчас тебя, – сказал Деоклид. – Да, я видел его! – повторил он громко, чтоб слышали все. – Я видел, как он разбивал гермы, как он наносил удары мечом! Я видел его лицо. Он был пьян и улыбался! Он волочил за собой свой пурпурный гиматий!
– Это чудесный ответ, Деоклид, – так же громко произнёс Сократ. – Он предполагает в тебе такое мужество, о котором никто из нас и не помышляет.
Толпа загудела от недоумения: Деоклид обвинял Алкивиада в смертном преступлении, а Сократ, учитель и друг Алкивиада, приветствовал его.
– А теперь, оставаясь столь же правдивым, Деоклид, скажи мне: как могло случиться, что Алкивиад и его друзья, замыслив заведомо преступное дело и выбрав для его исполнения ночь, вышли на улицу с факелами?
– Кто сказал тебе про факелы?! – возмутился Деоклид. – Ни о каких факелах я не говорил! Они были без факелов!
– Прости, Деоклид, – засмеялся Сократ и встал. – Конечно, без факелов. Ведь при свете факелов пурпурный гиматий Алкивиада показался бы тебе чёрным. Впрочем, оставим гиматий. Ты разглядел лицо Алкивиада. Он улыбался при лупе! Ты так написал, Деоклид?
– Да, я разглядел его при луне. Луна была яркая, и я всё видел! И пурпурный цвет гиматия!
– Благодарю тебя, Деоклид. И тебя, Андрокл. Теперь я знаю истину, – сказал Сократ, поднимая с земли свой посох и надевая педилы. – Беседа с вами на многое открыла мне глаза. О большей услуге я не смел и мечтать.
Толпа расступилась. Сократ не оглядываясь, направился к зданию суда, гелиэе. Там он обратился в коллегию, которая занималась рассмотрением доноса Деоклида на Алкивиада.
– В ночь осквернения герм, – сказал он Симмию, в чьих руках находился донос Деоклида, – не было луны.
Сократ возвратился домой и объявил свой жене Ксантиппе, что сегодня он одержал победу, которая стоит гекатомбы, жертвоприношения в сто быков, но поскольку у них нет и одного быка, то он согласен съесть перепёлку.
– Он говорит о гекатомбе! – сокрушённо запричитала Ксантиппа. – В твоём доме если и есть что-нибудь, чего наберётся сотня, то это лишь блохи!
Сократ не стал перечить жене: он знал её сварливый характер, но знал и то, что у неё отходчивое и доброе сердце. Пошумев вдоволь, Ксантиппа всё же отправилась на рынок и принесла дюжину перепелов, которых обжарила над углями на вертеле, поливая красным вином.
– Если б меня так щедро поливали вином, – сказал Сократ, наблюдая за стряпнёй жены, – я согласился бы стать перепелом.
– Ты видишь только то, что я поливаю птиц вином, но не замечаешь, что они на вертеле и над огнём! Желая лучшего, надо помнить и о худшем, – ответила Ксантиппа.
– Ты права, – сказал Сократ. – И мудра, как твой муж.
– Ох, ох, умру! – засмеялась Ксантиппа. – Это ты-то мудр?
– Но ты забыла, что сказала обо мне дельфийская Пифия! Она сказала, что я всех мудрее.
– Это потому, что она не была за тобою замужем, – ответила Ксантиппа.
Деоклид был изгнан из Афин, а Андрокл убежал сам. Но остался один человек, который без труда мог бы оговорить Алкивиада. Этим человеком был оратор Андокид, брошенный в тюрьму под Пниксом за то, что он якобы сам принимал участие в разрушении герм. Улика против него многим казалась неопровержимой: одна из самых известных герм, воздвигнутая возле его дома, оказалась неповреждённой, тогда как все другие гермы в округе были разбиты. Из этого следовало, по мнению судей, что Андокид пощадил ближайшую к его дому герму, чтобы отвести от себя подозрение в надругательстве над народными святынями. А то, что он мог надругаться над ними, ни в ком не вызывало сомнения: Андокид ненавидел демократию – таково было общее мнение о нём. Спасти Андокида от казни могло лишь одно – признание в совершенном преступлении. А поскольку Андокид не смог разбить столько герм в одиночку, то от него требовалось, чтобы он назвал своих сообщников. Среди этих сообщников – этого жаждала кровожадная толпа, и Андокид не мог не знать об этом – непременно должен был оказаться и Алкивиад. Андокиду сразу же поверили бы, потому что он, человек знатный, не раз участвовал в пирушках вместе с Алкивиадом и хвастался этим, как, впрочем, и многие другие, желавшие покрасоваться в лучах славы Алкивиада.
Сократ не знал, виновен или не виновен Андокид. Скорее всего, он не был причастен к разрушению герм, но, чтоб доказать это, потребовалось бы много времени, а суд над Андокидом должен был состояться через два дня. Исход его был предопределён: если Андокид не признается в совершении святотатства, его казнят как нераскаявшегося преступника; если же он назовёт себя виновным, его простят как раскаявшегося преступника. Скажет ли он в первом случае ложь или правду – чаша с цикутой не минет его; скажет ли он во втором случае ложь или правду, он спасёт себе этим жизнь. И вот: правда лишь тогда чего-то стоит, когда ей верят потому, что она – правда, а не потому, что она желанна для судей; ибо желанной может быть и ложь. Сократ пришёл к выводу, что Андокид признает себя виновным независимо от того, правда это или ложь, и таким образом спасёт свою жизнь! И погубит многих других. В том числе и Алкивиада. Возможно, что его в первую очередь.
Сократ не мог встретиться с Андокидом: за тюремную дверь до суда никого не пускали. Но если б Сократ даже смог добиться встречи с ним, то это плохо кончилось бы для него самого: его заподозрили бы в сговоре с Андокидом и он мог бы оказаться в числе его соучастников. Был лишь один способ повлиять на Андокида: написать по просьбе самого Андокида защитительную речь для него. Так поступали многие подсудимые – обращались к философам и ораторам, чтобы те сочинили для них речь. Но Андокид сам был известным оратором и ни в чьей помощи, кажется, не нуждался. Тем более в помощи Сократа, который подобные речи ни для кого ранее не составлял.
Ощущение собственного бессилия делало Сократа несчастным и лишало сна. Так было и теперь. И хотя он всегда просыпался рано, до восхода солнца, на этот раз он вышел из дому ещё раньше – восток над Акрополем едва лишь начинал светлеть. По узким и тёмным улочкам он обошёл Пникс и вышел на дорогу, которая вела на старые пастбища, где паслись конские табуны Алкивиада. Дорога прижималась к отвесной стене Пникса, в которой ещё во времена Тесея были выдолблены пещеры для скота. Теперь это было мрачное место, – потому что в одной из пещер была устроена тюрьма – место заключения и казни преступников. В её тёмных камерах томились и умирали несчастные, от которых отвернулись боги и люди. По ночам сюда приходили родственники казнённых и уносили трупы, здесь дожидались последнего свидания со смертниками жёны, друзья и дети приговорённых. Место праведного суда было и местом плача. В другие дни Сократ обходил тюрьму стороной, но сегодня он остановился у входа в неё и окликнул стражника – скифа Тевкра. Этот скиф ещё мальчиком был куплен Периклом, прислуживал ему и после смерти Перикла получил свободу. Тевкр не помнил ни своей страны, ни своих родственников и потому, обретя свободу, остался в Афинах, получив должность стражника, которую исполнял ревностно, как и подобает скифу. Он помнил Сократа ещё по тем дням, когда был жив великий Перикл.
– Хайре, Тевкр, – сказал Сократ, когда тот вышел из-за каменной ограды.
– Хайре, – ответил Тевкр, протирая кулаком глаза. – Что тебя привело сюда в такую рань?
– Я рад, что ты не забыл меня, Тевкр.
– Да, – сказал Тевкр. – Я помню, как ты лечил меня целебными лепёшками, когда у меня разболелся живот.
– Спасибо твоему животу за то, что он напомнил обо мне твоей голове, – безобидно пошутил Сократ. И спросил: – Многих ли ты отравил за ночь, Тевкр?
– Ты ведь знаешь, что это не моё дело, – нахмурился Тевкр. – Я лишь охраняю вход. Яд смертникам подают другие. Дамат, например. Но сегодня и у Дамата не было работы – все прежние смертные приговоры уже приведены в исполнение, а нового приговора пока нет.
– Об этом, кажется, не стоит жалеть, Тевкр?
– Да, не стоит, – согласился Тевкр и спросил, указав на тюрьму: – Здесь кто-нибудь из твоих родственников или друзей, Сократ?
– Никого, – ответил Сократ, присаживаясь на камень.
– Зачем же ты пришёл сюда? – спросил Тевкр. – Да ещё в такую рань.
– Мне не спится, и я решил побеседовать с тобой, Тевкр. Ведь сейчас в Афинах только мы и не спим.
Тевкр тоже сел, опершись на рукоять меча.
– Я не верю, что только это привело тебя сюда, Сократ, – сказал он.
– Что же другое? – спросил Сократ.
– Ты хочешь о чём-то узнать. Все приходят сюда за этим. Но на твоём поясе я не вижу кошелька, в котором звенели бы драхмы.
– Старая дружба дороже денег, – пристыдил Тевкра Сократ. – К тому же я не собираюсь что-либо выведать у тебя. Я хочу лишь попросить тебя об одной небольшой услуге.
– Хорошо, проси, – неохотно согласился Тевкр. – Ради старой дружбы... Твои лепёшки мне тогда очень помогли. Я умею быть благодарным.
– Хорошо, Тевкр. Боги вознаградят тебя за это. А вот и моя просьба: скажи оратору Андокиду, что Алкивиад вернётся с победой. Он уже взял Катану и начал осаду Сиракуз.
– Но об этом я и сам знаю, – усмехнулся Тевкр зевая. – Об этом ещё вчера кричали на Агоре.
– Конечно, – сказал Сократ. – Но Андокид об этом не знает. И когда он спросит тебя, кто тебе об этом сказал, ответь ему: «Сократ».
– Это всё?
– Это всё. Теперь ты видишь, как мала моя просьба, Тевкр. А вот тебе в награду одна мудрость, которую я нашёл среди многих на стенах Дельфийского храма: «Нет выбора между жизнью и смертью: они бегут в одной упряжке. Но есть выбор между достойной и постыдной жизнью, между достойной и постыдной смертью».
– Зачем мне эта мудрость, Сократ? – спросил Тевкр.








