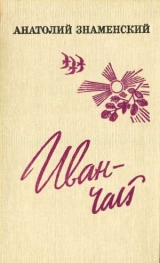
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
В волостном правлении – большой избе, срубленной из обхватных сосен, почерневших от времени, – горела тусклая лампа с мутным, засиженным мухами стеклом.
У стола Андрей увидел Полупанова, который сидел в переднем углу и в присутствии волостного старшины и урядника чинил допрос молодому низкорослому парню с всклокоченной головой и испуганными глазами.
– Ага, доставили? – глянув на вошедших и на минуту оставив в покое прежнюю жертву, властно спросил Полупанов. – Живо, квартиру ему! Да чтобы у русского! К инородцам ставить запрещаю!
Урядник исчез, а Полупанов сразу же забыл о ссыльном и вновь взялся за парня. Андрей слушал, присев на широкую скамью у дверей.
– Значит, не знаешь? – нажимал становой и совал на край стола ближе к ответчику лист пожелтевшей бумаги. – Читать умеешь? Так вот, гляди: «Е-гор О-парин…» Видишь, крестом руку приложил? Понятно, зырянская твоя голова?
Парень ясно видел на бумаге жирный лиловый крест в каком-то списке и крутил головой: как видно, ему не хотелось ничего понимать из того, что говорил становой.
– Я тебя спрашиваю: Егор Опарин – твой отец или нет? Или, может, вот его или этого?
Парень потерянно переступил с ноги на ногу.
– Мой отец…
– Так я тебе говорю, что за его поручительство мы обязаны взыскать неустойку с его, сиречь твоего, дома. Понимаешь или нет?
Этого-то ответчик как раз и не хотел уяснить. Становой, как показалось Андрею, проявлял поразительное терпение в этом допросе. Он прислушался со вниманием.
– Эх ты! – возмущенно продолжил Полупанов. – Деревня Подор – твоя?
– Ну, моя…
Егор Опарин – твой отец?
Парень снова утвердительно кивнул головой.
– За купца Прокушева он давал поручительство на пятнадцать целковых?
– Не знаю…
Полупанов вдруг вскочил, грохнул кулаком так, что подскочила утлая лампочка и огонь взвился во все стекло узким коптящим языком.
– В холодную его! С-сукин сын!
Когда парня толкнули к выходу, Андрей встретился с ним глазами. Лицо показалось знакомым, но Андрей никак не мог припомнить, где он мог встретить этого человека.
Полупанов гневно расхаживал из угла в угол, и под ним жалобно поскрипывали серые половицы.
– Скоты! – бормотал он, изливая накипь недавней сдержанности, – Сволочь земляная! Уму непостижимо – лесное зверье, отказывается платить долги! За деревней глядеть в оба! – обернулся он к старшине. – Ссыльного караулить пуще глаз!
Полупанов круто повернулся к Андрею, собрался было и его предупредить о чем-то, но тут проскрипели порожки, урядник ввел долговязого детину в потрепанном городском пиджаке и поставил перед приставом.
– Вот, ваше благородие, Батайкин. У него хата пустует. Одним словом, старуха в одиночестве проживает дома, а сам он зимогор.
– А, черт с ним, кто он там у вас… За постой волостное правление будет платить, слышишь?
Батайкин кивнул головой, потом сбочил голову и внимательно оглядел ссыльного.
– Берешь? – спросил его волостной.
– А чего не взять? Все люди… – спокойно ответил долговязый и, заботливо подхватив тощий мешок Андрея, пошел к двери.
Урядник проводил ссыльного до новой квартиры. У покосившегося крыльца остановился и придержал Андрея за рукав:
– Вот тут, значит, и жить будешь. А насчет драла не балуй: у нас строго. Чтоб, значит, без непорядков. Народ, то же самое, – не моги смущать. Понял?..
Темная камера при волостном правлении, провонявшая мышами и лежалой трухой, в которую случайные постояльцы перетерли сенную подстилку на полу, в зимние холода именовалась «темной», хотя тогда-то в ней и было способно морозить бродячих собак. Летом же ее для устрашения называли «холодной».
Яков еще не успел как следует оглядеться, как урядник захлопнул за ним толстую дверь и громыхнул железным засовом.
В кромешной темноте Яков на ощупь сдвинул ногой разбросанное сено в угол, сел на тощую копешку и громко чихнул – вокруг столбом поднялась невидимая пыль.
«Власть! – выругался он. – Каждая собака норовит показать себя перед простым человеком! Живешь ты сам по себе, налоги платишь, ломишь шапку перед всяким чином – уважение ему… А нет же, мало! Каждый старается куснуть за живое тело, напомнить лишний раз: «Гляди же, и проглотить могу!»
Яков снова чихнул, стало першить в горле.
Под самым потолком невнятно голубело зарешеченное оконце с выбитым стеклом. Яков шагнул под окно, дохнул свежего ночного воздуха, задумался…
Неправильно! Кругом обман!
Вот опять же эти пятнадцать рублей. По правде говоря, Яков слыхал, что когда-то давно отец вместе с соседями поручился за купца Прокушева. Дескать, свой человек, общество ему доверяет… Да и как не поручиться, коли мужики всем скопом числились у купца в должниках, а тут он все простил да еще два ведра водки выставил на обмывку той бумаги!
Теперь оказалось, что Прокушев плох, попался властям. Ну, а Яков-то при чем? Попался купец – его и рвите на части, как собаки медведя, а Якову самому надо управляться, сводить концы с концами…
– Шутка ли – пятнадцать целковых! Где их взять? Не валяются же такие деньги на дороге. Целый месяц за них надо валить лес или промышлять на тропе!
Плохо… Что же сказать сердитому начальнику? Коли не отдать, заест, собака. А отдашь – всю зиму придется глодать кач. Опять же – и новую лайку не на что будет купить. Ведь вот как подошло: хоть вой с тоски! Об Агаше надо к тому же думать. А что придумаешь?..
В полночь его выпустили. Сторож правления по доброте души не стал держать затворника до утра. Он вывел Якова на крыльцо и у порожка сказал:
– Иди, скажу, что до завтрака сидел… Только ты слышь, Яков Егорыч, ты не супротивничай. Коли есть деньги– отдай им, иродам. А нет – либо хату продадут, либо корову сведут со двора. Тут куда ни кинь – кругом клин, парень…
– Так хлеба ж надо. На зиму, – виновато потупился Яков.
– Хлеба – взаймы или другим каким случаем. А уж с этим упаси бог связываться! Господа, знаю я их. А там – гляди сам, милой…
До утра Яков просидел дома, не сомкнув глаз. А утром пошел в правление и выложил Полупанову деньги.
Становой с опухшей рожей и мутными глазами сидел в переднем углу, под божницей, и пил из глиняной кружки квас. Его мутило после деревенского угощения, и он не враз понял, зачем явился молодой охотник.
– Что? Деньги? А-а… Давно бы так! Молодца! – И сунул полтора червонца в карман.
Яков не знал, что становой уже заручился в правлении форменной бумагой о давней смерти ответчика Егора Опарина. А хоть бы и знал, то вряд ли это помогло бы ему: справочка-то лежала в кармане Полупанова.
Деньги словно от сердца оторвал. Сейчас они были позарез нужны в хозяйстве, а их все-таки пришлось отдать. Отдать без толку, за то, что когда-то отец сделал оплошку. «Подвел, отец, прости господи… Не посмел бы плохо о тебе помянуть, да больно обид на земле много!»
Яков шел по узкой улочке, крепко задумавшись, и неожиданно свернул к дому Панти: сами ноги понесли. Очнулся лишь тогда, когда ткнулся в чужое крыльцо.
«А может, посоветоваться с Пантей? Он бывалый, понаторел в жизни, на поденщине маясь. А тут еще дело так поворачивается, что, может, придется вместе с ним на заработки махнуть в летнюю пору…»
Панти не оказалось дома. Старуха пояснила, что сынок с новым постояльцем утром наладились ловить рыбу.
– К вам поставили? – без любопытства спросил Яков.
– К нам. Такой молодой, а уж каторжный. Беда, Яша, какие ныне времена-то пошли! А ведь совсем будто спокойный по обличью человек…
– Он с четырьмя фамилиями, мать, – раздумчиво заметил Яков.
– С четырьмя?
– Как есть. Однако мне-то он по душе, – вдруг добавил Яков. – Он стражников не боится. На пароходе было дело: окостенел супротив них, словно нож из чехла вынулся. Так по его и вышло. Не то что мы…
– Я и то говорю: неплох будто, – подтвердила старуха. – Только вот любопытен малость: все Пантю распытывал, на каких он промыслах бывал да каких людей видывал…
Яков выкурил трубку, посидел, сколько полагалось, и, пообещав заглянуть вечером, побрел домой.
– Пойми, Гриша: ты не должен был уступать этого поручения Сорокину! Тебе, только тебе, нужно ехать на Ухту: там вершится главное, ради чего ты приехал сюда! Мы можем остаться в стороне, пойми меня…
Григорий устало отвернулся от Ирины. Ему показалось, что она вдруг показала себя с какой-то новой, неизвестной стороны, разом перечеркнув тот нежный и манящий образ, который он берег в своей душе. Что-то расчетливое и властное зазвенело в ее грудном голосе. Но ему жаль было расстаться с прежним, чистым и свободным от житейской грязи, чувством.
– Оставь, Ира, – вяло сказал он. – У нас одно дело. Еще неизвестно, как оно обернется в дальнейшем. Да ведь Сорокин еще и друг мне.
– Что дружба! Когда придется платить за место в жизни, дружба не поможет. Ты рассуждаешь словно ребенок, не думая о завтрашнем дне. Ты ленив в такую минуту, когда нельзя терять времени.
Григорий подавил вздох, в его успокоенных глазах засветилась тревога: Ирина не щадила его.
– Положим, я недальновиден. Но ты-то откуда почерпнула бездну опыта? Неужели только катастрофа отца так ожесточила твою душу? Скажи, что ты просто несправедлива к жизни, к самой себе. А?
– Я хочу счастья.
Она, кажется, снова ошиблась. Григорий был поразительно беззаботным человеком. Чувственность заглушала в нем все остальное, мешала здраво оценить и свое и ее положение. Он, конечно, хорошо знал, что на старого Прокушева теперь надежды плохи. Но это не мешало Григорию спокойно валяться на оттоманке, грызть ногти и беспечно упиваться минутами уединения. Нужно было совершенно потерять рассудок, чтобы не видеть впереди пугающей безнадежности этой связи…
– Ты не любишь меня!
– Еще что? – недовольно спросил Григорий.
– Решительно ничего. Но завтра Сямтомов попросту выгонит нас на улицу, если у нас не будет, чем заплатить ему…
– Оставь! Если хочешь, мы рассчитаемся с ним за год вперед, и, ради бога, скажи, что ты пошутила, что тебе скучно…
Ирина заплакала.
Она склонилась над туалетным столиком, нервно всхлипывала, пытаясь сдержать рыдания. Григорий оглядел ее всю – вздрагивающие круглые плечи, белую, выхоленную шею, ямочки на локтях – и вдруг испугался: перед ним плакала совсем чужая, неизвестная женщина, и ее слезы вовсе не трогали его. Какая-то одна нелепая минута сделала их чужими.
– Ира, я боюсь: не растеряем ли мы главное, если откажемся в мелочах понимать друг друга?
Она посмотрела на него мокрыми, холодными глазами, и Григорий почувствовал в них вопрос: «Разве жаль потерять то, что недорого?..»
10. У каждого
своя дорога
Разговор вышел длинный и бесполезный. Человек слушал Якова с таким равнодушным видом, будто заранее знал все беды, которые упадут на голову охотника.
– Как же это получается? Так-таки и нет для человека в жизни защиты? – Яков хмуро и недоверчиво взглянул на ссыльного и, не дождавшись ответа, отвернулся к окошку.
На столе в миске остывала недоеденная уха. На хлебных крошках ссорились мухи.
– О господи, грехи наши… – с привычным бабьим смирением вздохнула старуха, не спеша собирая со стола. – Ели бы еще, уха осталась. Ешь, Пантюша.
Пантя недовольно поморщился и низко опустил голову. Это он надоумил Якова попросить грамотного Андрея составить жалобу на Чудова и станового за открытый грабеж. Думал, что грамотный сразу сообразит, куда и как надо писать. А ссыльный лишь усмехнулся чему-то. По его словам выходило, что жаловаться-то некуда.
– Вы не обижайтесь. Коли уж хочется, так я напишу, не жалко. Только наперед скажу: зряшное это дело, – сказал он под конец и стал для Якова сразу непонятным человеком на свете.
«Русский… Чего там!» – подумал Яков, провожая взглядом безмятежно плывущее за окном облачко. Там, в вышине, было просторно и по-весеннему радостно. Гудел ветерок, серебряные стволы гнали от корней вверх еще не перебродившие соки оттаявшей земли, и на тонких висячих ветках трепетал первый зеленый листок. Почему же в душе устойчиво держались зимние сумерки?
– Совсем плохо выходит, – бормотнул Пантя и сплюнул.
– Невесело… – задумчиво, в тон ему, подтвердил Андрей.
– Выходит, не надо было с Мотовилихи уходить? – вдруг спросил Пантя. – Там умные люди то же самое говорили два года назад. Может, выучился бы теперь у них, как правду-то искать?
– Да что ж ее искать? Правда – она у всех на виду, только прав покамест не имеет.
«Опять непонятно говорит», – заключил Яков.
– А ты ведь мне так и не рассказал про Мотовилиху. Долго ли пришлось там работать, Пантелеймон? – спросил между тем Андрей. Пермский завод не мог пройти бесследно в жизни Батайкина, коли Пантя был там два года назад. Мотовилиха пережила тогда бурные дни.
– В том-то и дело, что маловато я там пробыл, – с сожалением ответил Пантя. – Одно слово – сезонник… А зря! Вижу, стоило б припаяться к заводу насовсем. Там тоже учили нашего брата, что защиты искать негде. Есть, правда, такие люди, что знают про нашу беду, да маловато их. А притом страшновато их слушать, вот что.
Андрей засмеялся:
– Отчего ж страшновато?
– Высоко берут. До самого царя…
У Якова похолодело под ложечкой. Он с недоумением уставился на своего долговязого, жилистого приятеля. Был парень как все, а теперь вдруг заговорил с постояльцем на одном, общем языке, которого Яков, по правде сказать, и понять-то как следует не мог. Знал одно: опасным был тот язык, подальше надо бы держаться от него.
Подальше! А как не заговорить, если самого Якова ободрали как липку и он не знает даже, как теперь жить?
Раньше удачное лесованье на целый год избавило бы его от опасных раздумий, а ныне хоть бери ножик в зубы – да на Вымь, где много богатых путников развелось. Один конец!
Три вечера кряду провел Яков у Панти. Обоим надо было думать о зимнем хлебе, каждый втайне думал о судьбе Агаши. Нужны были деньги – значит, следовало искать заработка.
Нигде поблизости путного дела подыскать было нельзя, поэтому Пантя склонялся к тому, чтобы махнуть на Ухту: там ждали верные заработки, а дело сезонное. Как раз к зиме вернулись бы домой.
Яков слушал его, согласно кивая головой, а сам еще хорошо не знал, куда держать путь. Конечно, друг его был куда опытнее, но и ему случалось приходить домой без копейки в кармане. Трудно было Якову понять такие «заработки» раньше, а сейчас он, как говорится, своим умом дошел… Особенно его озадачило, что ухтинскую дорогу строили сразу два хозяина – Никит-Паш и еще какой-то поляк из Вологды. Кто из них честнее, кому довериться, где могли выгоднее платить – ничего не знал.
– Никит-Паш хитрее, – говорил Пантя, прицениваясь то к одному, то к другому подрядчику. – Он собирается, говорят, рубить просеку от самой Ухты на юг. Сообразил, дьявол, что мужички работать будут дружней, подвигаясь к дому. Да и податься им будет некуда. У него дело пойдет. А все же я поляку больше доверяю: как-никак казенное вершит. Казенное всегда верней. Что земством установлено, всегда получишь…
«Казенное?» Якову припомнились последние пятнадцать рублей и порядок «плати, не то корову со двора», и он поежился. Кто знает, может, сам Никит-Паш уж и не так плох, как его приказчики? Может, при своем богатстве и не станет свежевать заживо бедного человека, земляка? Зря хвалит Пантя казенный порядок. Коли б жили все без писаных законов, по совести, больше ладу было бы…
– Платить как будут? – спросил он для проверки.
Пантелей и это знал.
– Плата одинаковая, если разобраться. Никит-Паш на тридцать копеек больше положил, да вот вопрос: по какой цене у него хлебушек пойдет там, в лесу? Думаю, одно на другое и выйдет!
– К Никит-Пашу надо идти, – как-то сразу решил Яков, хотя и не мог бы доказать правильности своей догадки.
– Зря спешишь с выбором-то, – не согласился Пантя, – Это ты на землячество надеешься? Видать, не знаешь еще, что соседская палка иной раз больнее заречной лупит…
Они долго спорили и разошлись по домам, так и не договорившись.
Утром, однако, разговор пришлось возобновить: чуть ли не половина взрослых мужиков деревни собралась на заработки к Никит-Пашу…
Федор Сорокин вторую неделю сидел в Усть-Выми.
До волости уже дошел тот номер «Губернских ведомостей», в котором была опубликована статья «Ложный ажиотаж», направленная Трейлингом в Вологду, и Сорокину следовало спешить. Но пароход с железными трубами и бурильными приспособлениями для Ухты задержал его на целую неделю.
Приказчик, сопровождавший груз, оказался чрезвычайно бывалым и несговорчивым коммерсантом. Федор третий день поил его водкой и никак не мог добиться толку. Тот, видимо, уже понял выгодность предполагаемой сделки, надолго задержал пароход, а на перепродажу оборудования не соглашался.
«Тертый, проныра!» – возмущенно думал Сорокин, доливая в граненые стаканы вонючую жижу и неуверенно подвигая наполненную посудину к партнеру.
– За ваше… За деловых людей! – напирал он. – Я вам предлагаю самое безубыточное дельце. Все расходы будут покрыты с лихвой. Неужели вам это не ясно?
– Уж куда ясней… – хихикал рыженький горбатый приказчик, – Куда ясней! Да ведь не могу я принять такое решение, дорогой мой! Ведь это большими неприятностями пахнет, а?
Сорокин и сам догадывался, что дело могло обернуться неприятностями, однако за это отвечал патрон. Он затевал какую-то большую игру, и ее следовало вести как можно энергичнее.
– Позвольте, позвольте! О каких неприятностях вы говорите? – настаивал Сорокин. – Если о неустойке, то я уже сказал, что мы принимаем это на себя. Мы платим наличными сумму возможной неустойки!
Приказчик, как видно, давно ждал этих слов. Он вдруг отодвинул в сторону стакан и глянул на Федора прозрачными и трезвыми глазами:
– Это уже деловой разговор. При одном условии.
– Говорите, – терпеливо попросил Сорокин.
Приказчик сгорбился так, что голова совсем влезла в плечи, сосредоточенно обыскал свои карманы, почесал за ухом, потом доверительно склонился к Федору. Тот придвинулся к нему вместе со своим стулом.
– Говорите, – повторил он.
– Я понимаю, что груз, предназначенный для другого предпринимателя, необходим вам не только как материальная ценность… а? Хи-хи… Так вот. С этого нам надо и начинать, милейший. А?
Сорокин шевельнул плечами, будто в шею ему впился старый слепень, но не проронил ни слова.
– Кроме того, нам известно, что горное оборудование сейчас весьма необходимо этому предпринимателю. Следовательно, вы имеете дополнительные выгоды… хи-хи!
Федор неопределенно кивнул головой, приглашая его выразить мысль до конца, хотя обстоятельства уже достаточно прояснились.
– Короче. Груз до Выми стал нам три тысячи рублей. Неустойка может вызвать…
– Не менее тысячи?
– Я думаю, больше. Из-за груза господин Гансберг может одних убытков понести тысяч пять, – деловито заключил приказчик, оглянувшись по сторонам. – Вам придется все это учитывать.
– Сколько же?
– Разрешите узнать: будете ли вы переправлять груз дальше?
Сорокин снова поежился. Этот вопрос был лишним.
– Временно мы могли бы остановить груз в Усть-Вы-ми… – уклончиво отвечал он, чувствуя, как дотошный делец понемногу докапывается до сути, которая не совсем была ясна ему самому. Фон Трейлинг приказал любыми средствами перекупить оборудование и разгрузить здесь же, на пристани. О дальнейшем он позаботится сам.
Ответ Федора несколько озадачил приказчика, но ненадолго. Он, словно филин, склонил голову набок, смекнул что-то и вдруг обрадовался новому обстоятельству.
– Пять тысяч!
Сорокин с трудом сдержал желание выругаться.
– Четыре с половиной.
– Будем деловыми людьми, – холодно возразил приказчик и распрямился. – Пять тысяч – и ни рубля меньше! Кроме того… Если капитан пойдет на какой-нибудь актик, а вы засвидетельствуете как пассажир, присутствовавший при несчастье…
Сорокин – весь внимание – напряженно ждал, что скажет этот рыжий бестия дальше.
– Фарватер неизвестен… Груз ведь мог и утонуть, а?
– Это опасно, – растерянно заметил Федор, душой угадывая, что ввязывается в отвратительную историю. Но волна, однажды подхватив его, несла теперь, уже не спрашивая желания, бесцеремонно бросая из стороны в сторону.
– Трусы в карты не играют! – донеслось до него из глубины водоворота, и он утвердительно кивнул головой.
Уже на следующий день дела были закончены. Приказчик получил деньги и выгрузил буровое оборудование на берег. Сорокин купил билет на козловский пароход и отправился вверх по Выми, на загадочную Ухту.
Серебряный портсигар открывался с вкрадчивым, интимным стоном. В замысловатой монограмме была зашифрована какая-то тайна, ее хотелось рассматривать бесконечно.
В раскрытое окно влетали мотыльки, стремясь к уютному огню. Фон Трейлинг, одетый в светлый заграничный костюм и желтые легкие ботинки, сидел, развалясь в кресле, у открытого окна и, лениво приспустив тяжеловатые веки, время от времени выпускал изо рта колечки душистого дыма.
– Курите? – спросил он, вслушиваясь в невнятные шумы засыпающего города за окном.
Ирочка улыбнулась, открыла портсигар. Каждая папироска была повита золотой нитью, неожиданно сплетавшейся в изысканное слово: «Дюбек».
От вина и папирос сладко кружилась голова. Что же, может быть, здесь, именно здесь, и есть начало той жизни, о которой мечтала она? Может быть, этот выхоленный, породистый мужчина и был тем человеком, который неминуемо должен был встретиться ей?
Парадысский… Что ж, Парадысский – проходимец в сравнении с этим господином, у которого даже имя звучит значительно: Георг фон Трейлинг. Это королевское имя. Не каждый день попадают такие люди в Усть-Сысольск.
Григорий… Он, правда, успел уже увлечь ее как настоящий мужчина, но ведь можно было сразу догадаться, что он легкомыслен в делах. А Ирина могла довериться только солидному человеку.
Это был их третий вечер.
Фон Трейлингу надоело общество купцов, своих служащих он разослал в разные стороны, а в соседней комнате одиноко томилась красивая купеческая дочка.
У нее были прекрасные глаза и снежной белизны изящно выточенная шея. Неуловимая, умеренная и тактичная развязность лишь приумножала силу ее привлекательности.
– Выпьем, Ира?
– Немного кружится голова, – с виноватой улыбкой, доверчиво пролепетала она, поднимая фужер.
– Завтра поедем проветриться на лодке, не правда ли? Прекрасное время, Ира! Я чувствую себя на вершине блаженства, дорогая…
В тонком стекле фужеров колыхалось вино, колыхался зыбкий вечерний свет под темным потолком. Аромат «Любека» щекотал тонкие ноздри.
Ирина подошла к раскрытому окну. На светлом, немеркнущем небе скупо сияли две-три далекие звезды. Внизу по пыльной дороге мягко прошуршали колеса позднего извозчика, невнятно прозвучал и затих, отдаляясь, человеческий гомон. От Сысолы потягивало пресной сыростью осоки и ряски. Шла ночь.
Ирочка перевела взгляд на недвижную крупную фигуру гостя, и ей почудилось что-то напряженное и выжидающее в этой его спокойной и небрежной позе. Было что-то выжидающее во всем: в недокуренной папироске, толстых белых пальцах руки, сжимавшей резной подлокотник, в ночном свете и настороженном блеске звезд. Она зачем-то прикрыла одну створку окна и поежилась не то от холода, не то от нового, тревожного чувства.
Гость уловил это ее движение и, взяв какой-то давно приготовленный сверток, развернул его. Она не успела рассмотреть подарка и лишь почувствовала на обнаженных плечах нежнейшее прикосновение благородного меха. То была черно-бурая лиса, приобретенная Георгом в дороге.
– Какая прелесть!.. – пролепетала Ирочка, наклоняя голову и прикасаясь щекой к пушистому ворсу чернобурки. Стало жарко. Казалось, мех пронизывал ее серебристыми искрами и отнимал последние силы.
– Это – вам… Вы достойны более драгоценных подарков, поверьте!..
Свет лампы вдруг покачнулся, поплыл в сторону, Ирина ощутила совсем близко спокойное и уверенное дыхание…
…Утром фон Трейлинг чисто побрился и в прекрасном расположении духа принялся чистить ногти. Дела отступили далеко в сторону. Весь мир потерял прежнее значение, и в жизни теперь оставалось что-то одно, огромное и ничтожное, манящее и отталкивающее, с неведомым, далеким и не имеющим никакого значения концом.
Он вспомнил минувшую ночь, вздрогнул и прикусил губу. «А говорили, что Усть-Сысольск – убожество! – усмешливо подумал он. – Люди просто не знают прелести контрастов. Что может быть прекраснее огня среди снегов, шампанского во льду или изнуряющей вакханки в Усть-Сысольске…»
Молодые мужики в Подоре перепились. Деревня гудела, собираясь скопом зимогорить у Никит-Паша. Как-никак свой человек затевал большое дело. Можно было на него положиться. Двери кабака были широко открыты. В конце улицы звенели разбитые стекла, пьяные голоса свивались в нестройную песню:
Бр-росай, Ванька, водку пить,
П-пойдем на работу!
Жутковато повизгивали гармоники. Кто-то дотягивал песню до желанного конца:
Д-эх, будем деньги получать
Кажнюю суб-боту!..
Яков приоткрыл дверь батайкинской избы, заглянул внутрь и, удостоверившись, что Пантя дома, переступил через высокий порог. Одет он был по-дорожному: заплечный мешок лаза горбился, набитый харчами и охотничьим припасом, на плече висело охотничье ружье.
– Вернулся? – спросил он Пантю, кивнув старухе и постояльцу. Потом снял с плеча свой старинный дробовик и поставил его в угол.
Пантя не ответил. Поглядывая в окно, он слушал слезливый и развеселый перебор гармошки. Старуха суетливо сновала по избе, собирая в дорогу сыну немудреную котомку. Ссыльный привстал из-за стола, крепко пожал руку Якову и тоже обернулся к окошку.
– Весело у вас на поденщину ходят… – заметил он.
– Жалко на людей глядеть, – хмуро ответил Пантя. – Прямо беда! Как на свадьбу собрались, не нюхамши дела.
Яков присел на скамью. В душе было тревожно. Лучший друг и сосед Пантя отмалчивался, а этого Яков не любил: плохо, когда один из друзей начинает таиться.
– Позадержались мы с твоими делами, Пантя, – недовольно сказал он. – Зря пропадал целу неделю…
Пантя будто проснулся:
– Да не зря, не зря! Ты уж не кори по слепоте, и без того на душе пакостно! Сделал доброе дело, теперь свободен я… А идти к черту на рога что-то уж совсем расхотелось…
– Да ты что? – посуровел Яков.
– Ей-богу, самый раз теперь тут бы остаться… – Он мельком глянул на ссыльного. – Да идти все же приходится. Вот жизнь! Хоть круть-верть, хоть верть-круть…
Ссыльный усмехнулся одними глазами, потянул Пантю за рукав.
– Зря ты все, – сказал он. – Хорошее дело само тебя ищет, только не бегай от него. Коли уж решил на рубку, то нечего раздумывать. И там люди. А за помощь спасибо…
Пантя снова вскочил:
Ты пойми, Андрей Степаныч, что я в этот раз, может, впервой настоящих людей увидел, а теперь, выходит, уйти надо? Понимаешь?
– А на Мотовилихе? Там разве не видел? – задумчиво спросил Андрей.
– На Мотовилихе я желторотый был. Меня там сомнение поедом ело: откуда они о бедном правду могут знать? Народ все такой – обязательно в очках и грамотные. Поглядел, себя не жалеют. А почему, что за корысть? Никак докопаться не мог!.. – Он порывисто вытер тылом ладони сухие губы, круто подался к Новикову. – И вот еще что, Степаныч… – Пантя вдруг косо и подозрительно глянул в сторону Якова, а потом запальчиво махнул рукой – Его не опасайся: Яшка – свой человек и молчать умеет. А только ты ничего не успел мне про Ленина…
Андрей захлопнул распахнутое по-летнему окно.
– Экой ты! Потише надо. Криком такие дела не решают, Пантелей! Прорвался, будто полая вода через плотину…
– Печет в нутре, – сдавленно оправдывался Пантя, облапив растопыренными, пальцами грудь и придвигаясь к Андрею, – Всю жизнь, кажись, уголь жгу, соль варю, дым глаза выел! Теперь свежим ветром потянуло…
– Постой-ка, – сухо прервал ссыльный. – Ты где… про Ленина слышал?
Тут взгляды обоих скрестились на Якове. Он встал, обиженно шагнул в угол и привычно кинул ружье на плечи.
– Пойду я…
– Да погоди, не в том дело! – вскричал Пантя. Он порывисто прошел к порогу и запер дверь на крюк. – Не в тебе вопрос. Ты слушай да мотай чего следует на ус.
– Где слышал? – настойчиво спросил Андрей.
– Там, куда ходил. А еще на книжке прочел, что тебе нес. Я на эти штуки страсть какой грамотный стал теперь!
– Грамотный, а все же помалкивай.
– Дома можно и поговорить. Притом я это знать хочу, Степаныч, во как! Не смущай ты меня, коли уж ввел во искушение. Выкладывай все, что доверишь!
Андрей снова усмехнулся своей мягкой недоверчивой улыбкой и надолго замолчал. С рабочими в городах он разговаривал легко и просто. А здесь, в лесной деревушке, чувствовал себя связанным по рукам и ногам чугунной тяжестью ума Панти и первобытным любопытством сумрачного охотника. В каждом из них скопилось свое, вымученное, горькое горе – понять ли им до глубины души, почему иные люди добровольно идут на штык и пулю ради счастья других?
Неделю назад он посылал Пантю в Сольвычегодск и на сереговские заводы, чтобы связаться с нужными людьми. Попытка удалась: помогла память Андрея, не забывшего одного адреса в Сольвычегодске. Пантя принес новые адреса явок и маленькую связку брошюр – на этом, думалось, и кончилось его участие в этом деле. Оказалось – нет. Прочитал парень в дороге заголовок одной из книг, а может, поговорить пришлось там с каким-нибудь знающим человеком по душам – теперь большего захотел. Но это была бы долгая, терпеливая работа, о которой Андрей еще не задумывался.
– И другое еще… – прервал его размышления Пантя. – Это что за Рэ-сэ-дэ-рэп?
– Тоже– из книжки?
– Целую ночь читал, не вини, Андрей Степаныч. Будь другом. Я не перед урядником исповедуюсь, втолкуй как следует…
Андрею стало не по себе из-за напрасного недоверия к чистой бедняцкой душе Панти.
– РСДРП? Это Российская социал-демократическая рабочая партия. Ра-бо-ча-я, понял? А Ленин – ее руководитель. Вождь российской рабочей партии.
– Рабочей? – прошептал Пантя. – Стало быть, это он и пишет всю правду про бедноту в той книжке? Самую живую, а?
«Всю правду», – недоверчиво прикинул в уме Яков, однако пересел поближе к столу.
Бро-о-сай, Ванька, водку пить… —
глухо донеслось с улицы, и вдруг пьяная забористая брань заглушила горечь песни. Пантя сердито глянул в окно, отвернулся.
– Когда ж она, правда-то… когда ж она наружу выйдет, а? – с хрипом выдохнул он.
– А вот как терпение лопнет, так, значит, и будет в самый раз, – ответил Андрей. – Об этом словами трудно рассказывать. До этого каждый сам умом доходит. Понял?
– Это верно. Людей тыщу раз надули, так они теперь никому – ни богу, ни черту – не верят. Да и себе не каждый раз…
Яков зажмурился. Стало страшно за Пантю: разве можно жить на белом свете с этакой злобой? И ссыльный тоже – все о правде. А кто ее, правду эту, в глаза видел?
Но если подумать как следует, то правда каждому человеку не во вред. Коли по правде люди жили бы, то никто бы друг друга не грабил. Никто не отнял бы у Якова кровных пятнадцати рублей, не заставил идти в зимогоры. А теперь приходится.








