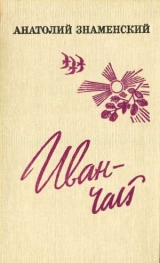
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
Все, что держало ее в сладком томлении надежды, что минутами становилось источником всеобъемлющей радости, – все это теперь рассеялось, угасло, и она почувствовала себя опустошенной и одинокой. И еще одна боль мучила Катю. Ей казалось, что она сделала непростительное – посягнула на чужую любовь. Ведь где-то на фронте была та счастливая и, наверное, прекрасная девушка, которая верила и ждала встречи с ним и, может, ночи проводила без сна, в тревоге над его письмами…
О, если бы она была здесь! Катя не постеснялась бы отнять у нее любимого! Соперница – и только!
Но она была на передовой. А фронт и люди фронта были для Кати священными, они отдавали свою жизнь и имели право требовать верности и жертв…
Весь день на работе она думала об этом, то комкая пальцами концы пестрого платка, завязанного по-бабьи вокруг шеи, то сама брала топор и со злостью принималась рубить и корчевать ельник, чтобы как-нибудь прервать тягостные размышления.
Вечером умылась, переоделась и пришла к девчатам в общежитие. Посидела с Дусей Сомовой – та вышивала накидку на подушку, собиралась замуж. Зина Белкина подсмеивалась:
– Зря стараешься! Придет твой тракторист в мазуте, ляжет – опять стирай!
Жених Дуси был всем известен – Мишка Синявин просиживал в общежитии вечера напролет. Но смутить Дусю было трудно.
– Зато уж ты чистюль выбираешь! Тебя бывший завхоз небось с селедкой под мышкой встречает? У кого для удовольствия, а у тебя для продовольствия!
– Константин Пантелеймонович говорит, мы скоро уедем в город, – с достоинством отвечала Зина. – Его назначают директором фуражной базы.
Катя вздохнула. Легла на Дусину койку вниз лицом.
Разговор подруг доносился к ней глухо, как через воду.
– Твой Пантелеймонович всегда по мышиной части: усушка, утруска, крупа всякая. – Голос Дуси. – А отсидки все же ему не миновать, учти…
– Горбачев по злобе на него.
Заговорили про Обгона. Кто-то знал в точности, что ранение у него было неглубокое, а помер он мгновенно, от разрыва сердца, со страху, значит. Врачи в городе будто бы установили.
– Все же страшно на белом свете, – сетовала Зина. – Страшно выходить вечером на улицу.
– Да кому ты-то нужна, кукла! – сразила ее Дуся. – За Обгоном давно неточеный колун ходил, а ты при чем?
Пришла Шура с буровой. Она искала Катю, чтобы обменять книжку. Села на табуретку, помолчала; видя, что с Катей творится неладное, не выдержала:
– Что с тобой, Катюшка? Обидел кто-нибудь?
Катя подняла с подушки багровое, жаркое лицо:
– Нет, так… голова болит…
Понятливая Шура оставила подругу в покое, а Дуська подмигнула ей, затянула непомерно высоким, тоненьким голоском:
Сердце девичье – не камень,
Боль слезами не уймешь…
А девчата подхватили тоскующими голосами, каждая о своем:
Недогадлив мой парнишка,
Недогадлив, да хорош!
За окном – белый вечер. Солнце теперь заходило всего на два часа, темноты не было. Только тайга по-прежнему замирала под светлым небом, прислушиваясь к властной, глубокой тишине белой ночи. Девичьи голоса таяли, кружились около дома, будто ватой обволакивала их тишина.
Кто-то постучал в дверь.
– Войдите! – дружно и вызывающе ответили девчата. Они обычно встречали так приходивших на посиделки местных остряков.
Но в этот раз вышла ошибка. В проеме двери стоял Илья Опарин с вещевым мешком за плечами, в мокрой порыжелой кепке и грязных резиновых сапогах.
– Здравствуйте! – простуженным баском сказал он. – Веника-то у крыльца нет. Эх вы, хозяйки!
Шура соскочила со скамьи, подала тощий веничек. Другой рукой взялась за ремень заплечного мешка.
– Давай «сидор»! Шею-то натер! Давай…
Илья скептически оглядел веничек и вышел за двери очищать сапоги. И тотчас девушки затормошили Катю:
– Катюха! Вставай, к тебе ведь пришел!
– Она нынче не в духе!
– На горелый пень наступила.
– Вставай, дурочка! Илья раз в месяц является! А потом опять, как бирюк, в лес!
– Мучаешь ты его…
Бригады Ильи прокладывали времянку по старинной торговой тропе на Ново-Печорск, он стал бывать в поселке реже.
– Работать не умеет, боится за день людей без присмотра оставить! Вот и зимует в лесу, как медведь, – с досадой повела плечами Катя, забыв, что сама услышала эти же слова от Ильи двумя неделями раньше.
Илья вошел, ногой отодвинул в угол рюкзак и сел на табуретку, поближе к Кате.
Катя подняла голову, оперлась порозовевшей щекой на ладонь и словно впервые увидела его. Он сидел большой, крепкий, обветренный, в потертом ватном пиджаке и комкал в руках старую кепку…
И вдруг весь его смущенный вид, мальчишеские черты, проглянувшие сквозь огрубелость рано возмужавшего таежника, враз укололи Катю, как неясный упрек.
Так вот он какой, Илья.
Что ж, правду, видать, говорят люди, что друзья познаются в несчастье. Илья ходил к ней, когда Катя была счастлива своими надеждами, когда она радовалась, обижая его этой своей радостью. Он терпел. Теперь Катя несчастна, совсем одинока среди горластых и насмешливых подруг. А он по-прежнему ходит к ней, сидит в терпеливом ожидании, задает пустые вопросы девчатам насчет житья-бытья, хотя все знают, зачем и к кому он пришел, отчего так безжалостно комкает свой рыжий картуз…
– Хорошо ли живете, девушки? – как всегда, спрашивал Илья по-свойски.
– Живем не тужим и время зря не теряем, – слепя блеском зубов, за всех отвечала Дуся и отбросила шитье на койку. – Время не теряем, захватываем вас, голубчиков, в теплые ладошки!
– На свадьбу хоть позови, что ли, – оживился Илья.
– Да то как же! Без партийного руководства что за свадьба! Ты мне поспособствуешь, а потом и я не останусь в долгу, скрутим одну царевну-лебедь, уговорим по-свойски! Ты на нас, на горластых, больше полагайся – мы бедовые!
– Да уж я сам как-нибудь, – смеялся Илья. – Я вот гляжу, политический недосмотр у меня: бригадирша у вас невеселая!
Катя не шевельнулась, зато Шура с досадой махнула рукой:
– А она… сама не знает, чего ей надо!
С тех пор как Шура простила Алексея и у них завязалась теплая и чистая дружба (этой самой дружбой почему-то принято называть теперь любовь), с тех пор как она убедилась, что эти новые отношения, словно наждак, снимают с Алексея корку грязи и грубости, она стала жалеть Катю. Шуре хотелось поделиться со своей лучшей подругой, открыть свою тайну… Но как скажешь? Вот если бы Катя жила тем же, то, пожалуй, ей можно было бы открыться.
Эх, Катя, Катя! Ну, можно ли так жить, обходя самое дорогое, единственное в жизни!
Между тем Илья набрался храбрости:
– Что ж это, Катя? Или постарела в двадцать лет? Что это говорят-то? – улыбнулся он.
Она сидела на помятой койке, свесив босые ноги, опираясь обеими руками на сложенное синее одеяло.
– Ты далеко ушел с трассой, Илья? – почему-то с грустью спросила Катя.
– Времянка на пять километров, а просека – больше семи. – Он отвел взгляд.
– А мы скоро будем туда перекочевывать? Не спрашивал начальника?
– Говорят, надо готовить площадку под четвертую буровую и дорожный ус к ней тянуть. Это вам на целый месяц…
– А вы бы, думаешь, быстрее сделали? – подозрительно спросила она.
«Снова задел за больное!» – с горечью и досадой спохватился Илья.
– Я сейчас не думал об этом.
Катя замолчала. Она задумчиво смотрела в окно, на березовую ветку, упруго вздрагивающую от порывов ветра. Почки березы налились вешней силой, разбухли, вот-вот лопнут…
– Ты долго задерживаешься в поселке? – опять спросила она.
– Нет, уезжаю, – отвечал Илья, тщетно пытаясь понять ее любопытство. – За инструментом приехал и майские карточки отоварить.
Катя снова задумалась, пальцы ее подобрались, сжали ватную мякоть одеяла. И вдруг вскинула на Илью заблестевшие решимостью глаза:
– Сегодня какой день? Вторник? В воскресенье пойдем на охоту, Илья! Давно уж я не бродила по лесу так, для себя! Пойдем? За Пожемское болото! Там керка, старые токовища, знаешь?
Илья встал. Растерянно зашарил по карманам, не находя бумагу на завертку. Он не думал о том, как неожиданно и странно было это предложение. Не думал даже, что в эту весеннюю пору, когда линяет пушной зверь, а птица забилась на гнездовья в самую чащобу, никто не ходит на охоту. Она зовет его, его будет ждать в лесу! Целый день вдвоем – это ли не счастье для заждавшегося сердца!
Он пойдет на охоту и будет бить линяющего зверя и пугливых, отгулявших свое глухарей, поведет Катю в самые таежные места, чтобы она забыла участок, свою библиотечку в «скворечнике», начальника и подчиненных, чтобы вспомнила деревню, старое, две березки на крутогоре…
* * *
«Вот так, Коля! Я решил твердо: не надо никаких жертв! Жизнь такая вещь… Не надо их делать, не нужно уступать никому своего и пуще – не принимать чужих жертв…»
Николай в третий раз перечитывал письмо Саши Жихарева, третий раз двоились чувства и мысли, перемежались отчаяние и решимость, мужское самолюбие и человеческая слабость.
Александр лежал в Москве в госпитале, с парализованными ногами. Он лишился возможности ходить, но в остальном чувствовал себя здоровым человеком, затеял уже переговоры насчет сотрудничества в Нефтяном институте, усиленно читал литературу о новом, турбинном методе бурения. Он не хотел сдаваться без боя.
«Ноги, конечно, нужная вещь, трудно свыкнуться с той простой мыслью, что ты, возможно, навсегда лишен возможности двигаться, ходить в атаку и бродить в скверах, бегать на работу и спешить на свидание, – писал Сашка. – Но, черт возьми, есть еще и голова, и глаза, и руки. Когда-нибудь я еще и женюсь…
Валя отнеслась ко мне более чем по-дружески, спасибо ей. Она предложила даже, чтобы я ехал к ее родным, и это было как обещание…
Но я же мужчина, Николай, и не пошел на эту удочку. Я прекрасно все понимал еще в Москве. Не надо жертв!..»
И вот еще, может, самое главное для Николая:
«Мы были друзьями, трое, и я надеюсь, останемся ими и в будущем. Ты, Колька, не расстраивайся из-за всей этой истории, из-за моего несчастья. Довольно и того, что оно мне не дает забыть о себе ни на минуту. Посмотрел бы ты на Валю тогда! Любовь из чувства долга – это, наверное, самая несуразная и страшная вещь…
Не буду на эту тему. Ты должен вернуть все на старое место. Потому что, в сущности, ничего не изменилось, это говорю тебе я – и ты верь. Ты напиши ей, скажи, что ждешь ее, любишь – и все. Потому что, когда я узнал от нее о том, что она написала тебе, я выругался по-окопному, и на этом все кончилось. А потом меня отправили сюда, в Москву…
…Пиши, Колька! И выручай Валю, потому что, думаю, ей сейчас тяжелее, чем нам с тобой. И имей всегда в виду, что им, женщинам, в жизни почему-то всегда труднее, они – чище нас…»
Да, в жизни все трудно. Любовь из чувства долга… Но все же любовь?
Все перепуталось.
Валя одна, ей действительно тяжело. Сашка поступил как мужчина, он отлично знал, кому принадлежит ее душа.
И, в общем, ничего не изменилось. И она в самом деле чище и лучше, чем он, Николай. Но почему же тогда так больно?
Писать письмо или нет? Писать! Откуда взялся этот эгоистический вопрос? Сколько же в человеке еще темного, непонятного!
Надо еще одуматься, перечувствовать все заново. Почему она – не жена ему, тогда все было бы по-другому!
На столе дожидались еще два нераспечатанных письма, и пальцы машинально потянулись к ним, чтобы оттянуть время и немного разрядить душу.
Одно было местное, из управления. Генерал Бражнин уведомлял Николая, что матери его, Наталье Егоровне Горбачевой, выслан вызов и пропуск для проезда по железной дороге. Одновременно генерал дал знать своему представителю в Сталинграде, чтобы он разыскал старуху и помог выехать.
Слава богу, хоть одна, личная, забота долой! В последние дни Николаю часто вспоминалась посадка на Северном вокзале, сутолока и настоящая битва у подножки. И маленькая старушка в заплатанной кофте, что сидела тогда на старинной окованной укладке, с безнадежным укором созерцая толчею. Ее, помнится, увел куда-то безрукий солдат… Матери предстояло тоже нелегкое путешествие по фронтовым дорогам. Хорошо, что генерал нашел время, спасибо. Надо написать ему…
Третий конверт был огромный, заклеенный мучным клейстером. Обратный адрес: «Воркута, шахта «Капитальная»…» Кто же это?
Разорвал конверт. Писали спутники-украинцы, которых он когда-то оставил в вагоне, что уходил дальше, в Заполярье. Вспомнили, значит!
«…Друг Микола! Привет с конца света! – начиналось письмо. – Не ругай за корявую строку, бо я нынче навернул на двести семьдесят процентов в шахте, и малость дрожит рука… Петро, тот покрепче, но он сейчас в забое.
Ну и заехали ж мы, братушка, далеко! Никогда не думали такие края обживать! Голая, белая пустыня – ни конца ни края. Ветрище – спасу нет, первое время канаты протягивали от барака до барака, иначе унесет в поле, как соломенное чучело. Теперь, правда, веселей стало: обстроились добре и день наступил. Тут ведь порядочный рассвет один раз в году бывает. Остальное – так, одно баловство: не успеешь оглянуться – ночь. Занятная сторона, что ни говори. Называется – тундра. А насчет уголька, прямо скажу, хватает. Хотя и военная тайна, но такую тайну можно особо не хранить, пускай почухаются, кому надо. Не хуже нашего Донбасса.
Живем, сам знаешь как, иной раз туго приходится, вечная мерзлота! Но про сговор наш не забыли. А ты помнишь? Думаем, что ты нас обогнал, бо тут спервоначалу вовсе тошно было. Теперь легче стало. Инженер у нас тут бедовый один есть, молодой, как ты. Даем с ним добычу по всем правилам! Заработки хорошие, цингу спиртом и кислой капустой угробили: жить можно.
А сейчас новые машины пришли. И вот, как глянул я на эти машины, так на душе отлегло. Трехжильное у нас государство, в этакую пору в тундру пригнать новую технику! Поглядел, значит, я на эти машины, и подумалось, что скоро Донбасс опять нашим будет, ей-богу!..
А пока углем по фашисту будем жарить. Вот и все. Пиши, как твои дела, ждем. Привет от Петра. Даст бог, еще увидимся и споем добрую песню, с горилкой…»
Николай сложил письмо, задумался.
Уже дают уголь! А он, Горбачев, все еще копается… Ведь у них там в десять раз труднее, голое Заполярье, а они справились!
«Как только опробую скважину, обязательно нужно ответить ребятам, – подумал Николай. – А письмо неплохо бы прочитать на общем собрании всем…»
Все складывалось как будто неплохо. Только Сашкино письмо на столе лежало раскрытым, ждало…
* * *
Положительно не везло в жизни Илье!
В полночь под воскресенье зарядил теплый дождь, обложило небо. За окном хлюпала вода, безветренная теплынь доедала остатки снега. А под утро дождь усилился, полил будто из ведра.
Илья появился в поселке на рассвете в брезентовом дождевике, с ружьем, постучал к Кате в избушку.
Она была готова, пережидала затянувшийся ливень.
«Не везет…» – прочел Илья в ее грустных глазах.
Что ж, пусть льет, – целый день Илья будет рядом с нею, не в лесу, так в ее комнатке. Катя заботливо помогла ему снять плащ, стряхнула огрубевший брезент у порога, повесила на гвоздик у притолоки.
Он закурил, устроился в уголке с книжкой, спешить было некуда.
– Чай согреть? – сцепив на груди оголенные полные руки, спросила Катя.
Он кивнул утвердительно.
Пусть греет чай, Илья помолчит. Так будет еще долго у них. Пока успокоится ее сердце, пока не почувствует всю силу его тоски. А сейчас покуда нужно молчать…
– Катя! – вдруг неожиданно для себя сказал Илья и встал.
Она возилась в печурке, не подняла головы. Только сказала невнятно, торопливо:
– Помолчи, помолчи, Илья.
– Катя! А ведь я третье заявление в военкомат отправил.
Она обернулась, в руках у нее горел пучок тонких лучинок, пламя обожгло пальцы.
– Да ты что?!
– Так нужно.
Катя повернула лучинки кверху, пламя разом убавилось, село, прогоревшие концы свертывались, чернели и блекли на глазах.
– Не возьмут тебя, – успокоенно сказала Катя.
– Возьмут, пора…
Она задумалась, без труда уяснив тайную сердцевину его слов. Помолчав, сказала:
– Участок не отпустит. Горбачев.
– Горбачев, возможно, не отпустит. Но ты ему скажешь, чтобы отпустил.
Она вся вспыхнула, словно иссушенная лучинка:
– Я?!
– Ты. Ты все знаешь. Хватит с меня. Слышишь?
В печке гудело. Тонко шипели на плите капельки воды с крышки чайника. Катя захлопнула дверцу, веселый трепет огня на занавеске у двери и на стене пропал. Выждав минуту, Катя сказала:
– Илья, в воскресенье пойдем на охоту, куда я сказала. Кончится дождь, будет в самый раз… Через неделю.
19. Нападение
Солнечным майским днем, под воскресенье, на станции Чибью с поезда Москва – Печора сошла сухонькая, пожилая женщина с усталым морщинистым лицом, в теплой деревенской кофте, с облезлым фанерным чемоданом и тяжелым заплечным мешком. Обута она была по-зимнему в строченые ватные бурки с калошами.
– А лесу-то, лесу сколько! – выдавая исконную степную тоску, с хозяйским простодушием удивилась она. – Благодать какая!
И, подхватив чемоданишко, заторопилась коротким шажком к огромной избе, увенчанной вокзальной вывеской.
У дверей она остановилась, достала из-за пазухи клочок бумаги, прочла нужное, потом окликнула дежурную, девушку в форменной красной фуражке:
– По телефону бы мне слово сказать… Помоги, дочка.
Женщина, как видно, держалась из последних сил, дорога измотала ее. И вещи были тяжелые, громоздкие, – она то и дело ставила к ноге чемодан, почти волочила его по земле.
Дежурная строго глянула на старуху, помогла преодолеть скрипучую дверь с пружиной – чемодан задел углами поочередно оба косяка. Они кое-как пробрались через зал ожидания, битком набитый людьми и вещами, зашли в боковую комнату.
– Куда вам? В управление комбината? – с некоторым удивлением спросила дежурная и набрала нужный номер.
Старуха с видимым волнением, неумело взяла телефонную трубку, совала ее под платок.
– Горбачева я… Горбачева мать. Мне сказали, позвонить с вокзала вам… – торопливо, сбивчиво изъяснялась она, крепко держа руку с трубкой у самого уха. – Знаете? Ну вот и слава богу… Подождать, значит, мне тут? Приедете? А то я и вправду измоталась совсем, спасибочки вам, милые мои…
После всех потрясений этого года, после страшной дороги с беженцами по волжским степям и смерти мужа, не избалованная вниманием Наталья Егоровна Горбачева попала вдруг в какой-то сказочный мир, полный добрых людей и надежного порядка. Еще в Сталинграде ее нашел какой-то важный, толстый человек в дорогом пальто и новой шляпе, без всяких хлопот усадил на эвакуационный поезд и снабдил бумагой с лиловым штампом и непонятной печатью, при виде которой любое железнодорожное начальство становилось заботливым и расторопным. С этой бумагой и пересадка в Москве совершилась за одни сутки, хотя люди сидели там неделями, как в карантине. Человек дал ей также бумажку с телефонным номером.
Наталья Егоровна попала будто в другой, неизвестный ей мир, где человека ценили, помогали ему, где не было паники по поводу военных неудач, не было слез и бабьих причитаний. В этом мире никто никуда не бежал, не бедовал с быками в ночной зимней степи, не долбил пешней и лопатой мерзлой глины у станции Гумрак…
В поезде ехали занятые, но добрые люди, говорили о ленинградской блокаде и какой-то Воркуте, уверенно рассуждали о скором разгроме немцев, о резервах Сибири, Урала и Крайнего Севера. С этими людьми ей было легко. Узнав о бедах женщины, о том, что сын работает в их «системе», они как могли помогали ей, приглашали разделить дорожную еду, припасали чай, заботливо вытащили багаж при высадке из вагона.
Чудеса продолжались и здесь, в маленьком таежном городе. Стоило позвонить по нужному адресу – через какой-то час к вокзалу подкатил на легковой машине молоденький парень в полувоенном костюме, схватил вещи, усадил ее на мягкое сиденье, повез в гостиницу.
– Николай Алексеич Горбачев это ваш сынок, значит? – осведомился он в пути. – Чудесный работник, представьте себе! Генерал на активе очень хорошо отзывался! Далеко пойдет, имейте в виду! Молодой, но инженер с творческим огоньком. Это генерал сказал! Имейте в виду!
Наталья Егоровна никогда не ездила в легковой машине, не знала, что такое «актив» и «творческий огонек», но ей было хорошо с этим расторопным и словоохотливым пареньком из важной канцелярии. «Ох, высоко сынок летит, слава богу! Жаль, отец не дожил, порадовался бы», – вздыхала мать.
Из гостиницы паренек позвонил на какую-то каротажную базу, вызвал инженера по фамилии Бейлин, закричал неожиданно резким, начальническим голосом:
– Исак Михайлович?.. Ага, тебя и нужно! Вот какое дело! Ты завтра едешь испытывать Верхнюю Пожму? Точно? Так вот, захватишь в гостинице женщину. Мать Горбачева, имей в виду! Ясное дело, в кабину! Ехать-то семь верст до небес – и все лесом!
Трубка что-то бормотала в ответ, но паренек кричал свое:
– Черноиванова просили подбросить? Ну, так что ж? Втроем и доедете. Распоряжение генерала, имей в виду!
Когда паренек из канцелярии устроил Наталью Егоровну в номер и, уходя, откозырял ей по-военному, она с удивлением и страхом проводила его долгим взглядом. «Какой молодец, прямо огонь… – подумала она. – Вот бы на фронте-то таких побольше, сразу бы и погнали неприятеля восвояси… Уж не самый ли он заместитель генерала?»
Из гостиницы она никуда не выходила, будто попала не в мирный дом, а в вагон прямого сообщения. Ей казалось, что стоит оплошать, на минуту отклониться от какой-то единственной стремительной колеи, и она сразу потеряет внимание и поддержку всех этих незнакомых, деятельных, наделенных большой властью людей, которые будто на руках несли ее к сыну. Она пораньше улеглась в чистую, прямо-таки роскошную кровать и спала тихо и крепко, без снов, согреваемая близостью к сыну, скорой встречей с ним.
Часов в пять утра – было совсем светло – за окном внизу прогудела машина. Наталья Егоровна была уже на ногах, складывала вещички.
За нею зашел маленький человек с горбатым носом, в огромных роговых очках и брезентовом плаще. За плечом охотничья двустволка.
– Поторапливайтесь, мамаша, – вежливо сказал он. – Я Бейлин. Где ваши вещи? Давайте…
На крыльце, около автомашины с огромным железным фургоном, их поджидал третий спутник – высокий, черный, стройный военный с кубиками на петлицах.
Он поздоровался с Бейлиным, кивнул Наталье Егоровне, поинтересовался:
– Первую испытывать?
Инженер кивнул.
– У вас же по плану – двадцатого июня?
– Что ж, испытываем двадцатого мая, тем лучше, – непроницаемо ответил Бейлин, сторонясь черного человека.
Военный отбросил окурок, не спеша тронулся с порожка вниз.
– А это… значит, мать самого Горбачева? – словно о неодушевленном предмете спросил Бейлина. – К сыну едет? – И как-то колко усмехнулся: – Веселенькое совпадение! – И, вдруг наддав шагу, первым пошел к машине. Открыл дверцу и, не глядя на шофера, занес хромовый, до блеска надраенный сапог на подножку, нырнул в кабину. – Поехали!
Инженер подсадил старуху в высокую дверь железного кузова, подал вещи. Они устроились на короткой скамье, у окошка, в окружении замысловатых машин и огромных катушек с проводами.
Всю дорогу инженер молчал, клевал своим горбатым носом, рискуя уронить огромные роговые очки. А старуха с любопытством смотрела в низенькое мутное окошко, любовалась таежной глушью, с радостью подчинившись той силе, которая легко и сказочно приближала ее к сыну. И Наталья Егоровна к концу пути совсем позабыла о третьем спутнике, который дремал в это время в кабине, крепко прижав к коленям портфель с уголовным делом о Верхней Пожме…
* * *
Широки таежные болота! На десятки километров раскинулись сочные луга с чавкающей ржавой водой под зеленью трав, под россыпью белых и розовых цветов, под снежной заметью пушицы. К концу мая молодой, зеленый иван-чай заполнил гари и лесные лужайки, начал спускаться к болотам. Черемуха брызнула по зелени белым бахромчатым дождем, полыхнула сквозь свежие запахи торфяников крепким, нежным и пьяным ароматом.
К поселку болото выходило излучиной, за которой красовались на возвышении меднокованые сосны, густохвойные кедры.
В этом году долго не сбывала вода. Катя шла с длинным шестом в руках, перепрыгивая с кочки на кочку, выбирая опытным глазом самые верные моховые шапки. Ей нужно было добраться до соснового урочища, где в молодом подлеске в начале весны токовали глухари. Там, над болотом, стояла охотничья избушка-керка. К ней с другой стороны выйдет Илья.
Балансируя на кочках, девушка скользила от куста к кусту, минуя опасные, зыбучие чарусы. Когда под моховинами звенела текучая струя, Катю охватывал страх.
«Ему ко мне по сухой, твердой тропе идти, – думала Катя. – Потому что он со всей душой ко мне идет. А мне – болотом, пропастью, потому что я сама не знаю, зачем все это придумала. Его ли помучить, себя ли заставить заново подружить с ним? Старое-то вряд ли свяжешь теперь кончик к кончику… Любви-то ведь все равно не будет…»
Вдалеке, за сухостоем и редкими березками, густым белопенным валом заклубилась черемуха. Болото кончалось.
Катя оглянулась вокруг, подняла глаза к небу, в безмятежную синь. Ее вдруг ослепило, обрадовало утреннее солнце.
«Любви все равно не будет…» Нелепой показалась ей недавняя мысль. Как же так, почему не будет? Жизнь так хороша, так полна молодости и цветения! Такой бурной была весна, так неожиданно распахнулся мир навстречу теплу и солнцу! Почему же у нее не будет любви?..
Она последний раз взмахнула шестом и прыгнула на песчаную кромку, под серебряную бахрому черемухи. Тяжелая белая гроздь приятным холодком коснулась ее пылающей щеки, брызнула росой. Тонкий запах заволновал душу.
Катя бросила шест, медленно спустила тонкую косынку на плечи, заложила за голову руки и сладко закрыла глаза.
Закинув голову, она почувствовала тяжесть косы за спиной, тугой обхват пояса, силу своих молодых рук…
Вверху, на угорье, звенел в косых солнечных лучах вековой кедр. Он звал к себе, шептал что-то, волновал весенней силой, тайной прожитого. И Катя тронулась вверх, разводя руки с зажатыми концами косынки, не боясь колючей хвои и росяных, мягко уступающих ей веток…
* * *
Рано, часов в пять, Горбачева разбудил телефонный звонок. Он трещал долго, до тех пор, пока Николай, протирая глаза, не протянул руки, не снял черной, тускло блестевшей трубки с рычага.
– Золотов говорит! – донеслось издалека, и Николай уловил тревогу в голосе мастера, насторожился.
Золотов что-то кричал, но голос его тонул в непонятном постороннем шуме.
– Товарищ начальник! – наконец разобрал Горбачев. – Николай Алексеич! Необходимо ваше присутствие… Желонку выбило, газ…
Сон разом пропал.
– Давление? – закричал Николай в трубку.
– Ничего не слышу…
– Давление, спрашиваю?!
– Фонтан грязи – до кронблока!
– Наводи фонтанку, арматуру ставь. Иду!
Клацнул рычаг телефона. Николай схватил со стола графин, окатил голову водой. Холодные капли, неприятно обжигая, покатились за ворот, между лопаток. Быстро натянул клетчатую ковбойку, рывком вздернул застрекотавшую застежку ворота и, накинув брезентовую куртку, выбежал на крыльцо.
Солнечное половодье, затопившее тайгу, на миг ослепило его. Все пылало утренним праздничным огнем, весь воздух, казалось, был наполнен роем золотых пчел, и в этом богатом блеске, вдали, властно и дико ревела скважина.
За два километра было слышно стихийное извержение глубинных пластов, к которым так настойчиво два месяца прогрызалось долото. И Николаю казалось, что там, у буровой вышки, трещит лес и качаются зеленые штыки елей.
Почему до сих пор не навели фонтанную арматуру? Или так велико давление?..
Чем ближе он подходил, тем напряженнее становился глухой рев потревоженных недр. Николай явственно чувствовал уже, что ветер переменил направление – дул прямо в лицо, от буровой.
Что, если сейчас – искра от небрежной папиросы, от удара по металлу?
Он не выдержал, бросился бегом по скользкому настилу времянки.
Рев прекратился неожиданно. Стало так тихо, что Николай услышал мирный лепет листвы, посвист зяблика, пролетевшего поперек просеки. Вздохнул с облегчением. Навели арматуру!
Остановился, вытер вспотевшую шею платком, закурил.
В этот миг с запада налетел порыв ветра, по верхушкам леса пробежал новый приглушенный гул… Тайга зашумела весенним, звонким и разнобойным шумом. К лесным шорохам примешивался, однако, другой какой-то чуть слышимый, посторонний гул. Самолет?
Николай внимательно оглядел взъерошенную кромку вершин и насторожился.
Звук почему-то больно задевал память. Было в нем что-то надрывное, злобное, чужое, будто в ближних елях кто-то растревожил шмелей.
Николай еще раз с недоумением огляделся. Назад, к поселку, все так же убегала пустынная просека, впереди маячила головка безмолвствующей буровой. Глянул на часы – пять утра, тайга только-только просыпается…
И вдруг в какой-то миг моторный гул усилился, над синей вязью вершин можно было разглядеть три быстро растущие точки. Сомнения не было – шло звено самолетов.
На миг вспомнились подмосковные укрепления прошлой осени, исковерканные линии проволочных заграждений, ад огня, пепла и дыма, вздыбленной, комковатой земли и этот незабываемый вой вражеских стервятников… Но откуда и зачем появились они здесь?
Тревожные, сбивчивые вопросы и догадки роем поднялись в голове.
Десант? Как они сюда прорвались?
Зачем? Ведь здесь ему верная смерть!
Аэросъемка?
За каким дьяволом?
Просто разведка? Диверсия?
Слишком глухой тыл…
Не находилось ни одного сколько-нибудь логичного ответа, но факт был налицо: на далеком Севере, где-то между Котласом и Нарьян-Маром, за многие сотни километров от передовой, над тайгой выли немецкие самолеты.
Они уже миновали поселок, пролетели над головой и развернулись над зеленой равниной болота.
Будут садиться?
Внезапно под фюзеляжем переднего самолета мелькнул черный комок и через минуту расцвел серым шелковым венчиком. За ним раскрылся второй, третий, четвертый…
Сомнений не оставалось: это были немецкие парашютисты.
Самолеты сделали круг, ушли вверх и скрылись на западе. Но этого Николай уже не видел. Забыв о газовом фонтане на золотовской буровой, он со всех ног бросился обратно. Хлопнула дверь, и Николай почти упал на стол, сорвал телефонную трубку.
– Алло! Срочно, оперативный отдел!
– Занято, – через мгновение, показавшееся вечностью, прозвучал лаконичный ответ скучающей в утренние часы телефонистки.
– Выключите абонента! Немедленно, слышите?! – срывающимся голосом закричал Николай.
По-видимому, его тон убедил телефонистку. В трубке послышался шорох, Николай услышал мужской возмущенный голос:
– Центральная! Кто там мешает?
– Кто говорит? – резко перебил Николай.
– Майор Леонов. Что вы кричите?
– Это начальник Верхнепожемского участка Горбачев. В районе болота высажены парашютисты. По-моему, немцы!








