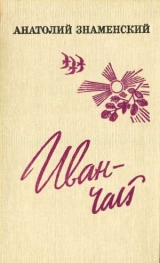
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
– Будьте отцом, умоляю! Одна я…
«Чертовка девка! Умеет взять за живое, родителем называет, слезу в самый раз пускает. И то говорят: бабий ум что коромысло – и криво, и зарубисто, и на оба конца. Не улыбкой, так слезой берет… А тут и ученость, видно, впрок пошла!»
– Нет, нет… Не обижу, чего там! Ни о каком долге отца не моги и думать. Моя оплошка… А что касается службы в Троицком соборе, как надо будет сделано. На себя возьму. Ну и сотню-другую на приданое…
– Со-о-отню! – охнула Ирина и упала опять на руки Павла Никитича. – Сотню! Да ведь… О-о-о, да ведь он за вас же голову сложи-и-ил! На вашем деле…
Такой душераздирающий вопль резанул волосатые уши купца, что он готов был утроить обещанную сумму, лишь бы уладить дело.
Он участливо похлопывал ее по спине, басил в ухо:
– Сама подумай. Нешто можно так убиваться? Ну, помер человек – царство ему небесное, а при чем же тут убиваться? Все так: живем шутя, а помрем взаправду…
Слова грохотали где-то в стороне и не затрагивали ее души. Никит-Паш и сам чувствовал, что несет пустое, вздор, и не мог сдержать потока нелепых слов. Как ни говори, не своей смертью скопытился Прокушев. Хоть и порядочный жох был, а жалко человека. Все к тому идем…
– Помолчи, помолчи, дочка! Побереги себя-то! Красу-то свою сохрани, господь с тобой. Что уж ты так?
Через полчаса Ирина выходила от Козлова, получив на первый раз триста рублей.
Сын Никит-Паша Васька, окончивший в этом году гимназию, веснушчатый и долговязый парняга, держал у крыльца под уздцы каракового жеребца, нервно перебиравшего ногами. Пролетка ходила ходуном от упругой порывистости рысака, готовая затарахтеть по дороге на пристань.
Хозяин сам вышел на крыльцо, махнул рукой:
– Василь, скажешь, чтобы лучшую каюту!
Ирина отправлялась на могилу отца, и до Веслян Павел Никитич предоставлял ей первоклассную каюту на пароходе.
Молодой Козлов прыгнул следом за ней в пролетку, натянул вожжи. Ветер пахнул в лицо, высушил слезы Ирины. Страшная сила подхватила ее и несла, уже одну-одинокую, в неведомую, тревожную даль. Молодой купчик держался умело. Лихостью его бог не обидел, – как видно, в отца угодил. Сдерживая вожжи своими красными, толстыми руками, он мельком оборачивал к пассажирке веснушки, гудел сквозь цокот копыт:
– Эх, плачете вы, Ирина Ефимовна, плачете все и не знаете, что я вас на руках от горя унес бы! Вот так всю жизнь летели бы… чтоб дух перехватывало!
Молод еще сын у Козлова, зелен.
– Табань к берегу!
Днище лодки зашуршало по галечнику, кто-то уже спрыгнул на берег, загремел цепью. Яков шагнул через банку, выскочил следом. Рядом причаливали другие посудины.
– С лодки на берег выйдешь – все одно земля под ногами ходуном ходит, – весело бормотал спутник Якова, вскидывая на плечи грязную торбу. – Приехали! Вот они, Половники.
– Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!
Толпа рубщиков повалила вверх по берегу. Все спешили так, будто могли опоздать к новому подрядчику, но странная картина открылась им у земской избы.
Сотни полторы незнакомых мужиков с кольями и топорами напирали на крыльцо, лезли в открытые двери.
Возбужденный гомон взрывался яростными криками, руганью и каким-то осиротелым воем.
Путники насторожились, укоротили шаг.
– Убивца, что ли, поймали? – спросил кто-то.
– Тащи ямского старосту сюда! Пускай сказывает! – орал хриплый голос у крыльца.
– Пускай розыск дают!
– Сыщешь его, дьявола, лови ветра в поле!
– Сроду не видали такого барина…
Яков втиснулся в толпу, спросил наугад безбрового мужичка:
– Кого упустили?
– Барина.
– Толком говори!
– Заглавного барина, у кого работали.
– Удрал… – подтвердили из-за плеча Якова. – Заячью скидку, значит, исделал и дал стрекача с нашими деньгами!
Яков вспотел.
– Как так? Тут земство. Тут на бумаге записывают, по закону!
– А черт его знает как! Смылся, словно базарный жулик, – и все… На всякую гадину не припасешь рогатину.
Из дверей вывалилась куча народа. На верхнем порожке поставили дрожавшего всем телом ямского старосту.
– Когда улизнул Парадыцкин, говори! – хлестнуло яростью со всех сторон. – Куда направился?
Староста мялся на пороге, опасаясь слепой расправы.
– Проглотил язык, так твою… Говори! – наступала толпа.
Мужик бессильно развел руками:
– Позавчера еще… Лошади давно вернулись. Да он не впервой до Вологды…
– Трепись больше! Купленный ты, вот что!
Староста упал на колени.
– Перед богом – ничего не знаю! Забрал коней и уехал. За ночь полведра водки высосал, ирод…
Яков вздохнул и попятился из толпы. Делать тут больше было нечего.
На приклети амбара сидел какой-то вычегодский охотник в рваном лазе. Яков подсел к нему:
– Значит, и тут жулье?
Охотник досадливо кивнул головой.
Толпа рассеивалась. Яков собирался уже возвратиться на берег, к лодкам, и тут увидел Пантю.
17. Куда теперь?
Батайкин стоял у крыльца ямской избы и угрюмо оглядывался по сторонам. Он остался один и не знал, куда теперь девать себя.
– Пантя!
Он обернулся и не спеша подошел к амбару. Безучастно пожал руку Якова, присел рядом. Не хотелось даже заводить разговор.
– Когда пришел? – спросил, не поворачивая головы.
– Сей день.
– Все видел?
– Пришлось…
– Вышло, что твой Никит-Паш и в самом деле честнее? Надули нас земцы!
– Кой черт! Все одинаковые, – с жаром возразил Яков. – Сын в отца, отец во пса, а вся родня в бешеную собаку!
– Тоже обманули?
Яков рассказал о Прокушеве.
Опять помолчали. Пантя, склонив подбородок к самым коленям, по привычке чертил палочкой на земле, сосредоточенно думал.
Но что же можно было придумать в его положении? Деньги, заработанные десятинедельным тяжелым трудом, вдруг растаяли как дым. Возвращаться домой было не с чем, предстоящая судебная волокита с земской управой не предвещала пока ничего хорошего. Многие верили в справедливое решение суда – Пантя не верил.
– Куда теперь? – безнадежно спросил Яков.
Пантя отшвырнул на середину пыльной дороги щепку, которой вычерчивал непонятные крючки. Этот вопрос давно уже, словно заноза, сидел у него в голове.
– А черт его знает куда! На Мотовилиху, видать, придется двигать…
– Не дойду. Далеко, – сказал Яков.
– Тебе-то что! Ты и в Серегове можешь до осени прокрутиться, копейку заработать. А мне там показываться нельзя, брат…
– Ходил, однако? – с интересом напомнил Яков о тайне, которую упорно не хотел раскрывать Пантя.
– Об этом помалкивай. То ночное дело, по просьбе. Мне об этом забыть положено: коли сболтну ненароком, полиция голову оторвет…
– Значит, молчок? А коли не молчится? – вдруг осмелел Яков.
– Ты о чем это?
– Все о том. Жизнь, Пантя, такая, что и не хочешь, да взвоешь.
– Да. Плох базар, коли хлеба не на что купить…
Не сговариваясь, они поднялись с приклети и направились к речке. Лодки все еще покачивались у берега, ожидая возвращения отлучившихся гребцов.
Яков прыгнул в одну из них и сел к кормовому веслу. Пантя оттолкнулся от берега и стал выправлять на середину реки.
Волостной писарь нервничал.
Еще в день появления ссыльного Новикова в Подоре становой приказал писарю тайно выслеживать его и в случае чего немедля сообщить в уезд. Новоявленный осведомитель, человек грамотный и дошлый, знал, что за серьезное донесение полагалась награда, и с похвальным рвением занялся слежкой.
Порой его возмущала безобидность ссыльного, который с поразительным упрямством не желал нарушать предписанных правил и лишал этим осведомителя всякой надежды на заслуженную награду. По этой причине, может быть, писарь и питал большую симпатию к эсерам и анархистам – на них было легче заработать. Появляясь в селе, они с первых же дней начинали обычно тайную агитацию среди парней и девок, привлекали в свою компанию чахоточного учителя и поповского сына – семинариста, норовили по ночам избить урядника или старосту. Этот народ все больше размахивал руками и орал непотребное, а писарю оставалось записывать на бумаге преступные деяния и упредить Усть-Сысольск о возможных беспорядках.
Этот же был совсем иной. Вел себя смирно, водки не пил, с поповичем не якшался, а старосте оказывал уважение– при встречах приподымал картуз. Но на сереговских заводах смутьяны опять заварили кашу, и, хотя заводы располагались в другом уезде, писарь подсознательно чувствовал свою ответственность за беспорядки: до заводов было рукой подать.
Он заново обдумывал недавний разговор со старухой, удивился своей доверчивости. Старая карга могла и проспать ночное посещение, а потом от страха сослаться на Пантиного друга. Ведь он самолично видел ночного гостя, а ночью благонамеренные люди обязаны спать. В окно окромя прочего можно было заметить, что огонь на загнетке разводил Новиков, – стало быть, к нему и приходил этот… Теперь важно было не проморгать следующего «ходока». Однако после памятной ночи ссыльный снова затаился. Ночное бодрствование действовало изнуряюще, Поэтому писарь заставил наблюдать за окнами батайкинской избы сторожа волостного правления. Тот каждое утро докладывал ему, что ничего «такого» не произошло.
Сегодня писарь вскочил с кровати на восходе солнца от внутреннего толчка: а вдруг он проспал самое главное – свою долгожданную удачу?
Натягивая сапоги, замер в нелепой, скрюченной позе. Лицо выразило глубочайшее раздумье.
– Ах, дьявол! – сказал он и засмеялся какой-то своей догадке. – Рыбалка! Вот на рыбалке-то я сроду за ним не присматривал. А? Ведь каждый день, почитай, таскается человек в лес с кошелкой, а я уши развесил.
Сторож дремал на крыльце правления.
– Ну как? – строго спросил писарь.
– Опять направился… – махнул тот рукавом куда-то вверх по речке.
– Давно?
– Да как сказать… Спозаранок ушел. С кошелкой и удочками. Надо полагать, ухи бабка захотела.
– Ишь ты, ухи! Гляди у меня! – зачем-то пригрозил писарь и торопливо ушел домой.
Через полчаса он снова появился на улице, в будничной одежде и старых, разношенных поршнях. В руках держал удилище и ведерко.
Фунтовые хариусы ловились на перекате у Вас-Керки, верстах в трех выше деревни. Узкая тропа повела писаря по высокому берегу. Лес тут был самый беспорядочный: то вдруг мелькал молодой, узорчатый кедр, то красная сосна с ягельной подушкой на корневищах, а то серебряная березка раскидывала тонкие, трепещущие ветки над стоялым болотцем.
Лесная влага поднималась навстречу утреннему солнцу. Пичуги сновали в зеленой гуще, а вслед писарю по еловым вершинам скакала встревоженная сорока и оглашала лес паническим криком.
Он неторопливо петлял по тропе, временами сворачивая ближе к берегу, чтобы не проглядеть того – иного – рыбака: ссыльный мог не ходить к дальнему перекату…
Речка была пустынна. Где-то внизу, под обрывами и травянистыми скатами, замерла стеклянная голубизна воды. Большое, разорванное на рыхлые клочья облако колыхалось в реке, медленно погружаясь в донную синеву. Тогда под ногами разверзалась захватывающая дух высота, и писарь отводил взгляд. У противоположного берега обсыхали огромные мшистые валуны, желтели на солнце теплые песчаные осыпи.
Пришлось одолеть все три версты. Но и большой перекат оказался безлюдным. Речка свергалась здесь с аршинной высоты, гремела между каменных глыб.
– Что за дьявол! – выругался писарь. – Куда же он пропал? Уж не дал ли тягу с удочками?
Выйдя к повороту речки, писарь вдруг остановился. Внизу, на песчаной косе, стоял Новиков и, вытянув руку с удилищем, напряженно следил за леской. Он был бос, а черные шаровары с белыми исподниками закатал выше колен, чтобы удобнее бродить в воде.
Занятие, за которым застал писарь ссыльного, было явно непредосудительным, и он почувствовал досаду и разочарование. Стоило ли бить ноги в такую даль! К тому же Новиков норовил поймать рыбу за двести сажен от подходящего места, где ни один порядочный человек не забрасывал лески.
– Эх ты, рыбак!.. – с сожалением сказал писарь и тотчас спрятался за лиственницу.
Изумленно вытягивая шею, смотрел во все глаза. Откуда-то из-за огромной коряги, позади Новикова, вывернулся другой человек и тихо свистнул. Ссыльный обернулся…
Ах, досада! Отсюда, сверху, нельзя разобрать слов.
Они обменялись, кажется, лишь двумя-тремя фразами, потом Новиков кивнул наверх, прямо на писаря, и оба стали подниматься по лесистому скату к избушке.
Писарь дал им подняться до тропы и спрятался за можжевеловый куст. Люди прошли в двух шагах, исчезли в охотничьей избушке – керке, той самой, что издавна стояла у переката и дала ему свое имя.
В одну минуту писарь оказался позади керки, приник к щели между бревен, откуда вывалился пересохший в труху мох.
В избушке было сумрачно и тихо. Глаз наблюдателя уперся в широкую спину ссыльного. Больше ничего не удалось разглядеть.
– Клюет? – с удивлением услышал он нелепый и какой-то обидный для себя вопрос в избушке. Это спрашивал Новиков, упорно не желая сдвинуться в сторону и расширить кругозор писаря.
– Клюет здорово, дядь Илларион, – с заметной усмешливостью в голосе сказал кто-то в ответ, – не то что мелочь, но и крупная рыба пошла, несмотря на… ненастную погоду.
– Да-да, погода… – почему-то вздохнул Новиков. – Того и гляди, порвет сети, хоть ты что!
– Добрый ветерок потянет, – глядишь, и разбегутся тучки.
Замолчали.
– Щук не встречал? – вдруг спросил Новиков.
– За пескарями не охотятся, – ответил его собеседник. – Притом в сию сторону они не глядят: от больших озер ждут поживу… На завертку приготовили? – спросил незнакомый.
– Есть. Кури.
В избушке зашуршала бумага, черная спина с потными лопатками сдвинулась наконец в сторону, человек повернулся боком, и наблюдатель с восхищением и ужасом увидел близко от себя две жилистые руки, сжимавшие пачку белых листков.
«Вот оно!..»
Две другие руки, поменьше и погрубее, в ссадинах, бережно перехватили пачку листовок.
– Пройдешь? – уже откровеннее спросил Новиков.
Ответа не последовало, – наверное, тот кивнул головой.
Писарь поднялся и, осторожно ступив за куст, вдруг со всех ног бросился к деревне. За избушкой, на сырой моховине, остались брошенные ведерко и удилище.
…Вечером сторож волостного правления долго прохаживался у дома Батайкиных, пытаясь заглянуть в окно, и дважды напугал старуху. Потом покинул улицу и неожиданно появился во дворе откуда-то с задов.
Дверь отворилась с тихим скрипом. Старик просунул в избу волосатую голову, огляделся по сторонам. Потом, убедившись, что старуха уже убралась на печь, выразительно кивнул постояльцу: выйди, мол, на минутку…
Андрей вышел.
В темном чулане дед придержал его за руку.
– Ты, Степаныч, вот чего… Ты гляди, как бы не приключилось чего. Замечен ты, слышь, на рыбалке. – И зашептал еще тише: – Писарь уехал днем к становому. Гляди сам. Я, сынок, в этих делах мало смыслю…
Он высвободил пальцы из горячей руки Андрея и так же тихо вышел за двери.
Ночью он исправно наблюдал за окнами дома, сидя на влажном от росы крыльце волостного правления.
Сереговские заводы не работали. Пантя, поджидавший друга в лодке, еще издали по виду возвращавшегося Якова понял, что дело плохо.
– Ну как? – спросил он.
– Плохо, – буркнул тот и принялся с ожесточением разламывать буханку хлеба, купленную в трактире. – Ешь! Подыхать, что ли, все собираются? Никого не берут. Соль, говорят, не нужна стала. А мясо у Чудова червями пошло!
Пантя медленно жевал пресный хлеб, испытующе поглядывая на товарища. Яков становился злым, не похожим на самого себя.
– Ну, так как же? Может, со мной на Мотовилиху, а?
Яков отрицательно покачал головой, оттолкнулся веслом от берега.
– Знаешь что, Пантя! Давай-ка я спущу тебя лодкой в Усть-Вымь. Нечего тебе ноги бить пешком. А там разойдемся. Я на Ухту пароходом думаю махнуть, к одному человеку.
– Кто тебя там ждет?
– Гарин. Есть такой человек хитрый. На глазах надул двух купцов в Весляне. Жулик! А меня крепко звал в проводники, да я по глупости отказался…
– Сам же говоришь, что жулик?
– Э-э, собака своих не кусает. Мы с Филиппом его на Роч-Косе из прорвы вытащили…
– Гляди, а то дойдет до денег – и позабудет, что ты свой.
– Не позабудет, – мрачно пробурчал Яков.
– Тебе видней…
Лодка неторопливо спускалась вниз по течению. Мимо проплывали зеленые берега с прошлогодними, заброшенными остожьями и новыми, аккуратно очесанными зародами, с черными, будто обугленными, деревушками. Лесные керки выглядывали из ельников, готовые с первым снегом принять охотников.
Яков сидел, опершись на локоть, и думал. Его манили эти лесные избушки с их знакомой тишиной и одиночеством, с незапятнанной справедливостью леса, семипудовой усталостью многоверстной погони за зверем и сладким отдыхом после.
Эх, ушел бы он снова в это родное и привычное странствие, позабыл бы страшную правду о людях, глубоко засевший в душу свист падающей сосны и запоздалый вопль: «Берегись!..»
Ушел бы от них Яков в лес, да сегодня жить нечем.
В Усть-Вымь приплыли поздно вечером.
– Пешком пойду, – сказал Пантя, прощаясь. – Тут уж недалеко до дома, нечего время терять. Дня три отдохну, да и в Пермь…
Он ступил на берег, подкинул пустую торбочку.
– Покуда!
Яков все думал о чем-то. Потом сунул руку в карман.
– Подожди, Пантя… Бери трояк на дорогу. И вот еще: передай Агашке червонец. Скажи, что больше не заработал я… – Пантя взял дрогнувшей рукой замусоленные бумажки. Яков отвернулся в сторону, невнятно добавил: – Зайди к ней. Пособи, коли неуправка в чем… Все же не чужой человек. А?
Пантя крепко пожал его руку.
– Спасибо, Яш… Не забуду этого! Спасибо!
И ушел вверх по угору своей размашистой походкой. Яков, опустившись на банку, долго смотрел ему вслед.
На восходе солнца Вымь курилась тонким туманом. Теплое и росистое утро ласкало берега, в плесах билась красноперая рыба – язь, а над стрежнем из быстрины взвивались серебряные хариусы.
Пришлось опять подниматься вверх по реке – пароход только недавно ушел в Весляны и ожидался не скоро.
Яков стоял на корме и неторопливо отталкивался шестом. Верстах в двух от села, когда он огибал песчаную косу, за излучиной, там, где над водой поднимался невысокий крутояр, из-под ольхового куста встал человек, махнул рукой:
– Эй, хозяин!
Яков оперся на шест, придержал лодку.
Человек в черном, городского покроя пиджаке опять поманил его рукой. Крикнул вполголоса:
– Перевези на тот берег!
Что за удивление! Человек как будто был знаком Якову. Мать честная, кажется, батайкинский постоялец!
Лодка упруго подалась вправо, наперерез волне, скользнула к кустам. Так и есть, ссыльный. Тот самый непонятный человек, который первый сказал, что жаловаться в жизни некому…
Едва лодка коснулась берега, ссыльный торопливо шагнул в нее и, не удержавшись на шатком днище, сел. Тоже удивленно и пытливо всматривался в лицо Якова. В глазах притаилась тревога.
И тут Яков почему-то широко и лучисто улыбнулся:
– В бега пошел?
– Вроде бы… А ты узнал меня? Я уже забыл, парень, как тебя звать-то? Яков, что ли?
– Яков. А ты – с четырьмя фамилиями?
Теперь улыбнулся Андрей:
– Приходится. Если цел останусь, пятая прибавится.
Посудина миновала стрежень, и шест стал доставать дно. Яков изо всех сил толкал лодку, а беглец тревожно посматривал по сторонам.
У самого берега Яков осушил шест, задумчиво присел на корточки. Странные люди попадались в его жизни, но тех, что изредка говорили правду, как-то все проносило мимо. Вот и этот сейчас пропадет с глаз, а с ним хотелось поговорить о самом большом и важном, о чем не успел раньше. Но говорить было некогда, человек спешил.
– Где нынче твой знакомый-то? – все-таки спросил Яков.
– Какой знакомый? – не понял сразу беглец.
– Да что всю правду о бедных знает… как его зовут?
– Ленин?
– Ага.
– Ленин – на земле. С нами! – И Андрей с улыбкой посмотрел куда-то вдаль, где лежала его далекая дорога.
Лодка мягко зашуршала по песку, толкнулась в береговую осыпь.
– Привет Ленину своему передай, коли увидишь… – И добавил хмуро, видя, что Андрей достает потрепанный рубль: – А денег не надо. У тебя, почитай, не один чемкас впереди?
Андрей крепко пожал руку Якова и, подхватив свою сумку, быстро взбежал наверх, на береговой откос.
– Прощай, Яков!
– Прощай, прощай… Спеши, а то урядников много!
И человек пропал в зарослях, словно сквозь землю провалился. А надо бы с ним поговорить обо всем, что повидал Яков за этот год.
Однако впереди лежал еще немалый путь, приходилось и самому беречь время. Если Гарин не позабыл Якова, к зиме можно было бы заработать на хлеб и успеть вернуться домой.
Была самая середина лета. Тайга млела в болотной испарине, гудел гнус. Запахи скошенного сена и текучей сосновой смолы осилили наконец гнилостное дыхание преющих торфяников. Березняк звенел от птичьего гама, всякая козявка выбиралась из-под колодной сырости на солнышко. Созрела земляника. Можжевельник выпустил бурые кисточки на концах изумрудных лапок. В еловой гуще кормились выводки боровой дичи.
В полдень Пантя вышел из леса к деревне.
Его неприятно задело спокойное довольство деревушки, разметавшейся по лугу.
Избы принарядились в зеленую оторочку палисадников; курчавый подорожник рос прямо на колеях дороги; на выгоне паслись телята, беспечно взбрыкивая в ожидании вечернего молока; принарядившаяся баба шла с деревянными бадейками к реке… Все было тихо и сонно.
«С ума тронуться можно, – заключил Пантя, входя в крайние дворы. – Земля радуется, палисадники растут у окон, людишки ползают по земле, а житья нет…»
Мать кинулась ему навстречу, заголосила, Пантя обнял ее худые, костлявые плечи, неловко прижался губами к виску, к пепельным жиденьким прядям волос и задохнулся от нахлынувшего вдруг чувства. Его опьянил родной, с детства знакомый солоноватый запах ее кожи и ее волос – запах трудового пота и слез.
– Ну что ты? – смягчая свой грубый голос, заговорил он. – Видишь, живой и здоровый я…
– Беда, Пантюша! Ох, беда! – тряслась она в его руках. – Утек постоялец-то. В волость тягали… Боюсь, и тебя как бы не обидели, ироды!
Вошли в избу. Пантя повесил у притолоки армяк, сел в передний угол, осмотрелся. В избе все было по-старому, неприглядно и бедно.
– Утек – и ладно. Чего ему тут было сидеть? Он человек нужный в другом месте…
– Да ведь измордуют нас урядники!
Мать загремела заслонкой, полезла в печь, а сын все осматривался по сторонам, будто хотел отыскать невидимые следы постояльца. Потом вышел на крыльцо, умылся из берестяного ковшика, привешенного вместо умывальника, и, вытираясь старой рубахой, вдруг договорил:
– Бежал – счастливого пути ему! А насчет страха… скажу, что обидеть меня нельзя. Некуда больше обиду принять!
Мать в вытянутых руках несла чугун со щами.
– Больно горд ты, Пантюша. Чужой какой-то… Боюсь я.
Старуха оказалась права. Не успел он дохлебать щи, пришел посыльный из волости.
– Батайкин! Господин становой требуют!
Пантя неторопливо облизал деревянную ложку, отвалился к стене.
– Ладно. Приду.
– Велено сразу.
– Сказал – иди, значит, иди, а не то в шею дам!
Мать, облокотившись у шестка на рогач, со страхом
и недоверием глядела слезящимися глазами на сына. Сполошный он какой-то стал. Не похож он был на того смешливого белобрысого парнишку, каким ушел от нее когда-то с бородатыми зимогорами на Мотовилиху. Неласков стал, остервенился на людей, богу не молится… Не к добру это!
– Ты бы шел уж, сынок… Обозлишь нечистых – беды не оберешься.
– Я сам злой. Знаю! – оборвал он старуху и недобро глянул на дверь.
Посыльный ушел, а Пантя оделся и вышел следом. «Пока суд да дело, к Агафье надо успеть, – подумал он. – А то и впрямь под замок упрячут…»
У Опариных около дома полегла изгородь. Пантя по-хозяйски налег плечом, выправил прясла, попробовал осадить колья, но они изрядно подгнили. Без топора не обойтись. «Потом сделаю…» – решил он и вошел во двор.
Агаша стояла на крыльце, оправляя дрожащей рукой старенький фартук.
– А я гляжу: кто это там хозяйничает? – дрогнувшим голосом сказала она.
Ветер налетел с огорода, рванул юбку, нахально облепил грудь и бедра девушки тонким ситчиком, словно по мокрому телу. Агаша покраснела и ушла в избу.
Пантя шагнул следом.
– Не бойся… Брат гостинец прислал, – сказал он.
Агаша стояла спиной к столу, опираясь руками на столешницу, и смотрела исподлобья чуть-чуть испуганными и радостными глазами.
– Не бойся, – повторил зачем-то Пантя и взял ее за руку. – Яков зайти велел. Здравствуй, Агаша…
У нее вспотели ладони.
– Чолэм… – ответила она, еще сильнее покраснев.
– Не ждала?
– Ждала.
– Я о тебе думал. А ты?
– И я…
– Эх ты, пичуга!.. Чего же ты испугалась?
Пантя присел на скамью, усмехнулся, достал из кармана деньги и положил на стол.
– Яков это просил отдать. Он опять на Ухту двинулся, не скоро придет. Велел помочь тут тебе, в чем нужда. И поцеловать велел…
Агаша метнулась за стол.
– Плохой ты! Кто об этом так говорит? – И заплакала.
Пантя подошел, погладил дрогнувшей жесткой ладонью белесый пробор на ее голове, мягко взял за плечи.
– Эх, досада моя! О чем плачешь-то? Ведь знаешь – не обижу, знаешь, что ты дороже всего на свете мне… Ну? Вытри слезу.
Мокрые глаза улыбнулись благодарно и лучисто.
– Не бойся… – прошептал он и вдруг, притянув ее к себе, поцеловал жадно и неумело в пухлый уголок рта.
– Подожди… Подожди… – упрашивала Агаша, а сама вся тянулась к нему, точно гибкая лозинка под ветром.
…Вечером Пантя пришел в волостное правление. Становой Полупанов, примчавшийся из Усть-Сысольска для расследования побега, обругал на все лады хозяина квартиры за случившийся недосмотр и, взяв с него подписку о невыезде, до времени отпустил домой.
На восьмой день Яков достиг переволока. Приток промышленников на Ухту почти прекратился, и тутошние жители стали сговорчивее, перетянули лодку за два рубля.
На Ухте глухо, безлюдно.
Яков не понимал причин, которые побуждали людей идти скопом на Ухту, тратить бешеные деньги, а потом бросать все – пропади пропадом! Он не понимал этого, да и не хотел понимать. То были богатые чудаки, они могли сорить деньгами как хотели. Он думал о другом – о судьбе бездомных работяг, каким он был сам. Ведь богатеи, что вершили дела на Ухте и в прочих углах земли русской, вовлекали в опасную игру и тех, кто верил в копеечный заработок на новом деле и, значит, рисковал собственной головой. Этим людям было не до шуток, они искали верного дела, и они же терпели главные убытки… Казалось, сам дьявол затеял на земле эту недостойную игру, в которой не было победителей. Те, кто искал горный деготь, – не нашли его. Земству понадобилась прямая дорога в медвежий край – дорога застряла на полпути. Работный люд шел сюда зашибить на зиму деньжат – ушел по домам без копейки…
Теперь у Якова оставалась одна надежда – на Гарина. Этот человек был зол на жизнь, он не собирался отступать. Ему хоть и с опаской, но можно было верить…
Яков пристал к берегу у Сидоровской избы рано утром.
Странное запустение царило на бывшей стоянке. Кабачок Чудова с выбитыми оконцами и распахнутой дверью живо напомнил Якову сутолоку голодных лесорубов у тяжелого замка, которая уже тогда обещала близкую развязку. В деле, как видно, участвовали топоры – дверь держалась на одной петле.
Пока Яков рассматривал избушку, к берегу причалила еще одна лодка. Из нее вышли урядник Попов и какой-то усть-ухтинский мужичонка, исполнявший должность гребца или понятого. Он подобострастно семенил за урядником, тщетно пытаясь придать своей физиономии некую официальную значительность.
Попов властно огляделся, заметил одинокую фигуру Якова и зачем-то погрозил пальцем:
– Нюхаешь? Ищешь, что плохо лежит? Все, сволочи, разнесли в пух, не дождались тебя!..
Яков стиснул зубы от неожиданной и страшной обиды. Попов, уроженец Ижмы, хорошо знал, что воров-коми на свете нет. Он знал это, но слепая ненависть к людям и жажда власти были сильнее его.
– Мне тут ничего не надо! – крикнул Яков.
Урядник не слышал. Он остервенело бил сапогом в двери
Сидоровской избы.
– Открывай! Открывай, так твою!.. – бесновался он и употреблял самые тяжеловесные ругательства.
Яков присел на пень и стал ждать, что из этого получится. Излишним любопытством он не страдал, но ему сейчас просто некуда было уйти.
Дверь открылась, и на пороге выросла длинная иссохшая фигура в грязном нательном белье.
Господин Альбертини босиком, с нечесаной головой гордо загородил собой вход.
– В чем дело? – с подчеркнутым пренебрежением спросил он.
– Э-э, дохлая рыба! – мыкнул урядник и без труда, легким движением плеча, втолкнул хозяина в избу. – Хватит барина корчить!
В следующую минуту Попов высунулся из двери и зашарил глазами вокруг.
– Эй ты, иди сюда!
Яков приблизился.
– Входи. Понятым будешь…
– Чем могу служить? – неустрашимо спросил Альбертини и, накинув на плечи какую-то рвань, отдаленно напоминавшую штатский мундир, присел к столу.
– Всем, чем потребуется! – отрезал Попов. – Приказано произвести опись имущества по иску. Засиделись вы тут без толку.
Яков присел у двери. В избе было неопрятно и сыро. Не иначе – хозяин доживал последние дни. Да и описывать тут было нечего.
Между тем урядник разложил на грязном столе бумагу и подтолкнул к табурету сопровождавшего мужика:
– Пиши!
Альбертини откинулся к стене и дико захохотал. Глаза его закатились под лоб, кадык судорожно дрожал.
– Что… что же вы будете описывать? – захлебываясь, спросил Альбертини. – Разве это? – он шевельнул плечом и швырнул на стол свой драный мундир. – Нате! Ешьте…
– Но-но! Погуляй у меня! – пристукнул кулаком Попов. – Опишем все, включая машины и буровую установку.
– Машины?!
Альбертини ощерился и стал медленно бледнеть.
– Машины? Но это же не мое, это компании!
И тут свершилось неожиданное. Он сунул свою костлявую руку куда-то под стол, прыгнул в угол и наставил на урядника револьвер.
– П-попробуй!..
Неизвестно, ожидал ли Попов этой выходки или просто давно набил руку в подобных делах, но через минуту Альбертини с разбитыми зубами валялся на полу, а мужичок старательно связывал ему руки.
– Та-ак… Сопротивление властям припишется… – вслух рассуждал урядник. – Два года не плачено жалованья зимогорам – раз, двухмесячный харч из чудовской лавки бесплатно – два, иск господина Гансберга – три. Окромя протчего неподчинение…
Часом позже связанного Альбертини уложили в лодку, и Попов отбыл в Усть-Ухту.
Яков остался один. Делать здесь было нечего. Опустевшие избушки на заброшенной стоянке живо напоминали о голодных неделях прокушевской рубки.
На второй день от случайного рубщика, задержавшегося в ближней деревне, Яков узнал, что какой-то инженер недавно искал в этих местах проводника и отбыл на лодке вниз по Ухте. Это известие немного успокоило охотника, и он с легким сердцем отправился на поиски инженера.
Можно было подумать, что Ухта доживает последние дни.
Промышленники покидали ее один за другим, точно испугавшись некоего призрака, посещавшего по ночам глухие промыслы. Вслед за штабс-капитаном Вороновым смотал удочки инженер Бацевич, за ними – слабохарактерные столбопромышленники. Полусумасшедшего Альбертини приводила в чувство грязная бревенчатая камера при волостном правлении… Оставался один Гансберг. Но и с ним произошло что-то такое, чего пока что не мог понять урядник Попов, вторично высаживаясь на ухтинский берег вблизи Варваринского промысла.








