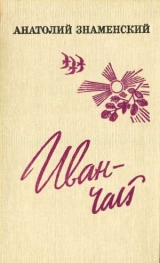
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
– Пошто людей тревожат?
– Не видишь, етапных содют, арестантов, – поясняет сосед.
Холодно. С неба косо глядит белый месяц. На палубе мелькают черные тени, одна за другой проваливаясь в преисподнюю – в трюм.
У трюма – перекличка.
– Сизов!
– Я!
Черная тень, ссутулившись, ныряет вниз.
– Гибнер!
– Я!
– Жид… – .мимоходом определяет конвоир.
– Новиков, он же Кольцов, он же Кожушко, он же Иллари-ён!..
– Я…
– Эк жадный-то! Сколь прозвищ-то нахватал! – крестится внизу пораженный пассажир.
Запорожцев захлопнул оконце, присел на полку:
– Сейчас тронемся…
Ночью Федор проснулся. Все тело горело так, будто его во многих местах палили раскаленным железом. Клопы!
Он перевернулся, покрутил головой, и вся шея вдруг запылала от нестерпимого зуда.
– Григорий… Ты спишь?
Товарищ безмятежно спал рядом, не считаясь с нашествием голодных насекомых. Внизу, за бортом, настороженно шуршали о борт двинские волны, не нарушая сонной дремы на пароходе.
– Гриша…
Запорожцев так и не проснулся. Пришлось зажечь лампу и, разогнав клопов, облить пол и постель водой. Только после этого можно было прилечь снова, но сон еще долго не возвращался к Сорокину.
Закинув руки за голову, он лежал на спине, уставив взгляд в темный потолок, и не мог отделаться от тягучих и грустных воспоминаний.
Щемящее чувство вдруг извлекло из глубин памяти желтую акацию у ворот, грязный, заросший осокой пруд посреди уездного городка, тихую, немощеную улицу детства, по которой бегали когда-то его босые ноги в цыпках и ссадинах. Проломы в заборах, ворованные яблоки… И ярко, совсем свежо – сорванная с петли дверца голубятни, затяжной полет турмана и крик матери у крыльца: «Федя, не ушибись!..»
Бедная старуха! «Не ушибись…» Она твердила всегда, что он, ее сын, должен учиться на путейца и носить впоследствии инженерскую фуражку. Это дало бы ему положение. Но отец, учитель реального, оставил их раньше времени, унаследовав фамильную чахотку, и Федор выбирал судьбу по призванию, сам…
Потом – Ванька Лотарев. Передвижные театры в провинции, стихи, первая и несчастная любовь к гимназистке Сонечке Мезенцевой…
Потом его любили. Но он вспоминал вдруг материнское «Федя, не ушибись!..» и шел мимо, верный своей одинокой звезде. Куда же вела она его?
Она вела необычной дорогой, и это было хорошо, потому что не хотелось монотонного повторения того обычного пути, которым шли уездные чиновники. Хотелось удержаться на поверхности человеческого водоворота своими собственными силенками…
Жизнь еще сулила что-то новое. Федор поверил в это новое и наконец забылся тяжелым долгожданным сном.
Перед рассветом над рекой прошелестел теплый дождь, встряхнув вкрадчивым далеким погромыхиванием сонные берега. Потом облака разошлись, солнце рассеяло густой туман, сверкающая нестерпимым утренним блеском река открылась вдруг во всем своем вешнем великолепии.
Правый берег высился красными глинистыми обрывами и теснил Двину, зато по другую сторону ей был полный простор. Там раскинулись затопленные луга с тихими, одичавшими курьями, с кустами ольхи и черемухи, окунувшимися в воду до самых плеч. Полая вода спадала, оставляя на ветвях клочья желтой пены.
Пассажиры толпились на палубе, пользуясь часом хорошей погоды, которой Север не привык баловать людей. Часу в одиннадцатом вышел Федор, кое-как возместив двухчасовым отдыхом тревожную ночную бессонницу.
На пароходе кипела жизнь. Сновали шустрые, оборотистые людишки в пиджачных парах с блестящими цепями накладного золота через живот, молодцы приказчицкого вида в поддевках, с завитыми кудрями из-под околыша картуза, монахи и монашенки с пузырьками богородицыных слез. Вахтенный матрос гнал с верхней палубы Ваську-странника, предлагавшего из зеленой бутылки тьму египетскую и пучок Иисусовых волос.
В полдень из каюты первого класса, неторопливо потягиваясь, выплыл господин огромного роста, в роскошном сером костюме и мягкой дорогой шляпе, по виду богатый промышленник или доверенный солидной компании.
Человек этот, лет сорока четырех, с дородным белым лицом, неторопливыми и уверенными движениями, с нерусской, бросающейся в глаза самоуверенностью, сквозившей в каждом движении, привлек на палубе всеобщее внимание. Третий класс, задрав голову и разжевывая черствую корку, изредка высказывал глубокомысленные замечания.
– Видал, какие мухи слетаются?
– Знамо, мясом запахло. Теперь полетят не хуже мошкары. Не иначе – опять на Уфту прутся…
– А может, в Архангельск-город. Туда тоже многие народы лезут к сплавной поре, дак…
– Само собой. Было бы болото, а черти найдутся!
– Куда те! Этот не иначе как на Уфту: морда сама подходяща и пасть с проглотцем…
– Зевласт барин. Этот не промахнет, слышь…
Григорий давно поджидал Сорокина на верхней палубе.
Он подхватил его под руку и кивнул на пассажира первого класса:
– Наш патрон… Пошли!
Федор не успел удивиться, как Запорожцев уже подвел его к человеку, успев лишь шепнуть:
– С нынешнего дня мы – служащие компании великой княгини Марии Павловны. Он – представитель фирмы, фон Трейлинг…
Сорокин поклонился и назвал свое имя.
Фон Трейлинг окинул его твердым взглядом, пожал руку, потом снял шляпу и, будто забыв о соседях, стал лениво помахивать ею перед собой, как веером. Под шляпой оказался огромный, круглый, до блеска выбритый череп с красным, мясистым загривком. Такая голова не могла не внушать доверия и уважения. Он и сам хорошо знал об этом И все же Сорокину казалось, что человек рисуется, не утолив самодовольства естественным вниманием и любопытством окружающих.
– Так вы полагаете, что следует подниматься до Усть-Сысольска? – спросил Запорожцев, продолжая, видимо, уже начатый разговор с патроном.
– Непременно, – приятным баском подтвердил Трейлинг, и его утверждение приняло характер непреложной истины. Только из снисхождения он бросил несколько поясняющих фраз – Непременно. Все деловые связи должны сойтись в Усть-Сысольске. Этот городишко – центр огромного края, он должен располагать и достаточными средствами, и сильными людьми, способными поднять Ухту…
– Вы надеетесь, что новому делу обеспечен успех? – полюбопытствовал Сорокин, которого все еще тревожила необычность и рискованность предприятия.
Розовое, холеное лицо Трейлинга озарилось кисловатой улыбкой:
– О да! Ухта, еще не родившись, уже громко кричит о своем существовании. В далекой Пенсильвании, не говоря уже о Петербурге и Москве, прислушиваются ко всякому слуху об Ухте. А на днях сам губернатор Хвостов на казенном пароходе отправился на эту сказочную речку…
– Губернатор? Зачем? – подивился Сорокин.
– Хотя бы затем, чтобы лично убедиться в нефтеносности края и поставить десяток заявочных столбов, пока не поздно. Архангелогородцы, по слухам, собираются оттягать Ухту себе…
Известие не произвело большого впечатления на Григория, но Сорокин сразу почувствовал себя крепче на ногах. Выходит, что они не ошиблись в выборе нового занятия.
– На месте господина губернатора я не рисковал бы собственной репутацией, а больше гонял чиновников, – опять усмехнулся Трейлинг. – Это их дело – сутяжничать с соседней губернией. Не так ли?..
На Варваринском промысле инженера Гансберга было несколько жилых деревянных строений, но рядом с ними вот уже третьи сутки стояла белая палатка губернатора. Так было экзотичнее.
Над брезентовым балаганом трепетал по ветру государственный флаг России, а у входа постоянно торчал солдат с ружьем. Всякое добропорядочное дело на Ухте не мыслилось без часового.
Чиновник особых поручений Бессонов сфотографировал бивак сиятельной экспедиции в разнообразных видах, а для потомства аккуратнейшим образом вел дневник путешествия, который лег потом в основу его капитальной книги «Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам, на Ухту». Изданная через два года в Санкт-Петербурге книга неопровержимо доказала, что Ухта относится к Вологодской губернии. Но сейчас это было еще не ясно, и поэтому здесь стоял часовой графа Хвостова.
Алексею Николаевичу на Ухте посчастливилось убить лося. Самец-двухлеток, сбросивший весной рога, вышел ранним утром к реке и остановился недалеко от палатки с трехцветным флагом. Животное не могло предполагать, что на промысле присутствовали чужие люди, а к местным привыкло: Гансберг запрещал бить лосей.
На беду, граф оказался не посвященным в этот добрый порядок. Он прогуливался у палатки перед завтраком, любуясь речкой, еще не вошедшей в берега, и высокими лиственницами на противоположном берегу.
– Поразительно! – воскликнул за его спиной Бессонов, когда лось вышел к воде. – Посмотрите – это же классическая сцена! Гобелен!..
По всей вероятности, Бессонов восхищался от души. Он шагнул мимо замершего часового в палатку и выскочил оттуда с прекрасным бельгийским ружьем в руках.
– Не желаете ли, Алексей Николаевич?..
У графа было отличное настроение. Он никогда бы не мог подумать, что в человеке так силен первобытный инстинкт охоты. Искушение опробовать новенькое ружье, находчивость Бессонова и близость крупной дичи – все это побуждало к действию.
Губернатор не торопясь поднял ружье, хорошенько прицелился: промах мог уронить его в глазах подчиненных. Лось в это мгновение оторвал от воды огромную комолую голову и равнодушно смотрел на белую палатку, на черную фигуру человека. За двадцать шагов было хорошо видно, как с его замшевой губы медленно срывались крупные светлые капли и, сносимые ветерком, косо падали в реку.
На выстрел сбежалась добрая половина промысловых жителей. Сторожевому солдату было разрешено оставить пост и заняться разделкой туши. Граф передал ружье Бессонову и медленно стал подниматься на пригорок, к дому Гансберга, где его ожидал завтрак.
На пороге аккуратного домика стоял в черном сюртуке и крепких бродовых сапогах невысокий человек лет сорока, с выхоленной черной бородкой и сухими, блестящими глазами на утомленном, нервном лице. Это и был хозяин промысла Александр Георгиевич Гансберг.
Он невесело смотрел через голову подходившего графа на берег, где над тушей лося уже суетилась дюжина его рабочих.
– Прошу покорно, – сухо пригласил он графа в дом. – Как почивали? – Но дверь распахнул широко и гостеприимно – Давно ждем вас, Люция Францевна приготовила завтрак по-домашнему, чтобы скрасить ваш дорожный быт…
Граф снял белую фуражку и поцеловал руку хозяйки.
Это была красивая женщина. Было в высшей степени приятно и удивительно увидеть в этой глуши столь интеллигентную и привлекательную особу.
Об этом и сказал граф, мягко и настойчиво глядя в ее черные бархатистые глаза.
– Благодарю вас, – опустила она голову, но, пригласив гостя к столу, уже с новой, строгой значимостью заметила – Между прочим, граф, Александр Георгиевич постеснялся предупредить, что у нас не принято стрелять на промысле. Тем более – в беззащитное животное. Этот лось был почти ручной…
Право же, сей край был так далек от губернского города, что граф вынужден был чувствовать себя здесь не хозяином, а гостем.
Кроме того, у обворожительной хозяйки оказался такой приятный, хотя слегка и картавый, остзейский акцент, что Алексей Николаевич искренне повинился в неосведомленности и опрометчивости.
Гансберг молча придвинул к себе каймак и чашку кофе. Светская любезность графа сразу же убила его надежды на большой разговор о деле. А еще вчера он возлагал надежды на этот разговор.
Беседу поддержала Люция Францевна.
– Уж вы извините, – с улыбкой продолжала она, – но мы здесь первые колонисты, и поэтому очень важно сохранять и закреплять определенные правила… Я уже второй год лечу в ближней деревне ребятишек, мы завели корову. Все это очень важно во взаимоотношениях с местным населением. И мне кажется, что нас здесь любят, а это на первых порах так важно…
– Очень! – добавил Гансберг. – Если бы мои русские коллеги помогали хоть десятой долей того, чем помогают неграмотные зыряне, дело выиграло бы неизмеримо! Не было случая, чтобы мне отказали в лошадях или провианте, и причем по самой дешевой цене. Что же касается наших…
– Ну, полно! – вмешалась Люция Францевна. – Давайте завтракать. Ведь вы, граф, кажется, уже собираетесь в обратный путь? – Она подала гостю чашку.
– Дела закончены, – ответил граф, поблагодарив хозяйку. – В скором времени, как я уже говорил, дорога на Ухту будет построена. Это, мне кажется, намного облегчит вашу деятельность. Я прикажу также узнать, почему задерживаются трубы и снаряжение в Москве. Это не только дело Гансберга – это дело губернии. Промыслы на Ухте надо поддерживать, и на мою личную поддержку вы можете рассчитывать…
На следующее утро экспедиция графа Хвостова покинула Ухту.
Супруги стояли на берегу и провожали лодочный караван с белыми тентами, поднимавшийся по реке. Когда последняя лодка исчезла за лесистым мысом, Люция Францевна опустила руку с платком и взглянула на мужа:
– Ты ему веришь?
– Не знаю… – пожал плечами Гансберг. – Дорога будет не ранее как через два года. Покуда она в стадии разговоров и дележа подряда. Потом, как и обычно, возникнут какие-нибудь непредвиденные осложнения. Я к этому уже привык. А денег у нас остается совсем мало. Надо писать в Петербург, компаньонам… Удивляюсь, почему Корнилов перестал отвечать на мои письма? Или не верит в исход дела? Дело верное! Но – трубы, трубы, черт возьми… Я жду их с прошлого года!
Гансберг нервно мотнул бородой и зашагал к вышке, которая простаивала уже несколько месяцев.
«Ты ему веришь?» – все еще звучал вопрос Люции Францевны в его сознании. Конечно, хотелось верить… Но Гансберг хорошо знал и то, что все эти высокие бюрократы и даже сановники живут – увы! – не по «собственному разумению»… Все они – жалкие марионетки в руках все того же финансового Молоха, либо вонючего Гришки Распутина, в плену дворцовых шашней… И никто не знал, насколько, на какую именно часть своей души, «свободен» от внешних и тайных пружин мира сего тот или иной государственный муж, а в данном случае – сам губернатор, граф Хвостов…
6. Трюм
и палуба
Пароход, на котором ехали устюжане с Трейлингом, в устье Вычегды сбавил ход.
Река входила в берега. Это было самое веселое время, года: начинался сплав леса. Пассажиры с утра и до вечера околачивались на палубе.
Шли плоты. Там на бревенчатых длинных островках, у перевернутых лодок, около плавучих избушек и шалашей по-вешнему кипела неведомая, бездомная жизнь. Чьи-то широкие, простодушные глаза провожали мелькнувший пароход с недосягаемой роскошью первого класса, унынием и грязью нижней палубы и острожной отчужденностью трюма.
Далеко-далеко плыла грустная и разгульная песня плотогонов, и цветная косынка, обняв тугое плечо, рвалась по ветру. Сквозь горькие запахи мокрого соснового смолья и свежую сырость трепещущей в кошелке рыбы тревожно, жадно дышала река.
В полдень Григорий снова увидел на палубе красивую девицу в дорожном плаще и накидке. Она была здесь и вчера. И глаза ее опять казались заплаканными.
Она стояла у перил, чуть наклонившись вперед, и сжимала неспокойными тонкими пальцами холодный железный поручень. В тонкой, стремительной фигуре, привлекательных чертах лица было так много непосредственности и юношеского нетерпения, что Гриша невольно залюбовался ею. Ему до тошноты опротивело будничное притворство актрис, пытавшихся затащить со сцены в свою серенькую жизнь сценические страсти. Эта же, по крайней мере, была сама собой, и мокрые серые глаза ее были полны неподдельной грусти. Как бы то ни было, его сразу потянуло к этой девушке.
«Кто она? Куда едет, кого осчастливит своим приездом?»– с неожиданной силой шевельнулось тяжелое мужское любопытство, и воображение услужливо подсказало картину желаемого: сойти вдвоем с нею на берег и долго брести рядом куда-нибудь в глубь синего леса, сцепив пальцы горячих рук. Ты не знаешь ее, но, может быть, в этом и состоит все очарование? Осведомленность, как правило, таит в себе слишком много огорчений.
Подул ли ветер, солнце ли опалило палубу – она устало повернула головку, шевельнула влажными ресницами… Но нет, солнце блеснуло и зашло за облако. А девушка снова упрямо и грустно смотрит вдаль, на синеющий пологий берег, и время от времени прикладывает к глазам платок. О чем? О ком?..
Ни с того ни с сего пароход вдруг завернул к берегу. Третий класс внизу остервенело заорал на разные голоса:
– Верни, верни! Причаль, чего там!..
– Вам, черти, и пристаней не хватит!
– Дуй до Яренска – там разберутся! Нелюди!
– Бают, один черт – дров набирать тута!..
Капитан вздумал запастись дешевыми дровами и заворачивает к высокому лесистому берегу. Кое-кому из мужиков отсюда как раз ближе к дому, значит, тут и пристань.
– Слышь, капитан, свистни! – кричит штурвальному рыжая мочальная борода, торопливо завязывая мешок. – Баба услышит, выйдет к берегу подсобить!..
Свои порядки на Вымско-Вычегодском пароходстве!
Заводь у обрыва глубокая: прямо на берег бросают сходни, а чалки вяжутся за толстые сосны, оставленные во время рубки на семена.
Часть пассажиров пожелала сойти на берег погулять, пока пароход будет грузиться дровами. Григорий видел, как девушка зашла в каюту и через минуту появилась в черном газовом шарфике на голове, который еще более оттенял свежесть ее лица. Она оглянулась по сторонам, снова равнодушно скользнула глазами мимо Григория, спустилась на нижнюю палубу, а оттуда выбежала на берег.
Узкие сходни еще хранили упругую дрожь после ее стремительного шага, когда Григорий не спеша прошел по ним и остановился у огромных штабелей леса, приготовленных к скатке.
Здесь же громоздилась куча дровяного швырка. На дрова беззастенчиво разделывались смолистые строевые сосны из штабелей.
Мужики-лесорубы с торопливостью воров сновали с берега на палубу, нагруженные тяжелыми вязанками, и палуба гремела под падающими поленьями, а штурвальный ободряюще покрикивал:
– Давай, давай! Катай, смоли, – бутылку водки за поворотливость! Фирма не может ждать, черти!
Потом курились спины, мокрые сапоги и лапти дробно месили расквашенную глину и тянули ее по трапам на пароход, гремели сосновые поленья, мерещилась где-то в осязаемой близости синеватая бутылка.
– Уважь! – ревел штурвальный, чертом оглядывая берег.
Девушка между тем присела на ствол поверженной ветром сосны.
В замшелой гуще еловых лап, вонзившихся в торфяную подушку, еще лежал пожухлый, ноздреватый снег. В небе неслись пепельные рыхловатые облака, и зеленый простор лесов то вспыхивал теплом солнца, то погружался в вечернюю прохладу теней, и тогда на глинистом обрыве меркли золотистые венчики едва распустившейся мать-и-мачехи.
Григорий с завидной смелостью подошел ближе.
– Как странно: снег, а рядом – цветы… – вслух подумал он, намереваясь все-таки заговорить с девушкой.
Но в это время какой-то коммерсант в котелке и черном сюртуке проскрипел по трапу на берег и с любопытством ткнул самшитовой тростью в кучу дров:
– Это кто же так хозяйничает, а? Любо узнать… Скажи-ка хоть ты, борода.
Сутулый, длинный армяк распрямился, оставив неувязанное беремя дров на земле. Осторожно ухмыльнулся одними глазами, воровато кинул ими вокруг:
– Вишь ты, мил человек… Тут купца Прокушева заарестованный лес, а мы при ем сторожа. И как, значит, нам вот уж полмесяца, почитай, не плочено ни гроша, то мы сами его в ход начали пущать…
С трудом совершив трудное объяснение, армяк облегченно вздохнул и, вскинув вязанку на плечо, крикнул напоследок с неожиданной лихостью:
– Пропащий купец, пропащий лес! Подваливай хоть ты бортом – накидаем дуриком на всю палубу, слышь? Лафа!
Разговор произвел на девушку странное впечатление. Она вдруг вспыхнула вся, сжала губы и бросилась на пароход, позабыв у сосны смятый платочек. Печальная грация барышни мгновенно сменилась угловатой резвостью сельской девчонки. Она бежала по трапу, подхватив длинное платье, и Гриша видел стройные ноги, обтянутые тонким чулком.
Он поспешил вслед за нею, но девица исчезла в капитанской каюте, и он явственно расслышал там, за дверью, ее гневный крик.
Пароход дал неожиданный свисток. Чалки оказались мгновенно убранными, берег, покачнувшись, отделился от парохода и стал отплывать в сторону.
– Стой, стой! – кричали армяки, побросав вязанки и размахивая руками. – Стой, грабители! Деньги, деньги по уговору не плачены-ы! Сто-о-й!..
Пароход неумолимо отдалялся от берега. Капитан в каюте потирал красную, пылавшую от пощечины скулу, а девица в дорожном платье все так же стояла у борта и время от времени прикладывала к мокрым глазам свежий белый платочек…
Григорий так и не понял связи между девушкой, дровами и пароходом, но вычегодский берег уже потерял для него прежнюю экзотичность, все окружающее придвинулось ближе, и стало ясно, что он находится дома, в России. По широкой Вычегде все так же уныло проплывали плоты, синели жидкие речные дымки, со слезами и ругамыо текла в неведомое угрюмая, как северный лес, мужичья жизнь. Третий класс многозначительно скреб клешнятыми пальцами в затылке.
– Ом-манул мужиков капитан… Кабы настоящего судью, он бы припек по всей строгости за такое-подобное… А у нас что-о-о, раз-зор… Кто кого сгреб, тот и пан. Беда!
– Да ведь чужие дрова-те?
– А мало бы что! Взял – плати, а на том свете разберут.
– Ишь ты! А моченой березы не хошь, захребетник?
– Мироед, сволочь! – несогласно шепчет кто-то третий из-за сундука.
Григорий окинул взглядом нижнюю палубу, усмехнулся тому ленивому и бесцельному переругиванию мужиков, которое не прекращалось вот уже вторые сутки, и, повинуясь некоему безымянному магниту, вновь нашел глазами ее.
Вечерело. За далекую гряду диких лесов село солнце, и багровый небосвод опрокинулся через темную резьбу вершин в спокойную глубь Вычегды. Река пылала отражением гигантского небесного костра, а на берегу, у подножия темнеющего леса, уже копился сыроватый ночной холодок.
Стройный девичий силуэт четко рисовался на фоне зари.
Даже ночь не могла Григорию помочь, потому что не было ни одного добропорядочного предлога, чтобы подойти к ней.
Настоящая тьма так и не наступила, но становилось прохладно. Девушка исчезла, а он все стоял у перил, томимый ожиданием. Казалось, что в такую ночь она неминуемо выйдет к нему вся в белом и в смятении протянет навстречу пылающие руки. Но минуты текли, приближалась полночь, таяли надежды. Григорий глубоко вздохнул, швырнул в воду недокуренную папиросу и двинулся в каюту.
Сорокин спал. У его полки на полу подсыхали лужицы воды. Григорий усмехнулся этой предосторожности товарища и, присев на постель, долго смотрел в сумрачное и напряженное лицо спящего. Губы Сорокина были плотно сжаты, меж бровей залегла привычная скорбная морщина, под глазами темнели круги усталости.
«Упаси бог дожить до неверия в самого себя! – с опаской подумал Запорожцев, вдруг ощутив всю тяжесть, обрушившуюся на его спутника с крушением театра. – Вот едет человек куда-то вслед людям, а сам даже во сне не может отделаться от сомнений, от назойливого вопроса: зачем? куда?
А вдруг и на этот раз не будет удачи? Что тогда?
Однако лучше не думать, не терзаться сомнениями. Живут же миллионы людей без руля и ветрил, с обреченностью травы или мухи, – погибают, но не сдаются. Жалованье уже идет, а там посмотрим!..»
На следующий день пароход снова причалил к берегу для погрузки дров. На этот раз дело обошлось без скандала. Здесь хранились штабеля козловского швырка, заготовленного осенью с корня, по тридцать копеек за сажень. Плата, назначенная Никит-Пашем, была невысока, зато мужикам не надо было уходить от дома: прямо под рукой можно было зашибить копейку.
На желтом песчаном обрыве, недалеко от крайнего штабеля, остановилась подвода. С телеги, груженной большим дегтярным бочонком, соскочил проворный мужик с жиденькой бородой, прокричал что-то. Из машинного трюма тотчас выскочили двое и покатили бочонок на палубу Мужик шел за ними.
Сорокин, вышедший к этому времени на палубу, заинтересовался.
– Откуда деготь возишь? – спросил он мужика.
– То не деготь. Нефта, – охотно пояснил мужик.
– Нефть? И много ее у тебя?
– Хватит, – хитровато ответил тот.
– А все же? – Сорокин вдруг почувствовал, что от этого случая зависит очень многое в его будущей деятельности. Вот оно! Мужики бочками возят то самое, ради чего промышленники тысячи рублей в землю загоняют!
Мужик, как видно, тоже почуял делового человека. Спрятал усмешку.
– Этак через две недельки могу обоз доставить, – уже с готовностью предложил он.
– Да откуда берешь?
– Эвон чего захотел, барин! Прытка-ай! – Он опять заулыбался.
Фон Трейлинг терпеливо выслушал информацию Григория, потом усмехнулся и сел на маленький пухлый диванчик.
– Пустяки, – с поразительным бесстрастием заключил он.
– Да ведь он, наверное, сам ее добывает! – горячо воскликнул Федор, не понимая, как это хозяина не заинтересовало такое важное обстоятельство. – Ведь можно сразу же заявить этот источник!
Трейлинг с прежним безразличием закурил папиросу, потонул в облаке душистого дыма и словно издалека проговорил:
– Допускаю, что он пользуется естественными выходами. Из-за них, собственно, и загорелся весь сыр-бор на Ухте. Но нам это не нужно…
«А что же в таком случае нужно?» – растерялся Федор. Все с самого начала становилось непонятным.
– Мы с вами будем добывать на Ухте деньги. Отнюдь не эту грязь. Грязь пусть возят мужики… в бочонках.
Патрон закрылся газетой. Сорокин извинился и вышел из каюты.
Около машинного отделения, ссутулившись, стоял тот же мужик и пересчитывал в ладони серебряную мелочь. На пароходе, видимо, и смазка была своя, самая дешевая…
Между тем у пароходной трубы уже выросла гора дров. Хмурый матрос собрался выбирать чалки, когда из леса на береговой обрыв неожиданно вышел необычно одетый и тяжело нагруженный человек. Он устало махнул рукой и из последних сил заспешил к трапу.
– Стой, погоди-ка! – глухо крикнул он штурвальному, торопливо ступая грязными и разбитыми в дороге тобоками по скрипящему трапу. – Бери до деревни, деньги есть!
Штурвальный хохотнул, добродушно махнул рукой:
– Садись, чего там… Это ты, Яшка? Обомшел в лесу – не узнать!
Пароход отчалил, и на палубу высыпали все, от мала до велика, смотреть живого обитателя леса. С верхней палубы свесили головы приказчики, пышнотелая купчиха с холеным подбородком и дорогими серьгами удерживала за руку пятилетнего лупоглазого мальчугана в матросском костюмчике, остерегала птичьей скороговоркой:
– Упадешь, упадешь, милый… Ну, чего ты! Эка невидаль – зырянин с охоты ворочается… Упадешь, говорю!
Тучный поп с лошадиной гривой и блестящим крестом на цепи, не вставая с плетеного стульчика, навалился на перила всей тушей.
– Ох дик, ох дик, прости господи… Стократно свят Стефан Пермский, оборотив этакое первобытство в лоно праведной веры. – И, устремив глаза на купчиху, добавил: – Зело богатую добычу приносят этакие оборотни. Заметьте!
Купчиха скосила лучистые глаза навстречу батюшке:
– Говорят, страшно богатые все зыряне. Муж говорил… Не упади, милый! – опять одернула она мальца.
Охотник оторопело стоял посреди палубы, опираясь на свое длинное курковое ружье, как на посох, и не без самодовольства рассматривал пассажиров нижней палубы.
Вид у охотника был и в самом деле богатый. Через плечо перекинуты две волчьи шкуры, у бедра на гайтане болталась связка беличьих шкурок, прикрывая охотничьи снаряды – мерку и матку, а заплечный мешок старого, вытертого лаза туго набит ценной пушниной: о том свидетельствовала высунувшаяся наружу лапка черно-бурой лисицы.
Он добродушно посматривал вокруг и, казалось, мог позволить потрогать себя руками: «Ну что ж, коли сроду не видели охотника, я и сам первый раз вижу вас, этаких…»
Впрочем, стоял он недолго. Он очень устал. Выбрав подходящее место среди сундуков и узлов, охотник сбросил под ноги ничего не стоившие, линючие по весне, шкуры волков и уселся на них, кинув на колени ружье. Получив место, он сразу потерял всякий интерес к любопытной публике, облокотился обеими руками на колени и утомленно прижмурил веки. Однако задремать ему не пришлось.
– Чолэм![3] – прозвучало над головой, и он, шевельнув плечом, недовольно открыл глаза.
Нам ним стоял Амос Чудов, старый знакомый, козловский доверенный по пушным и хлебным делам.
– Чолэм… Здорово, Яков Егорыч… Где пропадал? Давно не видели тебя. Али лесовать ходил да припозднился?
У Амоса узенькие, умные глаза-щелки, редкая, белесая, почти незаметная бородка на морщинистом, скопцеватом лице, а сам он точно подсушенный кедровый кряж – силен и осанист. Он вдвое старше Якова, а разговор заводит как с равным: Яшка Опарин – сполошный парень, безотцовщина. Не к чему перед ним гордость выказывать, недостоин. Обижать тоже опасно: в ярости лошадиную подкову руками согнет. Да и удачей его не обносит Николай-чудотворец. Кроме всего прочего, сестра у него Агаша шестнадцати лет… Вдовцу Чудову и до этого дело есть. Дьявол его знает, как еще все обернется. Стало быть, можно и с почтением разговаривать с Яшкой, не глядя, что должок порядочный за ним с прошлого лета.
– Лесовал, значитца? Все под один замах – с покрова и до вознесения?
– На Векшу ходил, – невесело отвечал Яков. – Подбился совсем, обутки развалились, мука кончился, – не совсем чисто говорил он по-русски. – По дороге кач жрал, пихту глодал. Теперь – дома, не беда…
– Ладно ли дело-то? – поинтересовался Амос, ткнув коротким рыжеволосым пальцем в тугой лаз.
– Плохо. Собака в лесу околела.
Чудову показалось, что парень всхлипнул. Да, это большая беда, коли охотник лишился собаки. Как одному-то?
Амос для приличия помолчал, потом все же не осилил искушения перед тугим заплечьем бродячего охотника:
– Беда, беда… Однако купишь новую, не пропадать же. Лесованье-то вышло удачным?
– Малость попало. Соболя не видал, а кунички, норки есть, – охотно заговорил парень. Пробыв целую зиму в лесу, он, как видно, соскучился все же по людям. – Черная лисица водила, неделю шел… Волки лося огарновали, взял обоих.
– А как же лось?
– Далеко больно встретился, все одно бросить пришлось бы. Притом иной раз и зверя не грех оставить…
Чудов чему-то усмехнулся, посмотрел воровато вокруг. Их беседа, вероятно, чрезмерно интересовала окружающих. Он заговорил на своем, коми-языке:
– Удачлив ты, Яков Егорыч… В отца по удаче пошел, говорю, царство ему… Ты-то, может, и не помнишь по младости тех лет, а я уже в те поры хлебцем его ссужал, дак оценил по первому сорту…
Яков недовольно поморщился. Коли оценили отца по достоинству, так почему же он бросил охоту и на проклятую рубку стал ездить? Но сдержался, не напомнил об этом.
– Ну, нет… Нам супротив отцов – куда-те! – сказал он. – Мой дед пятнадцати лет от роду, говорят, медведя на рогатину брал. А что – я? Белку промышляю, норок ловлю. Смех!








