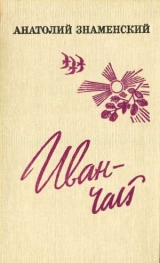
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
– А-а, это ты? Чем недоволен? – сквозь зубы спросил он.
– Мне обещали платить больше.
– Почему это?
– Я не знаю почему. Вы сами здесь, на этом месте, сидели…
– Ну, так ты меня помнишь, а я тебя – нет. Иди, иди…
Все закипело внутри, как перегретый рассол в чрене. Пантя вдруг шагнул за стойку, схватил своей черной ручищей приказчика за шиворот:
– Ах ты глиста канцелярская, г-га-а-дюка!
Треснул его носом об стол, размазал мордой по столешнице красную соплю и выскочил из конторки.
Все пропало. Пропал четырехмесячный заработок, свадьба, изба, все!
Вечером из волости пришел урядник чинить допрос, но возмутителя на заводе уже не оказалось. Он шел в это время лесной дорогой домой, в деревню, проклиная свою горячность. А вдруг составят дело да начнут розыск – что тогда?
Материала, видать, не составили. Писарь, наверное, довольствовался Пантиными деньгами. Пантя жил в деревне спокойно третью неделю. У Агаши был всего два раза, чтобы не навлечь сплетен. Ждал Якова.
Тот встретил его сам на четвертой неделе у моста.
Пантя нес под мышкой вырубленные за речкой черенки для лопат. Яков заметил его со двора, неторопливо вышел к дороге.
– Эй, погоди-ка!
Пантя и сам рад был поговорить: как-никак старые друзья, не беда, что по разным дорогам разошлись в жизни…
– Как лесовал, Яков? Много ль убил?
– Убил пятьсот верст… – почему-то неласково буркнул Яков, – Скажи лучше, как зимогорил?
Пантя с любопытством глянул сбоку на хмурого соседа, присел на сухой бугорок и потер в раздумье латаное колено.
– Тоже не жирно. Может, и того хуже…
– Отчего же?
Пантя с жаром начал рассказывать о себе, все по правде, как есть. Угрюмо бросал какие-то горькие, колючие слова о человеческой несправедливости и с недоумением замечал, что взгляд Якова бесстрастно блуждает где-то по сторонам, избегая его глаз. Сочувствия не было.
– Постой. Да ты что, Яшка? – беспокойно спросил Пантя.
– Как жить думаешь? – во встречном вопросе Якова сквозил холодок.
– Ты о чем это?
– А то, что к девке ходишь. Так и знай: в обиду я ее не дам…
– Да какая ж тут обида?! Что это ты, Яков, а?
Яшка потупился, но уступать не собирался.
– Горе мыкать, нищих плодить?
– Я приданого не спрошу… – растерянно пробормотал Пантя и почему-то отодвинулся.
– Я так считаю: девку брать – головой надо думать. Одна слеза – не слеза, а вдвоем выть – выходит большая беда. Вот так оно получается…
– Не думал, не ждал я от тебя этого, Яков.
– А ты думай… А нет – значит, и дела дет. Нечего ей от добра в нужду ходить!
Пантя хотел еще что-то возразить, но Яков встал и, не оборачиваясь, направился к дому. Пантя, свесив голову, уставился бесцельно в землю, задумался. Он не видел ни молодой зеленой травки, напряженно выдиравшейся из утоптанной земли, ни пестрых бабочек, подлетавших к самому лицу, ни рыжего муравья, который под его взглядом пытался тронуть с места непосильный груз.
«Вот оно как… – подумал Пантя. – Уж не разбогател ли Яков ненароком? Беда!»
Встреча с соседом целый день не выходила у Панти из головы. Вечером он ездил ставить плетенные из ивняка морды в заречное озеро-старицу. Оно таилось в густом лесу, окруженное с трех сторон высокими елями, а отсюда, от речки, его отделял невысокий песчаный увал, заросший ольховником. Летом вода в старице была теплая и прозрачная, а сейчас – еще недавно залитое речным половодьем – озеро было мутно и неестественно переполняло берега.
Пантя отвязал чалку, погрузил свои решетчатые снасти в лодку и оттолкнулся от берега. За кормой в воде потянулась рыжеватая, суглинистая муть. Вокруг шеста, которым Пантя доставал дно, тоже возникали клубящиеся облачка белесой мути.
– Эк развезло землю-то! – удивился Пантя и вдруг заметил, что в озерке совсем мало воды, его затянуло тиной, от берегов наступали зеленая ряска и мелкий болотный лопушок. Озеро зарастало. У торфянистых невысоких берегов, где над водой склонялись черные ели, еще темнела привычная глубь, но и она была обманчива, как неустойчивая лесная тень. Стоило солнцу заглянуть в эти омута, как из донной синевы выступали бледно-зеленые четырехпалые щупальца водорослей, дремотно маячила разлапистая мореная коряга – дно близко…
«А ведь была тут когда-то непомерная глубина, – с непонятным сожалением подумал Пантя. – Вон куда махнуло. Отмежевалось озерцо от речки, и получается из него болото…»
И вдруг спохватился:
«К чему это я? Яшка-дьявол возмутил душу!»
Он торопливо спустил в воду морды, закачал в податливое дно озера длинный якорный шест и начал грести к берегу.
Когда подходил к речке, неожиданно заметил по ту сторону Агашу. Склонившись с мостков, она черпала бадейкой воду.
Пантя ускорил шаги, бегом миновал бревенчатую кладку через речку.
– Ганя!..
Девушка испуганно оглянулась, вскинула резное коромысло на свое круглое, сильное плечо и поскорее, враскачку пошла вверх по угору, подальше от Панти.
– Постой, Ганя! – Он бежал следом.
Агаша знала, что этим непривычным именем называл ее только он, чуть сутулый и угрюмый русский парень с теплыми, хмельными от волнения глазами. Но она торопливо переступала босыми ногами по узкой тропке и, сама не понимая своих страхов, спешила поскорее к дому.
– Постой же, говорю! – обиженно крикнул ей вслед Пантя и остановился. – Что это ты, Ганя? Или Яков про меня чего мелет, одичав в лесу?
Агафья остановилась, круто повернув голову, и даже в сумраке белой ночи Пантя заметил, как на ее ресницах закипели слезы.
– Молчи! – гневно выдохнула она, – Зачем обижаешь? Зачем караулишь на каждом шагу?
Он удивился ее обиде, рассеянно снял с плеча мокрое весло.
– И впрямь стряслось в вашей семье непонятное… Может, правда, что Яшка ненароком разбогател в одно лесованье – оттого и спесь поперла из него, как опара из дежи?
Агаша не стала слушать. Она всхлипнула и бегом, расплескивая воду, бросилась к воротцам своего двора. Пантя в грустной задумчивости смотрел ей вслед.
«Ничего не понять на этом свете… Только вчера млела девка, а нынче глядеть не хочет. Неужто навсегда отрезала?»
Скверно было на душе у Панти в эти дни.
Яков не разбогател, но чувствовал себя в этом году прочно. Лесованье вышло удачным, значит, год обещал безбедную, состоятельную жизнь. Агаша могла и подождать.
В доме, правда, подходили к концу запасы хлеба и охотничьих припасов, но скоро ожидался пароход Никит-Паша – значит, дело было поправимо. На обнову сестре и кое-какие мелкие покупки Яков потратил всего десять рублей. Остальные деньги, оставшиеся от чернобурки, еще были в кармане, и Яков был спокоен.
Наконец в одно из воскресений пароход прибыл. Яков сложил пушнину в мешок и направился по берегу к устью мелкой сельской речушки.
У Вычегды собралась вся деревня. Горели костры, люди толпились у трапов на высоком, обрывистом берегу, тут же выбивали из бутылок пробки.
Это был самый веселый и важный день в году. Сбывалась добыча, перед распаленными взглядами проплывало богатство, было что посмотреть и потрогать руками. Пестрые кафтаны, ситцевые рубахи горошком, потертые лазы и великое множество мягкой пушнины – все стремилось в середку, к бочонку с козловской водочкой. Никит-Паш велел подрядчикам не скупиться. Народ любил щедрость земляка и не менее любил выпить.
Подошла очередь Якова.
Он вошел в говорливую, уже опьяневшую толпу и увидел Чудова. Тот почему-то строго глянул в его сторону и отвернулся. Потом приказал подать книгу. Яков насторожился. По слухам, в эту книгу попадали лишь безнадежные должники. Остальным охотникам Никит-Паш верил так, на слово.
– Люди говорят, сестру замуж отдаешь? – как бы между делом спросил Чудов.
Яков замялся. Сестру он отдавать еще не собирался, но ведь люди зря ничего не говорят… Что подумает о нем Амос, коли узнает, что Агафья уходит, не спросясь его, старшего брата?
– Коли говорят, стало быть, так. Пора ей, – невнятно и уклончиво пробурчал он.
А Чудов почему-то еще строже сдвинул пепельные брови и, плюнув на концы крючковатых пальцев, деловито стал листать страницы.
– Долг когда думаешь отдавать?
В ответ Яков молча, но выразительно ткнул носком то-бока плотно набитый мешок.
– Давай! – так же деловито кивнул Амос.
Яков вывалил к его ногам содержимое мешка. Внимательно следил, как подрядчик неторопливо, скептически приценивался к каждой шкурке, встряхивал в руках ворсистые меха норок, бурундучков, белок, складывал их в сортовые рядки. Видел, как Чудов немного задержался с десятком куниц, а потом – совесть, наверно, взяла верх – решительно положил их в первый сорт.
«Хорошо», – подумал Яков.
Но подрядчик успел перебрать все шкурки и на удивление невесело спросил:
– Все?.. Маловато, слышь, за два лесованья, маловато…
– Обижаться грех, – заметил Яков. – Лес не обидел, лишь бы люди не отняли…
– Ну что ж, долг покрыл. В расчете, стало быть, с хозяином.
– Как долг?! – удивленно спросил Яков. – Тут на два долга, Амос! Не греши. Мне еще хлеба на зиму надо!
– Чернобурку пошто утаил? – холодно спросил Чудов.
– Посчитай лучше: без чернобурки достаточно! – крикнул Яков и, схватив куницу, сунул ее под нос Чудову. – Считай лучше!
– А я не неволю. И Никит-Паш не неволит. Продай кому-нибудь дороже. – И повторил – Я не неволю, слышь? Может, какой чудак дороже даст…
– Имей совесть, Амос, не обижай! Али тебе в лесу леса мало?
– Совесть при мне, а хлеб тоже своей цены стоит. Притом он хозяйский. Чернобурка была б – на два года хлебца получил бы. А это все лишь прошлогоднее кроет. Как хочешь…
«А кому? Кому продать?» – тоскливо подумал Яков и бессильно оглянулся. Кто-то понимающе перехватил его взгляд, вздохнул, но ничего не сказал. Другой торопливо протискивался к Чудову со скудной вязанкой белок, заискивающе улыбаясь подрядчику. «Эх, люди!..»
– Следующий! – крикнул Амос, и напоследок глянул на Якова.
Тот безмолвно махнул рукой, поднял с земли пустой мешок и, не оглядываясь, побрел прочь…
У Якова был побитый вид, но, подходя к дому, он сунул руку в карман и сжал там крепкий, мослаковатый кулак.
9. Томление
духа
В лесном крае мало кто знал о том невиданном кризисе, который корежил Россию в эти дни. Даже губернатор Алексей Николаевич Хвостов, рискнувший на длительную поездку к нефтяным источникам на Ухту, еще не подозревал о крушении Горемыкина с его Государственной думой, о том, что над просторами государства Российского уже нависла зловещая тень Распутина. Летели головы. Государь император твердой рукой душил свободу, подготавливая третье-июньский переворот, менял министров, а события тем временем продолжали развиваться своим чередом, наперекор монаршим желаниям.
Хозяйство рушилось. Лопались банки и фирмы. Биржу трясла лихорадка. Тысячи безработных бродили по дорогам России, как живые разносчики крамолы…
Деятельность Бакинского комитета РСДРП за последние пять лет давала о себе знать по всей России. Нобель и Мангашев прогорали, в панике хватались за голову из-за забастовок; их спасала лишь прочная стена нефтяной монополии. Владельцы Волжского пароходства спешно переделывали суда на дровяное отопление. На Дону парамоновские пароходы уже опередили эпоху, и фирма «Кавказ и Меркурий» усердно сводила с зеленых берегов трехсотлетние дубовые урочища. Отныне водный транспорт являл прогресс, исходя самоварным дымом и выбрасывая в небо снопы дровяных искр…
В деловых кругах, однако, не теряли присутствия духа. Газеты взахлеб трубили о баснословных запасах нефти на Ухте. И, хотя Нобель активно противодействовал возможной конкуренции, никто не хотел замечать его усилий. Лавина промышленников двигалась в коми край, наводнив Северную Двину и Вымь.
Никит-Паш втрое повысил цены билетов, его рароходы «Надежда» и «Вымичанин» метались по обезумевшей трассе от Усть-Выми до Веслян с пассажирами и грузами.
И только агент великой княгини Марии Павловны фон Трейлинг, уютно обосновавшийся в доме купца Сямтомова, казалось, не предпринимал никаких действий.
Грише думалось, что патрон просто выжидает время. Сорокин ворчал и подозревал подвох. Они оба, сидя без дела, регулярно получали договорную плату и ждали приказаний.
Запорожцева, впрочем, такое положение не очень тревожило. Плата, которую он получал, равнялась офицерскому жалованью и на первое время полностью его удовлетворяла. Кроме того, с отъездом старого Прокушева в Княжпогост, к Козлову, отношения его с Ирочкой развивались самым увлекательным образом, и он по временам забывал о своих коммерческих замыслах.
…Белое облако почти коснулось воды. Вся Сысола горит отражением солнца. Лодка с тихим шорохом раздвинула гущу прибрежных лопушков, осторожно пристала к песчаной осыпи под кустом ивы. Белые и желтоватые барашки просыпались с веток на землю, пестрая бабочка испуганно вспорхнула с куста – Ирина, выбежав на откос, задела раскидистые ветки. Гриша торопливо втащил лодку на сушу, кинул на плечо забытую Ириной накидку и бросился следом.
Майский лес трепещет молодой, прозрачной листвой, бродит проснувшейся животворной силой, в воздухе сладкий настой березового сока. Вот-вот брызнет дождем белая, душная черемуха…
Григорий легко бежит сквозь кустарник, охраняя лицо от хлещущих веток, угадывая по смятым побегам след Ирины. Ирина прячется; по временам впереди он слышит ее воркующий и манящий смех:
– Ау, ау!..
Зеленый хоровод пляшет в глазах, под ногами упруго по вздымается моховая перина, тугой звон наполняет уши, и Григорий ловит горячим ртом хвойный настой целебного воздуха.
– Сюда, сюда… Здесь!
Он останавливается перед лесной избушкой – керкой, прибежищем охотника. У распахнутых дверей, закинув голову и прижав руки к высокой груди, беззвучно смеется запыхавшаяся Ирина.
Лес звенит от птичьего гама. Звенят родники в тайных руслах, тяжело дышит ближнее болото, покрытое белым налетом пушицы – северного одуванчика. В осиновой листве жалобно пискнула серенькая малиновка-зарянка, забившись в когтях белогрудого сорокопута. Ветер отнес в кусты мелкие перышки, у корней осины на серебристый ягель упали капельки крови. Жизнь!
Перед заходом солнца лодка медленно пересекает реку, направляясь к пристани. Над водой по-прежнему висит белое легкое облако.
Сорокин встречает друга осуждающей усмешкой. Все это смешно и грустно. Втайне он немного и завидует другу.
– Конечно, читал ей стихи?
– Читал… И всякую ересь читал! – радостно признается Григорий. – «Лобзай меня, твои лобзанья…» Эх, Федор, что ты понимаешь! Ведь ты театральный любовник, разве ты знаешь это, настоящее!..
Сорокин хмурится. Спутник, кажется, окончательно пьян от весны и этой незнакомки с синими глазами. Плохо!
– А как же золотые россыпи на Ухте? Имей в виду, что эта девушка когда-нибудь потребует другого: самостоятельности в жизни, положения в обществе. А что ты ей дашь?
– К черту положение! К дьяволу Ухту!
Григорию более уже ничего не нужно. Вспоминая иной раз о деле, он лишь снисходительно улыбался по поводу человеческой непритязательности в жизни. Что, в сущности, нужно человеку?
Вот женщина, может быть, самая красивая в этом углу, по странной случайности принадлежит ему, и он не особенно тревожится о завтрашнем дне. Этого достаточно, чтобы утерять весь коммерческий пыл, плюнуть на будущие дивиденды, с великим удивлением прислушиваться к самому себе и чувствовать до обиды простой вывод, что все интересы каким-то непостижимым образом переместились в ее комнату, за плотно закрытую дверь. Завтра, возможно, это будет смешно, но сегодня…
В комнате Ирины всегда было душно, и дорогие духи «Иланг-иланг» не освежали, а лишь дурманили воздух, мешаясь с нафталинно-сосновым духом уездной хоромины.
Хозяйка любила недорогие вина, почти не выходила в местный свет, чтобы не давать повода для новых разговоров о делах отца, и Григорий был счастлив ее близостью. О будущем он не думал. Но она сама время от времени напоминала ему о необходимости действия на коммерческом поприще. Прокушевская история была немаловажным предостережением и требовала одного – не полагаться на мнимое благополучие. Ирина очень тактично выспрашивала Гришу о его намерениях и возможностях. Ее интересовало положительно все: держит ли фон Трейлинг акции в предприятии великой княгини, заявлены ли участки на Ухте? Надо ли перевозить машины к Ухте и много ли их? Если нужно, то она поможет через отца договориться с Козловым.
Григорий не мог и наполовину удовлетворить ее любопытство. Патрон вел себя чрезвычайно замкнуто, получал какие-то письма, сжигал их после прочтения, а служащим регулярно платил деньги – вот и все.
Ирина стала в последние дни читать губернскую газету. Это объяснялось вполне практическими побуждениями.
– Я начинаю тревожиться, Гриша, – заметила как-то она, присев рядом на тахте с потухшей папиросой. – Я беспокоюсь о твоем деле. Ты не читал газету сегодня? Ведь там, на Ухте, прямо рвут землю в клочья. Надо же подумать и о будущем наконец!
Он вздохнул, глуповато улыбнулся.
– Ты просто невозможен! – с обидой сказала Ирина и сунула ему в руки недавний номер «Губернских ведомостей».
Коротенькая статейка, извещая о новых доказательствах нефтеносности Ухты, между прочим указывала, что число заявок в настоящее время достигло сотни и это обещает скорое избавление от нефтяного голода.
Стоило почитать. Как-никак Григорий не имел права полностью отрешаться от своего замысла. Следовало сказать об этом хотя бы Сорокину. Уж не просидели ли они зря в уезде, пока где-то делили шкуру медведя?
– Сто заявок! – встревоженно воскликнул Григорий и вскочил с тахты, – Какое-то дикое нашествие! Прости, Ира, но мне надо сообщить об этом своим друзьям…
Наконец-то ты понял! Иди, иди… Я очень рада за тебя.
Ирина взяла в ладони его голову и пристально посмотрела в глаза. Григорий доверчиво потянулся к ней, но тут же отшатнулся – постучали в дверь.
Сорокин недружелюбно оглядел с порога комнату Ирины и сказал, что Григория просит к себе хозяин.
Фон Трейлинг в Усть-Сысольске не сидел без дела. Мнение о его бездеятельности могло сложиться у окружающих лишь потому, что он легко обходился без посторонней помощи. Доверенный нефтяной компании регулярно получал и отправлял письма, причем в одном из них сообщил в Москву о крайне затруднительном положении Гансберга с деньгами. Управляющий компании имел возможность влиять на компаньонов ухтинского инженера.
Фон Трейлинг не забывал прочитывать опаздывающие на две недели газеты и заводил знакомства с местными купцами. При всей своей кажущейся неповоротливости он отлично знал, каковы дела на Ухте, случались ли аварии в бурении, сколько десятин нефтеносной земли уже обеспечено охранными свидетельствами, что намеревается делать один из активных ухтинцев – капитан Воронов и будет ли на его отводе добыта нефть. Он знал также, что промышленник Гарий, сын екатеринбургского купца, разорившегося некогда на Ухте, уже прибыл на пароходе «Надежда» в Усть-Вымь и имеет серьезные намерения относительно нефти.
Усть-сысольский комиссионер был прекрасно осведомлен о биржевом ажиотаже вокруг нефтяных акций и, хотя не держал контрольного пакета своей фирмы, внимательно следил за игрой.
Он лучше других знал, что девяносто девять заявок из ста не представляют ничего делового: они были плодом азарта обывателей и могли иметь значение лишь в случае крупного успеха счастливого соседа. Этого единичного успеха и не следовало допускать. Фон Трейлинг ждал, кроме того, возможности с большей пользой для себя воспользоваться азартностью столбопромышленников.
Теперь, кажется, момент настал.
Сорокин и Запорожцев явились. Он пригласил обоих к столу и с деловым видом, потирая руки, оглядел каждого, как будто хотел еще раз определить их способности.
– Ну-с, пора и за работу, господа. Прошу считать проведенные здесь дни отпуском, который практикуется теперь в каждом цивилизованном государстве… Не мешает перед серьезной работой нагулять жирок, не так ли?
Гриша усмехнулся. Сорокин хмуро кивнул головой.
Трейлинг прохаживался по кабинету, обдумывая, как лучше начать разговор.
– Итак… Ситуация следующая. На Ухту уже съехались все наиболее серьезные конкуренты. Пора задать им головоломку. Надо иметь в виду, что единственно опасным предпринимателем для нас может быть господин Гансберг. Остальные, так сказать, выжидают, что получится у этого предприимчивого инженера… – Тут внимательные глазки снова зашарили по лицам служащих. – Вам, господин Сорокин, и придется выехать с моим письмом к Гансбергу. Возможно, он согласится на кооперирование с нами. Это было бы чрезвычайно выгодно. Кроме того, я предполагаю, что к моменту вашего приезда на Ухте подешевеют участки, и надо как можно больше их перекупить по сходной цене. Потом мы рассудим, как поступить с ними. Кроме того, в Усть-Выми надо выполнить одно небольшое поручение…
Хозяин не договорил. Внезапно на улице раздался отчаянный вопль, и все трое бросились к окну. Их взорам предстала интересная сцена.
Внизу, у крыльца, ворочался в пыли купец Сямтомов и ошалело призывал на помощь.
Сбегался народ. Словно из-под земли явился Полупанов и, схватив купца, разом поставил на ноги.
– Р-разойдись! – хрипло скомандовал становой и резко шагнул в дом.
– Кто это его? – свесившись из окна, спросил Запорожцев дворника, который заботливо отряхивал с пострадавшего пыль.
– Политический безобразит…
– Типичная уездная картина! – брезгливо заметил Трейлинг и отошел к столу, – Продолжим нашу беседу…
Разговор длился недолго. Фон Трейлинг хотел только, чтобы служащие понимали общую обстановку и могли быстро и точно выполнять его указания. О своих истинных замыслах он ничего не собирался говорить.
Запорожцеву предстояло на днях выехать в Вологду к редактору «Губернских ведомостей».
Два других запечатанных конверта он должен был направить в Пермь и в московскую «Биржевую газету». '<
– Если в Вологде будут упираться, передадите редактору вот это, – Трейлинг подал Запорожцеву чек.
Фирма великой княгини приступала к действиям.
Гансберг резко отодвинул на середину стола испещренный цифрами лист бумаги и отшвырнул карандаш. Утомленно закрыл глаза и откинулся на спинку кресла.
Итоги выкладок были неутешительными. Длительная остановка буровой требовала новых бессмысленных расходов, которые никогда не смогли бы себя оправдать. По логике событий, Александр Георгиевич должен был рассчитать рабочих, но и этого сделать было нельзя: трубы и канаты ожидались со дня на день, а с их прибытием он не смог бы пополнить артель новыми людьми. Здесь, в глубине северной тайги, каждый буровой рабочий ценился на вес золота, каждому следовало платить договорную сумму даже за безделье.
Сначала Гансберг занимал артель разделкой дров для парового котла впрок, но гора чурок выросла очень быстро, дров было достаточно на всю зиму – пришлось оставить и это занятие. Теперь на промысле стояла выморочная, опасная тишина, которая и побуждала Гансберга в который раз браться за карандаш.
Александр Георгиевич невесело посмотрел в окно на фонарь безмолвствующей вышки и опять обратился к своим расчетам. Молчание буровой зримо выразилось в четырехзначной цифре – 5372 рубля, а покрыть ее было нечем.
Он выдвинул ящик письменного стола, перекинул десяток бумаг, нашел глазами чековую книжку, но тут же резко захлопнул ящик: то была пустая обложка с остаточным чеком на десять рублей. Его следовало сохранять в любых условиях, во избежание потери счета.
– Люси! – негромко позвал он жену.
Ответа не последовало.
– Дорогая, подойди, пожалуйста, ко мне! – настойчивее повторил Александр Георгиевич и тут же вспомнил, что жены нет дома, – она уехала в деревню лечить какую-то старуху.
«Сколько же у нас наличными? – подумал Гансберг. – Знает только она. Но все равно не наберется более пятисот рублей, это ясно».
Нужно было обращаться за помощью к компаньонам, но они вели какую-то непонятную игру, неохотно отвечали на письма. Сейчас, однако, момент отвергал всякую щепетильность. Александр Георгиевич положил перед собой новый лист бумаги, открыл чернильницу. Лицо Гансберга выразило страдание.
«…Санкт-Петербург. Его высокопревосходительству гофмейстеру Двора Его Величества А. П. Корнилову…»
Просить денег у людей, которые, по-видимому, не верят в его дело!
В какой бы форме ни выражался смысл этой фразы, он мучил человека как признание собственного поражения, выдавал истинное положение дел на Ухте, мог породить сотню самых нежелательных сплетен и кривотолков вокруг имени Гансберга, которые все одинаково вредили предприятию!
Он снова отложил перо.
За окном промелькнула сутулая фигура, и в комнату вошел артельщик. Постояв у порога в ожидании приглашения и не получив его, старший рабочий весьма точно определил причину рассеянности хозяина и присел на уголок табурета.
Это был честный, опытный в деле человек. Рабочих не обворовывал и поэтому пользовался общим уважением. Хозяин доверял ему, но сейчас настороженно перехватил его ждущий взгляд.
– Что, Тимофеев?..
– Плохо, Александр Георгиевич, – хрипловато отвечал тот. – Плохо. – Потом помолчал и добавил: – Второй месяц денег не платим. Работы нет – еще пуще волнуются люди. Прикажи хотя бы чурбан катать – все займутся на время. А так – плохо наше дело.
Желчная улыбка скользнула под усами Гансберга. Все это выглядело типично по-местному. «Чурбан катать!» И грубо и наивно, а все же какая-то правда в этом есть. Руки бездельничают – голове лишнее смущение…
– Так что же, по-твоему, делать? – сухо спросил он.
Артельщик ссутулился и беспомощно развел руками:
– Як тому, что, коли еще две-три недели такое протянется, уйдут, Александр Георгиевич, а то и хуже: жаловаться начнут. Народец у нас всякий. Не угодишь – сразу за грудки!
– Ну, хорошо, иди. Я подумаю…
Артельщик послушно вышел, а хозяин, уже не раздумывая, взялся за перо и в несколько минут дописал письмо до конца.
Почтовая марка завершила недолгий, но мучительный труд. Гансберг снова сел в кресло. Оцепенение промысла, необходимость этой последней корреспонденции вконец одолели его. Думал ли он, что после многолетнего упорного труда придет и такой день?..
Оглушительно хлопнула дверь, Александр Георгиевич вздрогнул.
В проеме-двери стояла, возбужденная, радостная Люция Францевна и протягивала вперед тонкие, изящные руки,
– Письмо! Письмо, дорогой мой! Смотри…
Александр Георгиевич обнял жену, усадил к столу.
Быстрые пальцы уже извлекли из вскрытого конверта бумагу.
– Я вскрыла еще в деревне… – лепетала она, – Мы спасены! Смотри!
Это было уведомление заводчика Дорогомилова об отгрузке труб и буровых долот из Москвы с первым попутным транспортом.
Гансберг устало улыбнулся и поцеловал руку жены. Она была лучшим спутником в его подвижнической жизни. Александр Георгиевич и сам не знал, как могла эта красивая, пользовавшаяся неизменным успехом женщина навсегда связать свою судьбу с его поиском, с окаянной Ухтой, которую не так легко было покорить. Она охраняла мужа от ничтожных волнений. Она не позволяла никому даже легкого ухаживания, чем вызвала острое недовольство скучающих соседей-столбопромышленников. Капитан Воронов расценил это даже как личное оскорбление и распространял потом всякие небылицы и офицерские сплетни о жене Гансберга. Что ж, надо было перенести и это.
Александр Георгиевич еще раз прочел московское письмо.
– Я все-таки решил написать Корнилову, – сказал он, – Мы совсем без денег. Рабочие собираются уходить… Унизительно, но иного выхода нет. Что ты скажешь?
Она молча сжала тонкими пальцами его сухую, горячую руку. И он понял, что она согласна с его решением: не время было тешить самолюбие, когда промысел держался из последних сил.
Инцидент с Сямтомовым произошел неожиданно. Вернувшись с прогулки, Андрей застал его в своей комнате, у раскрытого сундучка. Член Стефано-Мефодьевского братства на свой страх и риск, видимо по собственной инициативе, производил обыск. Возможно, им руководили и более низменные цели.
Постоялец не стал разбираться в причинах. Он хватил купца кулаком по голове и выбросил его вон.
Полупанов произвел в комнате Андрея обыск «с пристрастием». Он простукал все четыре стены, осмотрел печь-голландку и вспорол матрац. Не обнаружив ничего предосудительного, велел следовать за ним.
– Возьми барахло! – прикрикнул он.
Андрей спокойно сел на скамью и стал свертывать цигарку. Насыпав на газетный клочок махорки и проводя языком по краю завертки, он посмотрел исподлобья на станового.
– Я кому сказал! – уже поставив ногу на порог, по-волчьи, всем туловищем, повернулся к нему Полупанов.
Глаза ссыльного блеснули:
– Я прошу повторить приказание в более вежливой форме. Иначе вам придется нести меня на горбу. – Он чиркнул спичкой, прикурил. – Или я, как съемщик квартиры, за невежливость направлю вас вслед этому, Симптомову! – Андрей намеренно прояснил фамилию.
– А-а, черт! – рыкнул становой и, хлопнув дверью, шагнул через порог. В подобных случаях он привык прибегать к силе, но у этого крамольника были жилистые руки и круглые плечи кузнеца.
Через час за Андреем явился квартальный с понятым, и в тот же день под конвоем его везли на лодке вниз по Вычегде, к новому месту ссылки.
Местный исправник своею властью ссылал Новикова в деревню, что почиталось в здешних условиях штрафом.
Как бы то ни было, но Андрея везли ближе к Яренску, и он не особенно сетовал на судьбу.
Лодка шла по течению. На корме сидел стражник, придерживая на коленях давно не чищенную винтовку. Гребли два мужика из местных, которые, по всей вероятности, отбывали какую-то повинность.
День, светлый и погожий, заметно клонился к вечеру. Солнце висело над берегом, в реке отражались розовые облака. Леса с обоих берегов подступали к самой воде и двоились в зеленом стекле. Этап походил на увеселительную прогулку, и Андрею не хотелось ни о чем думать. Административные условности не позволяли сколько-нибудь располагать собой, поэтому оставалось созерцать эти немые, безлюдные берега, по-настоящему оценив минуту покоя.
Лодка вышла из подгорной синевы, огибала остров. На берегу, чуть выше золотистой песчаной отмели, буйствовали травы, пересыпанные июньским многоцветьем. Весь остров напоминал огромную цветочную корзину.
– Какова деревушка-то? – неожиданно для самого себя спросил Андрей гребца.
– Дак деревня ж… Волостное правление есть, само собой.
– Разговаривать запрещено! – предупредил стражник и пошевелил винтовкой.
Андрей устало глянул на волосатое тупое лицо стража и, вытянув ногу, полез в карман штанов за табаком.
Скоро пришлось завернуть в устье какой-то гнилой речушки и подниматься вверх по течению. В деревню прибыли вечером. Лай собак, запах дыма и рыбной чешуи да горящий неподалеку костер означали конец пути. Лодка, шурша днищем, выползла на пологий берег, гребцы с облегчением вскинули весла на плечи и тут же исчезли в крайних дворах. Стражник поднял дуло винтовки, спрыгнул на сушу и велел идти.








