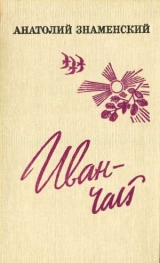
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Жизнь была хотя и нелегкая, но какая-то бодрящая, со щекоткой.
А к старости, в пятьдесят лет, спешно пришлось бросить насиженное место. И вот Канев вдвоем со старухой очутился на Пожме – за тридевять земель, на Севере. Но работы было много и здесь, и Назар обрадовался.
Шумихин как глянул в анкету Канева, так, не раздумывая, назначил его бригадиром. И, нужно сказать, не ошибся.
На работу в морозный день Канев вызвался сразу, несмотря на то что даже въедливый Шумихин предлагал выходить строго добровольно. Жена замотала его до самых глаз теплым платком, но в лесу он сбросил платок, скинул и полушубок и, не подходя к костру, за шесть часов навалил столько сосен, что Ванюшка не успевал обрубать их, а в конце концов оказалось, что норма перевыполнена в два с лишним раза. Только к вечеру, когда морозец прижал еще на одну зарубку и стало вовсе трудно дышать, Назар подошел к огоньку.
Боже мой! Тут же на страшном холоде, поеживаясь, сидели молоденькие девчонки в толстенных ватниках, похожие на встрепанных наседок, пищали что-то, оттирали друг дружке щеки сухим, колючим снегом и назавтра собирались повторить такую же прогулку! Стало быть, он не отставал от молодых…
Когда шел домой, ноги у Назара едва передвигались. Плечи и колени одеревенели и впервые за многие годы как будто перестали подчиняться. Но зато он совершенно не чувствовал холода:
«Двести, конечно, многовато. Многовато при любой сноровке, а полтораста… Что ж, полторы нормы и завтра можно дать!» – думал он, с какой-то небывалой радостью вспоминая те два огромных штабеля, что он поставил сегодня с Ванюшкой за короткую смену.
А Ванюшка шел рядом в одной телогрейке, небрежно кинув полушубок на левое плечо.
«Будет толк из парня, – одобрительно посматривал в сторону помощника Назар. – Страсть какой понятливый! Ведь из-за меня, стервец, не иначе, пошел нынче… По собственному желанию!»
Дома Назар почувствовал себя плохо. Старуха нахохлилась сразу, молча подала ему полотенце к умывальнику, поставила горячие щи на стол – и все молча. Назар хлебнул раза два и отложил ложку.
– Ну-ка, Мотя, разотри мне чем-нито под лопатками, – попросил он ее и лег на кровать.
Бабка засуетилась, начала искать в новой квартире бутылочку со спиртом и все не могла отыскать.
– Очумел ты, старый, что ли! – бормотала старуха, не глядя на больного. – Я-то думала – часа на три ушел пособить, а ты всю смену протрубил! Горе ты мое, безотказная головушка… Больше всех тебе нужно, горемычный, с самой младости было…
У Назара спирало в груди, подымался жар. Он махнул рукой в дальний угол, прохрипел:
– В старом валенке бутылка, не помнишь, что ли, карга! Сама всунула, чтоб не разбить при переезде…
Кололо в груди, становилось трудно дышать. Один валенок оказался пустым. Бабка всплеснула руками:
– Алешка, проклятый, помогал перетаскиваться! Украл, чертяка, бутылку, видать! А-а, бедная моя головушка, кому доверила!..
– Да не скули, за-ради бога, – через силу сказал Назар, поворачиваясь на брюхо. – Найдешь к свету или так помирать?
Валенок завалился за сундучишко.
Холодный спирт ожег худую спину Назара, кожа покрылась гусиными пупырышками, потом стала под ладонями жены краснеть, отогреваться. Но грудь все так же болела, душил кашель.
Поздно вечером пришел с вещами Шумихин. За ним в комнату влетел белый клуб, поплыл к умывальнику, под кровать. Десятник остановился посреди комнаты, снял с усов сосульки.
– На квартиру пустите?
Старуха всхлипнула:
– Заболел мой… Гляди-ко, Захарыч, жар как его разымает…
– Докторша же приехала, чего не идешь? Докторша вам его к утру на ноги поставит, дело привычное…
Но к утру Канев не поднялся. Аня Кравченко побежала к Николаю заказывать трактор везти Назара в больницу: у него было двустороннее воспаление легких.
* * *
А Овчаренко был очень доволен внеочередными выходными днями. Они пришлись ему весьма кстати.
– Эх, кабы такой мороз да до июля держал! – сказал утром Алешка.
– Ты что, спятил? – подивился его желанию Останин. – Околеть можно в такой морозище!
– Зато на работу можно из окна глядеть! Слыхал песню: «Наша жизнь прекрасна в выходные дни!»?
– Надоело б обруч гонять, – осуждающе возразил старик.
Останину почему-то нравилось поучать Алешку, несмотря на оскорбительное пренебрежение, которым отвечал ему Овчаренко. Старик по-своему любил парня. Ему все казалось, что тот живет ненастоящей жизнью – будто во сне.
– Надоело б, говорю, обруч гонять, – повторил Останин. – Балабол ты, вот кто!
Алексей окинул старика насмешливым, жалеющим взглядом и, подняв воротник, вышел из барака.
Он направился в «скворечник».
Шуры там не было уже с неделю: она ушла жить в дежурку при буровой. Наташа уехала по делу в геологический отдел и попросила побыть в домике до ее возвращения Зину Белкину. Алексей знал, что Зина сидит теперь одна и ждет его.
Эта девушка приехала с бригадой Тороповой и сразу привлекла всеобщее внимание. Она когда-то работала в городе, на строительстве, потом, после отъезда бригады, осталась официанткой в ресторане и вернулась в село только через два года. С тех пор подруги стали открывать в ней новые, незнакомые им качества.
– Ох, девочки, как живут люди! – с восторгом вспоминала Зина город. – Как живут! Мы здесь и при коммунизме этого не дождемся! А какие мальчики в клешах разгуливают по тротуарам! Морская походочка, и время провести умеют, не то что наши!
Жизнь должна быть легкой, с роскошью, немножко с баловством. Зине было душно в Лайках, на сливном пункте. Ей надоели сепараторы и бабы, несущие молоко, надоел кисловатый запах простокваши и жидкая бурда, называемая обратом. Она упросила Катю включить ее в список добровольцев.
С ребятами Зина вела себя смело и даже вызывающе, не заботясь особенно о том, как они воспримут ее выходки. Стоило ли придавать значение всяким мелочам, если в поле зрения пока еще не было настоящего, преуспевающего в жизни жениха! В то, что он рано или поздно явится на сцену, она верила твердо. Просто произошла временная задержка в связи с военным положением, и надо терпеливо ждать. Алексей же вообще не выносил понятия «ждать»…
Все, что произошло в последние две недели, казалось ему вполне естественным и законным, хотя, может быть, и несколько неожиданным.
Да, ему нравится Шура. Он боялся ее обидеть каким-нибудь неосторожным движением, не рисковал больше хватать за руки, хотя все время испытывал желание крепко обнять и расцеловать. Да, он не забывал о ней даже во время разговора с другой девчонкой.
Все это истинная правда! Ее он будет любить и беречь столько, сколько она пожелает, а сегодня шутя решил отвести душу на стороне.
Если бы Шура сейчас окликнула его, он не раздумывая вернулся бы к ней. Но она теперь на буровой… «Узнает?» – подстерегал его коварный вопрос. Но Алешка не смущался. «Ну и пусть узнает, скажу все как есть. Пускай не зазнается!»
В тот вечер, когда приехали девчата, в новом общежитии засиделись за полночь. Алешка обрадовался было, повстречав свою таежную знакомую, да и она заговорила с ним очень охотно. Но Алешка скоро понял, что пустячка с нею не выйдет, и поспешил ретироваться. Она, кроме того, оказалась бригадиром всего женского монастыря, и с нею связываться не стоило. Пускай на всякий случай в начальстве будет еще одна знакомая фигура. Хотя… что в них пользы-то!
Девчата в большинстве были, прямо сказать, никудышные. Они удивленно и испуганно таращили глаза на кавалеров с разудалыми челками.
Девушки вели себя смирно. А Зина была самой хорошенькой и с удовольствием поддержала то искусственное, беззаботное веселье, которое затеяли гости.
– Тоже мне, кавалеры! – с легкой улыбкой, презрительно сказала она. – Сто лет не виделись, а сошлись – поговорить не о чем. Рассказали бы хоть, как вы живете здесь! Ки́но есть? – В слове «кино» она сделала ударение на первом слоге.
– Глыбин недавно показывал, – за всех отвечал Алешка, которому, как всегда, хотелось выдвинуться в первую линию. – Завлекательно! Кино под названием «Меня любила дочь прокурора».
– Псих… – заключила Зина.
Она взяла гитару и небрежно бросила пальцы на струны. По тому, как взметнулись ее тоненькие брови и дрогнули плечи, можно было ждать сильной игры. Но аккорды не получились. Она и сама оценила это и не противилась, когда Алешка неожиданно протянул руку и отнял у нее гитару.
– Не мучь, не мучь разбитого сердца! – сказал он. И рванул струны напропалую…
На второй же день Зина убедилась, что Алешка не псих, а просто веселый, беспечный парень, с ним не скучно. Именно с таким и можно покуролесить, пока не подвернется тот, настоящий, что на всю жизнь… На третий день их видели на времянке: ходят по снежной дороге, смеются…
Алешка присматривался, с какой стороны сделать решительный шаг, и пока вел себя вполне пристойно, выдерживая стоически двухчасовое бдение на снегу в тесных хромовых сапогах. Зина радовалась. Ей казалось, что она веревки вьет из парня.
В этот день мороз придавил, словно по Алешкиному заказу. Зина встретила его дразнящей улыбкой. Он повесил свою праздничную телогрейку с белой строчкой на гвоздок и, сильно притянув дверь, накинул крюк. Его поразила величина этого запора, вделанного, видимо, по приказу завхоза, а может, и самого Шумихина. Крюк весил добрых полтора килограмма и попадал клювом в такую же массивную петлю, намертво затянутую гайкой в толстой притолоке. «Запираются, гады, будто кругом трущобы Чикаго!» – подумал Алешка и сразу же забыл о бывших жильцах этой избушки. Теперешняя жилица его интересовала куда больше. Зина не могла не заметить, что он проявил особую заботу о дверном запоре.
– Ты зачем это? – подозрительно спросила она.
– А ну их! – беспечно махнул рукой Алешка. – Ходят всякие! Еще Коленчатый вал придет уговаривать на работу! Сугубо добровольно, под страхом удара красным карандашом по животу… А нам и вдвоем хорошо, правда?
Он взглядом ласкал ее глаза, бледную и нежную шею, затененную пышными кудрями.
– Леша, ты бывал в опере когда-нибудь? – с замиранием сердца спросила Зина.
– Специально – нет, но случайно, по делу, был… Конечно, не до музыки было… – удержался он от искушения соврать. Дьявол ее знает, может, она была?
– Красиво, наверное?
– Ничего хорошего нет, – небрежно возразил Алешка. – Вроде как в нашей столовой: крик и гам, не поймешь, кто кого тискает. Все вертится по специальному заказу. Для душещипательности. И все сидят, чинно слушают, будто и в самом деле захватило их до печенки, поскольку боятся раньше времени уходить. Как в новом платье короля!
Алешка недаром увлекся музыкальным разговором: Зина охотно слушала и даже разрешала обнимать себя. Она только возразила ему по существу разговора.
– У тебя, Алеша, просто нет вкуса, – жеманно сказала она.
– У меня вкус что надо, – возразил он и ласково обнял за плечи.
Она беспечно засмеялась, пытаясь отделаться фальшивой веселостью. И он очень легко перехватил этот ее невзаправдашний тон, шутливо и настойчиво прижимал к себе, целовал жадно и больно.
Зина не заметила, в какую именно минуту развязала Алешке руки.
* * *
В этот день на буровой затопили котлы, подняли пар и к вечеру продули трубные коммуникации.
– Будем забуриваться, устанавливайте направление, – сказал Николай.
Золотов больше не возражал.
От котельной до буровой – добрых сто метров – сплошной полосой горели костры, отогревающие грунтовую засыпку паровой линии и водопровода. Вдоль открытых труб бродили с факелами закутанные до самых глаз девушки из Катиной бригады. С треском и копотью горела солярка, трепыхались в ночи красные тюльпаны, разбрызгивая вокруг огненные капли. Земля клубилась морозным паром, в белесом тумане возникали невнятные, зыбкие радуги от факелов и слепнущих фонарей. В машинном отделении кашлял и глохнул движок электростанции.
На мостках буровой скрещивались, переплетались, скользили и гасли чудовищные, искаженные неверным светом тени людей. Это была какая-то фантастическая ночь.
Катя ходила вдоль факельной цепочки, то и дело окликала девчат:
– Жива? Дышишь еще? Не горюй, скоро на печь! А ты не спишь, родненькая? Руки мерзнут? Давай я подержу огонек, ты ладошками поработай… Ну ладно, беги в котельную, я подежурю. Только мигом!
Вышечный фонарь, лишенный «галифе» (так называется обшивка площадки верхового рабочего, что на середине вышки), был непривычно уродлив. Николай помогал маркировать трубы, сам опробовал лебедку. Пальцы даже в рукавицах прикипали к обжигающе холодному металлу.
Совсем близко, в тени глиномешалки, кто-то чертыхался, разбивая ломом комья глины. Заработали совковые лопаты, мерзлая глина с грохотом посыпалась в жестяное чрево глиномешалки, потом кто-то пустил в него струю пара – для прогрева раствора, и все сразу заволокло белым маревом, стало трудно дышать.
– Грязевой стояк прогрей, чего рот разинул! – услышал поблизости Николай ругань Золотова и виноватый голос в ответ:
– Сменили б, Григорий Андреич, а? Пальцы прихватило на ногах…
– Вали в котельную, сопля! – Золотов ругался с утра не переставая. Видать, нелегко давалось ему забуривание этой скважины.
Когда бурильщик включил ротор и долото вонзилось в податливую мякоть насосов, Николай нашел Золотова, попрощался:
– Теперь я пошел… Девчат через каждые два часа менять, а то они со своим энтузиазмом пальцы на этой буровой оставят разом и на руках и на ногах… Бурильщиков менять каждый час – пусть греются напеременки у котлов. Ночью я еще загляну…
Мороз подхватил Николая, гнал его к поселку чуть ли не бегом. Сухо, неприятно трещал снежный наст под обледенелыми подошвами валенок. Немели, покрывались мертвенной сединой небритые скулы.
В бараке едва теплилась лампа, от двери и из углов тянуло холодом. Мрачно гудела бочка с дровами, – она топилась вторые сутки, и все же в бараке было свежо. За загородкой Николая ждала Аня Кравченко.
– Нос и лоб трите, вы, мученик! – грубо сказала она. – Себя и людей мучаете, несмотря на категорический запрет санчасти… Не думаете, что придется за это отвечать?
– Я тру лоб и нос, что еще сделать? – спросил Николай, развязывая материнский шарф. Шутка не получилась.
– Снимите людей с открытых работ, – посоветовала Аня.
Николай устало присел к столу, обхватил скрюченными пальцами горячее стекло лампы, почти касаясь накаленных стенок. Пальцы стали прозрачными, налились огненно-красным теплом.
– Не могу снять людей, поскольку не давал команды вывести их на работу. Это добровольное дело. Его затеяли комсомольцы, и они выдержат, сколько будет нужно. Сегодня у нас первая проходка, дадим полсотни метров по верхним слоям, неужели это вам безразлично?
– Тяжело болен Канев, – сухо сказала Аня. – Он ходил на работу и простудился… Хотя он не комсомольского возраста. Немедленно давайте трактор, нужно отправить в больницу, пока не поздно.
– Каневу я бы и самолет дал, – сказал Николай, – но как же его отправить с температурой? Ведь адский мороз!
– Давайте трактор с походной будкой. Я пошлю санитара, всю дорогу будет топить печь. Могу даже фельдшера направить, чтобы помог в случае чего…
– Будка в городе, – виновато сказал Николай. И пожалел вдруг, что в первый день по приезде не согласился с Шумихиным.
Положение сразу осложнилось необычайно. Аня плотно сжала губы, отвернулась от Николая. Смотрела в темную глубину окна.
– У меня кончаются лекарства. У него крупозное воспаление легких – двустороннее… Вы понимаете, что это такое?
– Он старый лесоруб, всю жизнь на зимней делянке провел, должен выдержать, – глухо сказал Николай.
Аня резко раздернула пальцы, обернулась:
– Должен?! – Помолчав, сказала: – Удивляюсь, как это во главе производственных коллективов ставят бесчувственных людей! Вы и Шумихин – какое восхитительное взаимопонимание!
Николай отнял пальцы от стекла, стало светлее.
– Вам что, обязательно хочется поссориться? – спросил он Аню. – Неужели вы не понимаете, что у меня не лазарет и не слабкоманда, а самый дальний участок? Что мы должны к июню дать нефть, а бурить придется неразведанные свиты и сроки никто заранее предсказать не может? Возможно, будет еще тяжелее, и все же нефть должна быть. Майкоп под ударом. Баку может быть отрезан, – понимаете вы это или с вашими медицинскими нервами такой гуманизм понять невозможно?
– На Пожме это слово неуместно произносить! – сказала Аня.
– Смотря какими глазами смотреть на Пожму… – мрачно возразил Николай.
Аня вздохнула, непримиримо склонив голову, и вышла. Николай пораздумал и пошел следом, направляясь к новому дому, где жил со старухой Канев.
Когда он возвратился, Шумихин уже созвал бригадиров на разнарядку. Они входили, грелись самокрутками, делились редкими впечатлениями. Шумихин коротко спрашивал каждого, больше всего его интересовало количество добровольцев.
– Смирнов? – деловито и сурово спрашивал старик.
– Пятеро оставались. Из них один нездоров.
– Сколько обморозилось?
– Двое. Самую малость, носы…
– Сокольцов?
– Два лодыря. Но я их завтра…
– Обморожения?
– Ни одного. Я их в поту держал само собой, по сезону…
– Опарин?
– У Опарина, Тороповой и Кочергина вышли все до единого, обморожений не было.
Николай записал выполненные объемы, полюбопытствовал у Шумихина:
– А Глыбин как?
– Совсем не выходил, ч-черт!..
9. Север – твоя судьба
Фронтовые письма, белые голуби!
Кто не ждал вас в годы войны с острой, пронзающей тревогой и тайной надеждой на встречу! У кого не трепетала душа перед сумкой почтальона, таившей в бесконечном множестве конвертов лютое горе, сиротство и неизбывную человеческую боль…
Из города пришла почта. И, казалось, не успели еще письма попасть в руки адресатов, как заволновался поселок: не ожил, не встрепенулся, а мрачно зашумел, как замутненный суходол в грозу.
Плакала Дуся Сомова, знатный лесоруб, по младшему брату. «Пал смертью храбрых…» – скупо и торжественно-строго значилось в письме. Уткнувшись в грудь Дуси, плакала горючими слезами ее подружка, что получала от солдата письма чаще, чем его сестра.
А гармонь в красном уголке вдруг захлебнулась на разухабистом куплете в беспорядочном переборе ладов и, вздохнув, тоскливо резанула по сердцу:
Умер бедняга в больнице военной.
То была давно забытая надрывная песня, со старой германской войны, ожившая в народной памяти с новой бедой.
Михаил Синявин потерял брата. Он лежал грудью на замызганном столе, бросив черную, будто вываренную в смоле, голову на кулаки. Скрипел зубами:
– Какого черта не берут на фронт? Эх… житуха!..
Гармонь рядом всхлипывала, замирала, выжимала неистовым перебором слезу. Михаил вскочил. Осатаневшими глазами ожег музыканта и рванул из рук гармонь. Ремень треснул. Гармошка грохнулась на пол, развернулась, играя мехами, вздохнула, точно живая, и умолкла. Гармонист поднимал ее, испуганно задрав голову к Мишке.
– Нашел песню! – рычал Синявин, кусая губы. – Откопал с девятьсот голодного года!
У кого-то родственник получил медаль, отец Шуры Ивановой привел «языка» и представлен к ордену.
«Подожди, дочка, перелом в этой каше непременно будет, тогда и тебе полегче станет… Не забывай мать, ты теперь большая…»
Приходили письма с крупицами короткой тревожной человеческой радости, но никто не говорил о ней. Сегодня горе, одно горе в поселке…
Маленькое фронтовое письмо, с красным, будто кровью вычерченным, призывом через весь конверт: «За Родину!» – было адресовано Николаю Горбачеву.
Катя Торопова зашла в «скворечник» за газетами, позавидовала Наташе: как-никак девчонка занимает отдельную комнату, вроде начальницы. Потом повертела письмо, адресованное Горбачеву, рассматривая адрес:
– Не пойму – почерк девичий или нет?
Шура, прибежавшая за письмом с буровой, лукаво засмеялась.
– Интересуешься, кто начальству письма шлет? – Она прижималась спиной к теплому камельку. Промерзла, пока шла с буровой, и все не могла согреться. Голос ее дрожал.
Наташа выручила Катю:
– Чего же удивительного? Человек молодой и обходительный, даром что начальник. Интересно все-таки…
– Что ты говоришь-то! – ужаснулась Катя и с испугом положила письмо на стол.
– Отнеси уж, чего бросила! – покровительственно и строго сказала Шура. – Кому-то надо же передать!
Катя мельком глянула ей в глаза, глянула беспомощно и благодарно. Потом надвинула ушанку на голову, откинула косы и, схватив конверт, выскользнула из домика.
Горбачев занимал теперь большую комнату в доме конторы, здесь же поставил койку, письменный стол. Сбылась мечта Шумихина – начальник мог принять посетителя по всей форме, в кабинете.
Катя бывала в этой комнате на разнарядке, но на этот раз ее охватывало смущение, у двери она даже пожалела, что пошла сюда с письмом.
А он даже не заметил ее волнения, он увидел конверт в ее руке.
– Спасибо, спасибо, Катюша, дорогая! – закричал Николай. Обрадованно схватил письмо и, отвернувшись к окну, торопливо разорвал конверт. – Посиди, Катя, еще раз спасибо тебе… – буркнул он и тотчас забыл о ней…
«Здравствуй, Коля…»
Целый месяц он ждал этого письма, и вот оно! Ее пальцами вложено письмо и заклеен конверт. Она жива и здорова, чего же еще и желать в разлуке?
Рука Николая немного дрожала, и он хмурил брови, негодуя на себя, что не может скрыть волнения при Кате, совсем постороннем человеке.
Но почему письмо писано в два приема – сначала чернилами, потом карандашом? Что-то случилось?
Ничего страшного… Здесь, карандашом, тоже Валин почерк. Просто не успела сразу отослать и дописывала наскоро, перед отправкой письма…
«…Коля, дорогой, здравствуй! Я только что приехала в часть, это не на передовой, за меня особенно не беспокойся… Сообщаю сразу новость для тебя: в тылу ты не один. Оказывается, так нужно… Сашу тоже направляли на производство, но он сумел настоять на своем. Сумел все-таки!»
Николая больно уколол ее восклицательный знак: а вот он, Горбачев, не сумел! Правда, Николай был первым, а уж первого-то наверняка убедят принять назначение. В назидание другим хотя бы…
«Саша – здесь, поблизости, иногда заходит ко мне. Хоть немного скрашивает суровую обстановку: при встречах говорим о тебе…»
Николай с жадностью проглатывал фразы, искал между строк, в сбивчивости скуповатых слов привычного тепла, ее решимости ждать.
«Дорогой мой! Часто вспоминается наш последний вечер, а я всякий раз ругаю себя: как все неумело и неумно получилось! Вот когда только начинаешь по-настоящему оценивать и дружбу, и краткость встреч, и цену молодости. Ведь сколько я наговорила глупых упреков! Ведь это – до самой встречи…
Снег у нас растаял, на передовой временное затишье, даже отсюда не слышно залпов. Все как бы прислушивается к приходу весны. А весна всегда волнует… Хорошо, что нет времени мечтать и сосредоточиваться на себе, а то бы я совершенно высохла… Тебе, вероятно, странна моя необычная прямота и откровенность, но я не виновата, здесь все так обострено…
Получила письмо от папы, он интересовался тобой, написала…
Ну, прости, пора делать обход палат. Пиши, жду с нетерпением…»
А дальше было написано карандашом. У Николая заломило скулы:
«…Милый, не успела отослать письма и вот дописываю. Страшное несчастье. Сегодня привезли Сашу с тяжелейшей контузией. Он без памяти, надеяться на благоприятный исход не приходится, в крайнем случае на всю жизнь останется тяжелым инвалидом. А он совершенно одинокий человек, мать недавно умерла… Ужас какой-то! Я провела весь вечер у его постели, вот двенадцатый час, собираюсь лечь спать, завтра отправлю это письмо.
Госпиталь завтра эвакуируют, просто не знаю, что будет с Сашей – он все еще не приходит в сознание…
Боже мой, что делать, что делать?
Коля, пиши, помоги мне…
Люблю, люблю, верю, жду.
Твоя Валя».
Дата, номер полевой почты…
Как крик о помощи… Что-то совершалось в жизни, непрошеное, непоправимое.
Николай заново пробежал последние строки и скомкал письмо в ладони.
Он не мог пока разобраться ни в том, что было заключено между строк ее письма, ни в том, что творилось в его собственной душе.
«Слюнтяй…» – снисходительно сказал себе Николай, разгладил письмо и сунул его между страницами книги на подоконнике.
А Катя все еще сидела у стола, пытливо всматривалась в лицо начальника. Да при чем тут начальник? Она видела перед собой молодого русого парня со всклоченными волосами над широким лбом. Подвижное, похудевшее лицо его то светлело, то омрачалось, и поэтому Катя решила, что письмо не могло быть любовным.
– От девушки, Николай Алексеич? – осмелела она.
– Н-нет… – нерешительно возразил Николай и сам поразился тому, что сказал. И, повинуясь какому-то неясному чувству, добавил: – От друзей. С фронта.
Лицо Кати заметно оживилось, глаза вспыхнули ярко и доверчиво.
– У вас, наверное, много друзей? Ребята должны были уважать вас, правда?..
«А может, и хорошо, что все так получилось? Зачем всем знать о личной жизни начальника участка?» – неожиданно явилось оправдание, которого он так хотел.
Ответить Кате Николай не успел. На крыльце раздались шаги, и в кабинет вошел Илья Опарин. Он задел головой за вершник двери, и на пол свалилась подушка снега с его ушанки.
– Вот это да! Достань воробушка! – заливисто засмеялась Катя, не в силах сдержать своей необъяснимой радости.
Илья растерянно посмотрел на Катю, на Николая и, вдруг покраснев, смущенно махнул рукой:
– Я пошел… После зайду, товарищ начальник…
Николай с недоумением проводил его взглядом, уставился на Катю:
– Поди верни его! Что такое?
Николай вызывал Опарина, чтобы договориться о совместном осмотре ближних делянок для выборочной заготовки строевого леса. Хотелось также познакомиться с окрестностями Пожмы и руслом речки. Все это имело существенное значение для буровых работ.
– Как мороз? – спросил он Илью.
– Спускает. С утра было тридцать шесть, сейчас двадцать девять. Выдыхается зима!
– Значит, завтра и двинемся, – сказал Николай. – Попроси, чтобы инструментальщик приготовил лыжи на двоих.
Катя вышла вместе с Опариным. Илья хотел задержать ее на тропинке, поговорить с глазу на глаз. Но Катя торопливо попрощалась и побежала к своему общежитию.
Илья понимающе вздохнул и, достав огниво, стал здесь же, на морозе, свертывать козью ножку.
* * *
Любовь приходит по-разному. Иной раз только один взгляд, одна встреча, несколько незначащих слов вдруг тронут в сердце что-то самое чуткое, ждущее, и оно торжествующе и сладко ворохнется навстречу радостному откровению. И вся жизнь сразу озарится солнечным весенним буйством. А иногда незаметная, привычная расположенность к человеку трудно и не спеша перерастает в большое чувство, – на пути этой любви немало огорчений, обид и сомнений. Часто впоследствии ее называют проверенной…
Катя Торопова до последней командировки на Пожму считала себя неудачливой. Едва-едва потянулась она к Илье – сомневаясь, мучаясь, огорчая его и себя непонятной настороженностью, как он почему-то перестал являться в деревню, пропадал на дальних таежных трассах, ничего ей не писал, как будто навсегда забыл о ней.
А потом про Илью пошли какие-то слухи…
Но время шло, Катя остро чувствовала свое одиночество. Почти с завистью она смотрела на подруг, что получали письма со штампом «воинское», ждала человека, которого пока еще не успела повстречать наяву, в жизни. Он чем-то был похож на Илью Опарина, но был чуть-чуть повеселее, полегче, понаходчивее…
Раньше ей думалось о быстроногом, зорком охотнике в новой, расшитой красными нитками малице, с длинным ружьем в руках. Он в одиночку брал медведя, неслышно и легко скользил где-то в глубине пармы по следу юркой лисицы, приносил Кате в подарок шкурки куниц и соболей. Он был почти мальчик, и прикосновения его были подобны прикосновению теплого солнечного луча к щеке, когда Катя, проснувшись, еще лежала с закрытыми глазами под одеялом.
Потом, незадолго до войны, ее смущал образ полярного летчика из журнала «Огонек». Летчик спасал челюскинцев и был удостоен звания Героя, но у него было на удивление юное лицо. Подпись гласила, что командир авиационного звена Каманин первым нашел льдину с потерпевшими крушение и вывез столько-то женщин и детей на Большую землю… С таким пилотом Катя не раздумывая отправилась бы в полет и соглашалась даже вовсе не возвращаться на землю…
С началом войны облик полярного летчика как-то потускнел. Теперь Кате хотелось иметь другом отважного воина, разведчика или снайпера – все равно. Писать ему письма, беспокоиться и верить, что никакая смерть не страшна ему, пока здесь ее, Катино, сердце доверчиво и терпеливо ждет…
Здесь, в тайге, ей встретился человек, который, как ей показалось, соединил в себе черты летчика, охотника, разведчика и многих других вымышленных ею героев. Он приехал из Москвы, был пытлив и настойчив, как разведчик на фронте, и молод, как охотник в ее мечте. В нем была тысяча достоинств, но он был начальник, и это смущало Катю…
«Попробуй дай какой-нибудь повод… – думала Катя. – Посмотрит и скажет: «Девчонка! Какой из нее бригадир и секретарь комсомола! Вот и работай с такими в военное время!»…»
Кате только и оставалось, что усердно скрывать свои чувства, убеждать себя, что у нее к нему большое уважение – и только… Письмо, адресованное Горбачеву, рассеяло и этот наивный самообман. Ее душа вдруг захлебнулась ревностью – чувством, которое по всем комсомольским заповедям считалось отрицательным пережитком, недостойным советской девушки и тем более секретаря комсомола новостройки. Но было в ревности нечто человеческое, жаркое и честное, чего стыдиться вроде бы и не приходилось.
Как бы то ни было, но Катю тянуло к Горбачеву, и что это было – простое любопытство или зарождающееся чувство, теперь Кате было ясно. С ним, правда, было нелегко, он частенько ругал ее за всякие упущения, но Катя решила все вынести, вникать в дела, – одним словом, расти. С этой целью она и запаслась еще с вечера лыжами на выходной день.
…Утро выпало ясное: зима выжимала последние, предвесенние морозы. Слепило высокое серебристо-голубое небо. Солнце пылало над вершинами леса.
Николай двигался в ногу с Опариным, глядя в его спину, в черный нагольный полушубок. Плечи у Опарина были широкие, дубленая овчина плотно охватывала спину, морщилась в проймах. Он продвигался споро, подаваясь вперед всем телом при каждом шаге, и лыжи послушно подчинялись ему. С таким было легко ходить и, наверно, легко работать. Но Илья, как всегда, был странно молчалив, необщителен.
– Почему ты постоянно молчишь на разнарядке, Илья? – вдруг спросил Николай, стараясь идти в ногу и не отставать. – Поделился бы с десятниками, почему у тебя работа лучше других идет. Как получается двойная выработка плана на дорогах, почему все люди до единого вышли в актированные дни?
– Это не у меня, это люди такие – и все, – буркнул Опарин.








