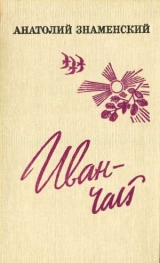
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
– Не в том дело, – набычился Амос. – Одно дело – «хозяина» брать, другое, скажем, серебристую выследить. Тут немалое умение надо иметь. Покажи.
Яков недовольно тряхнул плечами, кивнул назад:
– Развяжи лаз, сам возьми. Устал я…
Амос с готовностью распустил горловину мешка на спине Якова, схватил узловатыми пальцами черненькую, навек присмиревшую мордочку лисицы.
Люди сгрудились вокруг тесным кольцом, кто-то восхищенно и завистливо охнул: не каждому доводилось видеть то, что лишь благородным барыням положено на плечах носить. А Чудов опытным глазом уже прикинул первостатейную длину шкурки, пропустил в кулак черненое серебро, придирчиво дунул в ворс, потом встряхнул в вытянутой руке, полюбовался:
– Сколько?
– Не продам, – устало сказал Яков, отнимая чернобурку. – Не все Никит-Пашу. Самому деньги нужны. Сестру приодеть пора – невеста. Сам должен понять.
– Ну-ну… – добродушно согласился Чудов и отодвинулся от парня.
– Куда путь держишь? – в свою очередь спросил Яков.
Тот с притворством вздохнул, почесал за ухом, прибеднился свыше меры:
– Все туда же. Ни дня, ни часу покоя… Хлебец в Помоздин гоню – людишек подкормить перед севом, землицу обсеменить. Долги собрать, у кого есть чем платить…
«Хнычет, бес, а сам скоро хозяином парохода будет… А насчет долгов-то уж не про меня ли он загнул?»– подумал Яков, отвернувшись в сторону.
Толпа рассеивалась. Чудов глянул на берег, всполошился, побежал в каюту:
– К Яренску подходим!
Верстах в пяти показались колокольни уездного города. Палуба зашевелилась. От трюма к перилам пробежал стражник, покрикивая строгим голосом на встревоженных обитателей палубы. Казалось, он не знал ни одного слова, кроме привычного:
– А ну, сдай назад!
– Потеснись! Берегись, борода! Очисть прохо-од!..
Проход понадобился для высадки ссыльных. Их по одному выталкивали из трюма и сажали на корточки посреди палубы, чтобы предупредить возможный побег «на рывок», в коем уголовники были большими мастерами.
Яков с грустным любопытством рассматривал обросшие, угрюмые лица арестантов. Он испытывал двойственное чувство, глядя на этих однообразных, приниженных и непонятных людей. Было жаль их, потерявших свободу, лишившихся семьи и родины, но он знал, что наказание дается по закону – за убийство, за воровство, и побаивался, хотя и не думал, чтобы кто-нибудь из них смог его обидеть.
Водились среди этих людей, говорят, и политики, но слово это было непонятно и потому отталкивало Якова. Оно непроизвольно вызывало воспоминания о каком-то духовитом лекарстве, что давал ему в детстве бородатый ссыльный доктор от кашля. Лекарство пахло мятной травой, которая могла расти лишь где-то далеко за пределами пармы, там, где был простор, где было много тепла и солнца. Но доктор умер от чахотки, так и не сообразив для себя спасительного лекарства. Во всем этом был обман, и Яков перестал верить в чудодейственность капель и порошков, которые выдумывали люди себе на утешение. Наверняка действовали лишь простые местные средства: подорожник, цвет донника, плаун да багульник – пьяная трава. Приложишь ли к потертой ноге, напаришь ли в бане простуженную спину с травами – сразу видишь толк.
Кое-кто говорил, что политиков ссылают за то, что они собираются перевернуть жизнь и сменить правление. Якову казалось, что жизнь не нуждалась в перевертывании, так как леса и неба хватало всем, а зверь шел только на терпеливого и выносливого охотника, вне всякой связи с высоким правлением. Вот если бы малость укоротить руки Никит-Пашу да Чудову, отменить старые долги да, может, еще накинуть цены на белок и куниц, то и было б в самый раз… С этим Яков мог согласиться сразу, но тут «политики» ни при чем.
Он смотрел на людей, скорчившихся на палубе в необычной, унизительной позе, и не понимал, почему так озлобленно кричат стражники, когда ссыльные послушно исполняют всякое их требование.
– Новиков! – взвизгнул старшой, заглядывая в черный зев трюма.
– Он же, и он же, и он же! – с радостным восхищением подхватил щуплый стражник.
– Он же Кольцов, он же Кожушко, он же… э-э, черт, Ил-лари-ён! – с чисто полицейской точностью подтвердил старшой и выжидающе смолк.
– Сказано – не пойду! Везите дальше… – донеслось из трюма.
Яков с изумлением потянулся всем телом к черной дыре. Сцена привлекла и других зрителей.
Третий класс, почтительно ломавший шапки перед властью, обтянутой в негнущееся шинельное сукно, раскрыл в изумлении рот: какой-то смельчак лез на рожон! Интересно досмотреть: что из этого получится?
– Скорей всего, кончится мордобоем, – скептически заметил армяк, придвигая поближе заветный узел, прижимая его к себе, – Набьют, говорю, рыло, дак…
– Ироды, – заметил второй и спрятался за чужую спи-ну.
– А бывает, что и не по зубам скажется… ежели нахрапист человек.
– Водочки бы им, вот была б комедь, дак…
Старшой наклонил голову в черную дыру:
– А я говорю – вылазь, так твою!..
В трюме возникло движение, затем на пороге выросла суховатая, но крепкая фигура. Человек спокойно посмотрел на стражника, прищурился – после темноты свет резал глаза – и так же спокойно уселся на палубе, свесив ноги в яму.
На вид ему было лет тридцать шесть. Загорелое, со свинцовыми подпалинами на щеках лицо было серьезно и бесстрастно. Он совсем не походил на привычную и знакомую всем фигуру политика-интеллигента. Скорее всего, это был рабочий, совсем недавно узнавший истинную цену своего социального положения и всю ответственность этого звания – рабочий.
– Ну вот, я вылез, – заметил он. – Между прочим, прошу не употреблять матерных слов, ибо вы компрометируете государя императора…
«Не политик, – заключил Яков, – уважает царя…»
– Молча-а-ть! – с непонятной яростью завизжал старшой, и Яков окончательно запутался. Дело было нечисто определенно.
– Кроме того, предупреждаю: усугубление может стать известно начальнику вологодской жандармерии, с которым я давно в родственных отношениях…
Шаловливая искорка мелькнула в равнодушных и суровых глазах ссыльного, он резко вскинул голову:
– По-моему, вопрос исчерпан?
Старшой сжал кулаки.
– Нам приказано сдать вас в Яренское полицейское управление…
Он, конечно, не верил ни одному слову арестанта, но в жизни все могло быть. Случалось сопровождать не только родственников вологодского жандарма, но и столбовых дворян, которые по выходе из заключения не упускали случая отблагодарить за ревностную службу. Они могли упечь его не только в Яренск или на Сахалин, но и к черту на рога – все бывало с неосмотрительными тюремщиками!
– Я обязан выполнять приказ… – вежливо пояснил он, выпячивая грудь. В любом положении важно не уронить собственного достоинства.
– Значит, в Яренск? – усмехнулся ссыльный. – Ну а если вы сдадите меня в Усть-Сысольске, что от этого изменится?
– Не имею права, – отвечал страж.
– А имеешь ты право кормить нас всю дорогу селедкой и не давать воды, мосол казенный?! – вскипел человек и вдруг угрожающе вскочил на ноги. – Понимаешь, что друг у меня здесь тяжело заболел, лежит при смерти!.. Надо ходить за ним, а везете вы его в Усть-Сысольск! Не понимаешь, сапог?!
Он исчез в трюме, оттуда раздался слабый стон. Потом он снова появился на лестнице.
– Убьете человека – в Петербурге будет известно!
– Бунт? – отскочив от трюма, наершился старшой, но какой-то догадливый стражник тащил ведро воды. Ссыльный передал воду вниз, сел на прежнее место.
– Боитесь ответственности – доложите исправнику. А матерщины чтобы я не слышал, понятно?
– Так точно… – по инерции брякнул старшой и спохватился.
Кто-то засмеялся, но тут же смолк: потянули за рукав.
– Социалист, ядри его в корень! – восхищенно пробурчал армяк и успокоенно отодвинул от себя узел вспотевшей рукой, – Силен, значит.
– Знает дело, видать…
Пароход, сбавляя ход, подваливал к пристани.
Люди, сидевшие на корточках, поднялись. Снова завопили стражники, матросы кинули трап. Процессия двинулась на берег. За нею сходили пассажиры, взамен появлялись новые, – жизнь шла своим чередом.
Старшой поспешил в полицейское управление, снедаемый одним желанием – высадить политика именно здесь: в этом сказалась бы сила закона, позволявшего давать селедку без воды, а значит, и его собственная сила.
Все было во власти исправника. Но исправник, как и следовало ожидать, оказался смертельно пьян. Случившийся же в правлении становой объяснил, что недавно уголовники пронесли в тюрьму ведро водки, перепоили администрацию и сели играть с начальником тюрьмы в «стос». Воспользовавшись повальным пьянством властей, политические устроили демонстрацию с флагом и пели запрещенные песни. Яренская глушь знавала и не такие эксцессы, но последний скандал каким-то непостижимым образом дошел до губернии. Теперь ожидалось опасное расследование, исправник глушил сивуху хотя и не без привычки, но по важной причине – уезд переживал тяжелые дни.
– Политик ершится, – пояснил старшой, потягивая носом и явственно ощущая душок спиртного.
– Чего ему? – строго спросил становой.
– Хочет до Усть-Сысольска ехать, а предписание – вам сдать…
– А ну его к дьяволу! – заревел пристав. – От этой заразы и так житья нету! У нас их тут полгорода, и все с зубами. Вези дальше, черт с ним! В Усть-Сысольске Полупанов ему рога обломает!
Старшой забежал в трактир, хватил от тоски стаканчик водки и, обругав без видимой причины хозяина за стойкой, затрусил к пристани, придерживая на боку шашку.
Пароход снова тронулся, а Яков все сидел в задумчивости, не спеша переваривал в сознании подробности этой истории.
Оказывается, законы были писаны не для всех. Оставалось неясным: плохи ль были люди, которые не подчинялись законам, или сами уложения не стоили беличьего хвоста?
Своим умом Яков никогда бы не решил такого вопроса. Да он и не пытался судить об опасных делах большого и неизвестного ему мира, а лишь удивлялся выдержке и напористости чудного человека с четырьмя фамилиями.
Яков видел, как старшой, покачиваясь, прошел в свою каюту. Стражник был хмур и не глядел на людей. После этого о ссыльном как будто сразу забыли, а трюм остался открытым: для проветривания. Новиков-Кольцов сидел на пороге и хмуро посматривал по сторонам. Глаза его были налиты тяжелой озабоченностью, и он время от времени спускался вниз, к больному.
Один раз Якову показалось, что арестант поглядел ему прямо в глаза, и от этого взгляда стало тревожно на душе. Человек как-то сразу, не спросившись, взял и влез в его душу и затронул там, во тьме и неразберихе, что-то такое, о чем никогда не подозревал сам Яков…
Впрочем, и он вскоре позабыл о случившемся. Ссыльный исчез в трюме, а на закате солнца к Якову подошел большой, толстый, по виду богатый человек в шляпе и негромко спросил о чернобурке. Яков молча достал шкурку, встряхнул в руках. Серебряный ворс запламенел в закатных лучах, а господин, не ладясь, спросил: «Сколько?»– И достал пухлый бумажник.
– Четвертной, – ответил Яков и вдруг испугался.
Он просил немало, но ему жаль было расставаться с чернобуркой. Ведь господин с пузатым кошельком не знал, какую муку и какую радость испытала охотничья душа, выслеживая хитрую матерую лисицу. Он не слышал тревожного дыхания леса, треска сухой ветки под осторожной ногой следопыта, раскатистого выстрела – наверняка в цель… Он не знал этого. Богатый человек просто подходил к охотнику, доставал, наверное, не дорогие для него деньги и забирал добычу себе. Она сразу становилась его собственностью, а Яков не смог бы теперь доказать никому в деревне, что он добыл редкого зверя.
«Неправильно этак», – хотел сказать он, но тут же вспомнил Агашу в старом сарафане, свое решение купить ей крашенины на новый дубас и дорогие серьги перед свадьбой и ничего не сказал.
– Четвертной, – лишь повторил он.
Фон Трейлинг передал ему зеленоватую бумажку и, не спеша завернув дорогую шкурку в газету, ушел в каюту.
Яков вздохнул, потом заставил себя забыть о чернобурке, чтобы не бередить души и не спугнуть удачу, пришедшую к нему в этом году из глубин пармы.
Когда на землю спустились прозрачные ночные сумерки, видел: на верхней палубе стояли рядом молодая грустная барышня и плечистый молодой человек с белым лицом, всклокоченной головой. Она тревожно посматривала вперед, нервно комкала в руках платочек, а он настойчиво искал рукой на железном поручне ее пальцы и пел тихим, бархатным голосом неизвестную Якову песню.
Казалось, молодой человек упрашивает о чем-то свою спутницу, но так умело и красиво, что не стесняется даже чужих людей. А третий класс лишь изредка посматривает вверх и одобрительно прищелкивает языком.
И откуда такие слова – за душу ноготком…
О-о-отвори потихоньку калитку
И войди в тихий сад, словно тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень…
Белая ночь плыла над Вычегдой в неведомое, распластав под луной крылья серебристых облаков. И Якову опять стало обидно за чернобурку, за лося, за погибшую собаку, за все, что было и есть… Нет, он никому не завидовал, но ему просто чуть-чуть стало жаль себя, своих рук и меткого глаза, неутомимых, натруженных ног. Ему было жаль, что он до двадцати лет не мог, не имел времени жениться…
Перед рассветом надо было сходить на берег. Пароход делал остановку недалеко от его деревни.
7. Третьей гильдии
уезд
Как обычно бывает, знакомство Григория с Ириной состоялось в первые же дни.
Никит-Паш, разумный хозяин, не мог не держать на пароходе хотя бы крошечного буфета, где пассажир первого или второго класса имел бы возможность оставить полтинник, а то и червонец. Грише понадобилось не много усилий, чтобы «по чистой случайности» оказаться с нею за одним столиком в тесном уголке буфета. Вскоре Григорий убедился, что он мог бы и раньше заговорить с Ирочкой и не получил бы отпора. Она сама искала общества, чтобы в какой-то мере разрядить душевное напряжение, вызванное вероломством Парадысского, последними сведениями о делах отца, которые заставили ее бросить учение и спешить в родной дом.
Открыть душу кому-нибудь, выговориться, выплакаться было единственным желанием Ирины, в одиночестве коротавшей часы. После двух-трех первых слов Григорий распечатал бутылку недорогого вина и прямо спросил ее, наливая в непротертую стопку:
– Пьете?
– Пью, – ответила она, чем несказанно обрадовала бывшего трагика. Григорий поругивал себя за два потерянных вечера.
Она поведала ему о неблагодарности польского дворянина. Григорий искренне удивился-поступку Парадысского и обругал его самыми последними словами, разумеется допустимыми в обществе дамы. Девушка определенно нравилась Григорию.
Ирина выразила удивление: каким образом Парадысскому доверялось важное дело и земские средства, если он не мог проявить элементарной порядочности? Тут Гриша проявил неожиданную искушенность в вопросах земской и иной общественной деятельности и доказал методом «от противного», что прохвосты всегда преуспевали в общественных начинаниях и будут преуспевать, если, разумеется, найдут это для себя выгодным.
– Есть даже поговорка: не трудиться, а пастись на общественной ниве, – заметил он, не претендуя на авторство: эту истину он слышал где-то раньше, но не придал ей большого значения, ибо тогда она нуждалась в подтверждении.
К Усть-Сысольску подъезжали как добрые знакомые, и Ирочка уже знала, что Гриша служит в нефтяной компании великой княгини Марии Павловны, а в недавнем прошлом играл на сцене и по этой причине не приобрел еще семейного очага. Все сказанное им не могло не заинтересовать, но Ирочку покамест занимали собственные мысли, незажившие обиды, и Григорий должен был запастись терпением, если искал дружбы с нею.
Усть-Сысольск встретил их нудным обложным дождем. Обычно высокое, северное небо теперь разбухло, отяжелело и нависло над самым берегом, по которому в беспорядке лепились черные, словно обугленные строения. Рядом с двухэтажными купеческими домами и длинными обветшалыми лабазами мокли под дождем бревенчатые избушки крестьянского посада с непривычно плоскими, односкатными кровлями из тесаных пластин, обросших мхом. Окрашенные белой краской оконницы выделялись на черных срубах, как воспаленные, трахомные глаза. Столица огромного лесного края поначалу производила неприятное впечатление, и Григорий с сожалением вспомнил о покинутом Устюге. Трудно было представить, что именно здесь зарождалось большое денежное дело, которое привлекало сюда множество пассажиров, в том числе столь важного комиссионера, как его патрон.
Встречающих на берегу оказалось мало. Хилый, вымокший под дождем старичок пытался броситься на ссыльных с палкой, упрекая в крамоле.
– Ты против государя императора, ирод! – завопил он, замахиваясь костылем на сгорбленного, хилого парнишку.
Оказалось, что он попал на уголовника. Тот неожиданно распрямился и, выкатив разбойничьи глаза, рявкнул прямо в стариковскую бороду:
– Брысь! Проглочу! Волосатик вшивый!.
Конвоир поспешил на выручку незадачливому патриоту Российской империи.
Старшой, не обращая внимания на инцидент, протрусил на берег. Скоро явился сам Полупанов, местный становой, гроза поселенцев и смазливых баб. Он нахмурился, выслушивая хмурый шепоток конвоира, потом подтянулся, придал физиономии торжественно-строгое и набожное выражение, тяжело поднялся по трапу.
– Кажи!
В трюме лежал покойник.
Замученный чахоткой и этапными порядками, желтый как воск юноша, вытянувшись, покоился у самого выхода на палубу, как будто и в смерти своей думал лишь об одном: как бы выйти из этого душного погреба на волю, туда, где светит ясное и одинаково щедрое для всех солнышко, шумит вольный, никому не подвластный ветер… Над ним на коленях стоял Новиков.
– Очистить трюм! – рявкнул Полупанов.
Новиков устало и отрешенно взглянул на пристава:
– Орать над покойником – грех. Притом – вам он уже не подчинен. Я прошу похоронить его в моем присутствии: это мой сводный брат!
– Я моСу и тебя похоронить с ним заодно, коли хочешь… Очистить трюм! – хладнокровно рыкнул становой и высунул голову наружу: – Носилки, ж-живо! Шевелись у меня!..
Как всегда в подобных случаях, было много крика и бестолковщины, толпа не понимала и не хотела понимать, чего от нее хотят. Становой Полупанов со своей стороны хотел показать, что в Усть-Сысольске не терпят вольнодумства и беспорядка. Здесь – образцовая ссылка'.
– Прощай, друг, – сказал Новиков и, натянув на голову фуражку, шагнул к выходу.
На берегу, около огромной, расхлестанной сапогами прохожих и колесами телег лужи, поджидали ссыльные. Конвой уже в третий раз пересчитывал их перед сдачей Полупанову.
– По четыре, два шага вперед – арш!
– …Второй!.. Третий!..
Уголовники мяли строй, гоготали, смущая стражу.
Недалеко, близ деревянного тротуара, уныло опустив спутанную гриву, мокла низкорослая лошадка, запряженная в тарантас. Извозчик, прикрыв от дождя голову вывернутым крапивным мешком, нетерпеливо поглядывал на пароход. Наконец к пролетке подошли женщина в дорожной накидке, толстый господин в мягкой шляпе и два поджарых нездешних парня в новых брезентовых плащах. Все расселись. Новиков проводил отъезжавшую пролетку угрюмым взглядом и стал в строй.
Торцовая мостовая шла круто в гору. Впереди мокро блеснули кресты Троицкого собора, а далеко справа – белые стены каменного сухановского особняка. Внизу, за купой голых тополей, скрывалась базарная площадь с торговыми рядами. Все это, с детства знакомое и родное, сладко и грустно волновало Ирину. Ее внимание потревожила облинялая доска с кособокими буквами на углу ближнего дома.
Все, что случилось в ее жизни, в жизни отца, странным образом вместилось в несколько неразборчивых, испорченных потеками краски строчек:
На Трехсвятительской
улице
здаютца
меблированныя комнаты!
в собственном доме
купца К. К. Сямтомова
(бывш. Прокушева)
Ирочка заплакала горько, навзрыд…
Она не успела. Все самое страшное и непоправимое, что могло произойти с отцом, уже произошло. Надпись красноречиво свидетельствовала об этом.
Знакомый, такой теплый и родной дом, обшитый голубым тесом, что стоял на крутом спуске улицы, соединявшей Стефановский собор с пристанью, смотрел теперь двумя рядами белоглазых окон пришибленно, настороженно. Деревянный мостик у калитки был зашит новыми, еще не потемневшими еловыми досками, и эта заплата резала глаза. Двери дома новый хозяин выкрасил в ядовито-зеленый цвет, к ним было страшно прикоснуться.
Вымокший худосочный старичок с палкой под самой мордой у лошади прошмыгнул к дому. У двери он остановился, придирчиво оглядел прибывших и вдруг радостно взвизгнул, заторопился:
– Батюшки! Никак сама курсисточка явилась? Отец-то слезы льет, поджидаючи!
Он уловил растерянность на лице девушки и протянул и сухую, сморщенную руку с кривыми, птичьими ноготками.
– Ты не бойся, не бойся, батя жив-здоров, в угловой горнице у меня. Свои, чай, люди – сочтемся…
Она узнала в нем Кирилла Касьяныча Сямтомова.
Это был тот самый купец, который два-три года тому назад ломал перед Прокушевым шапку за десять сажен, а вся его торговля помещалась в старом, окованном железными обручами сундуке с горбатой крышкой. Но что поделаешь! Так, видно, устроена жизнь, что сегодня ты, сильный и гордый, подминаешь под себя клонящих головы соседей, а завтра тебя сомнет лихач, щедро одаренный вчерашним нищим…
Она не приняла руки хищно ощерившегося старца и, высоко подняв голову, изящно пронесла свое гибкое тело по вымощенному Сямтомовым тротуару. Ирочка не собиралась в Усть-Сысольске склонять своей избалованной и по-вологодски воспитанной головы. Уж если там воспользовались ее простотой, то здесь ей мог пригодиться неприятный урок.
А что же отец? Жалеть ли его или обрушить на его непутевую голову всю боль страшного падения и несбывшихся надежд?..
Она открыла дверь в угловую горницу и растерянно остановилась на пороге. Слова прикипели к губам: она не узнала отца.
Не то чтобы он изменился внешне. Под его шестипудовой костистой тушей по-прежнему скрипели половицы, а выдубленные багровые скулы выдавали еще не угасшую матерую силу. Но все же это был уже не тот Прокушев, перед которым трепетал уезд, и не тот человек, которого она знала до отъезда в Вологду. Казалось, он утерял теперь что-то самое главное, что составляло его натуру. В нем убили живучую сердцевину, его нахрапистую уверенность в самом себе, и вот он обмяк, словно непросохшая шкурка, сброшенная с упругого пялила.
– Оплошал, оплошал, оплошал… – с тупым бесстрастием бормотал он, обнимая дочь, и она чувствовала дрожь его ослабших рук.
Ирочка испуганно отстранилась, упала грудью на стол и дала волю слезам. Подобранные, тугие косы ее вдруг распустились и зашевелились на вздрагивающей спине, как золотые ящерицы.
Эх, не видеть бы этого старому Прокушеву, не терзать души, с которой неожиданно содрали хорошо выдубленную кожу!
Давно прошло то время, когда он знал боль уязвленного самолюбия и горечь мелкой неудачи. Давно забылся мучительный поиск даровой копейки и рублевого барыша. Теперь играть бы ему крепко взнузданной жизнью, взвивать ее на дыбы, сыпать серебряные полтины с красного облучка под кованые копыта судьбы-тройки…
Подвели, окрутили, сукины дети, касторовые сюртуки – грамотеи!..
Лет двадцать тому назад молодой, ухватистый крестьянский сын Юшка Прокушев гонял в артели плоты до Архангельска-города, работал в поте лица и считал, что все люди делятся на богатых и бедных, что бедняки ничуть не глупее, но что от трудов праведных не нажить палат каменных. Умел выпить средственно, на девятую завертку храпел после праздника и лишь по временам страдал острой завистью к хозяевам. Была мыслишка зашибать копейку, да не знал, с чего начать. Потом подсказали умные люди. Заметил его доверенный какой-то иностранной компании, пригласил подрядчиком по скатке леса и сплаву. И то правда, были у Юшки такие способности – увлечь за собой ватагу, навалиться на багры, гаркнуть в нужный момент: «Нажимай, братцы, хозяин не обидит!»
Провел Ефим один сезон, расплатился с ватагой, пересчитал остаток – немало вышло. Оказалось, что куда выгоднее не жалеть глотки, чем самому налегать на бревно крутым плечом.
Вернулся Ефим Парамонович в деревушку навеселе, шел по узкой улочке и приговаривал ладно под невидимую двухрядку, словно в пляс собирался пойти:
А бумаж-ки-то все но-о-венькия,
Двад-ца-ти-пя-ти-руб-ле-венькия!..
Веселая была песня, что и говорить. Завистливые соседи выходили к воротам, любопытно пялили глаза на Ефима, вздыхали. А через год бумажки пошли все больше сотенные, но и расход возрос: начал новый домик ладить, в полтора этажа, с лавочкой в полуподвале. Деревня Подор была большая, оборот предполагался немалый.
Тут-то и случился памятный разговор с одним ссыльным насчет ума-разума.
Сидел ссыльный вечером на скамейке у его лавочки, и Прокушев по неведомой причине воспылал желанием затеять с ним умственный разговор. Сам, можно сказать, затронул:
– Так что ты, бишь, про людей-то толковал?
Ссыльный – хлипкий, болезненный, с козлиной бородкой. Однако на носу храбро поблескивают очки неведомого фасона – без оглобель, а промеж стекол золотой паучок.
– Люди есть богатые и бедные, и никакой иной разницы…
– Ха, научил! – нагловато возразил Ефим. – Ты мне верь, я поболе твоего их повидал. Все люди делятся на дураков и умных. Вот коли кто умный, тот, значит, и подсасывает другого, как умеет. А дурака и в алтаре бьют!
Золотые очки сверкнули.
– И дурак и умник сдохнут под темным колпаком, если и дальше так дело пойдет, – заметил ссыльный.
Но Прокушев уже не слышал его. Он нутром чуял силу истины, открытой им самолично, и служил ей потом верой и правдой всю жизнь.
Дальнейший его путь как две капли воды был схож с развитием других, подобных ему мироедских домов. Скоро он перерос свой полуподвал, начал думать дальше… Тут, правда, вышло непредвиденное осложнение: как-то в грозу ударила молния, и сгорел дом. Очевидцы уверяли, что молния угодила как-то необычно, сразу с четырех углов, но Прокушев не растерялся, выстроился заново в самом Усть-Сысольске, закатил дом в два полных этажа, нижний каменный. Дело пошло опять – как груженый воз под гору. Не раз за последние пять лет подумывал о заявке на годовое свидетельство второй гильдии. Не раз листал в уездной земской управе книгу законов, где в жалованной грамоте городам, данной еще императрицей Екатериной Великой, значилось между прочим под буквой «3»: «…Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит кипитал выше 10 тысяч… Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякие внутри империи торги, и товары возить водою и сухим путем по городам и ярмаркам, и по оным продавать, выменивать и покупать потребное для их торгу оптом или подробно…» Не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы и речные всякие суда… И самое главное – второй гильдии дозволяется ездить по городу в коляске парою, а не как-нибудь по-мещански, на ободранных дрогах.
Да, заманчивая рисовалась в недалеком будущем жизнь…
Погубил Прокушева азарт. Захотел разбогатеть сразу, в один мах обогнать Кузьбожевых, оставить позади городского голову Забоева, потягаться с самим Камбаловым, у которого дело выпирало за сотни тысяч.
Решил сам промышлять лесом. Недаром же он в молодости прошел всю Вычегду, сверху донизу, всю Вымь пешком промерил. Он знал самые удобные и ценные делянки строевой сосны-мачтовки. Можно было самому заготавливать экспортную золотистую сосну, а при нужде и перепродать откупленные делянки. Иностранцы и отступного немало давали.
Подсчитал – малость не хватало, чтобы оплатить многотысячный залог в лесном ведомстве. Опять умные люди выручили: оказалось, что денежный залог можно заменить ручательством общества. Каждый мужик был вправе поручиться за земляка на пятнадцать рублей. Деньги вносить не требовалось, важно было собрать подписи мужиков да волостной печатью заверить – всего и делов на ведро водки.
Лет пять на отступных жил, а потом решил все-таки рискнуть всерьез. Чем черт не шутит, пока бог спит!
И тут-то судьба сыграла с ним злое. Не сумел как следует с чиновниками обойтись, проморгал. Сготовил плоты, обратился к лесничему за сплавным билетом, а тот насупился, как осенняя туча, отказал:
– Неисправности у тебя лесной кондуктор обнаружил. Сплавлять не имеешь права, пока дело не выяснится!
Как так? Ведь это верный разор! Тут и неустойки со всех сторон посыплются, и штрафы, и лес за лето перестоится, в низший сорт пойдет!
Предложил было благодарность кондуктору – десяток зеленых, – не взял, стал куражиться, в тюрьму обещал засадить. Наверное, мало показалось…
Мотнулся туда-сюда – кругом беда. Зашился совсем. Лес второй год на берегу, черви его точат, грибок пошел, деньги потекли в разные стороны, как вода из решета…
Дом с молотка продан, штраф на поручителей наложили большой. Проклинают все Юшку Прокушева, и самому несладко. Да и люди оказались вовсе непутевыми: пока гнул он их в бараний рог – хвалили, а поскользнулся, стал с ними вровень – сожрать готовы. Вот и угоди! Еле-еле малую толику деньжонок припрятать сумел, а о новом деле и думать нечего – доверия нет. Ложись и помирай…
Подвел азарт, прости господи! Полез в волки, а хвост собачий. Куда тут соперничать – теперь по лесам в одиночку не ходят, все больше компаниями: «Торговый дом Эдель-Фонтейсов», общество «Норд», фирма «Ульсен-Стампе и К°», «Русское акционерное общество»… Попробуй не уступи дороги – растопчут!
Трудно темному человеку среди образованных-то… Вот плачет дочь, повалившись на непокрытый серый стол, а чем поможешь? Вшивый купчишка Сямтомов перекупил дом, вон как повернулось. А ведь недавно говорили все: умный, мол, человек Прокушев! Умный, пока деньги есть. Ах, проклятый политик – как в воду глядел через свои очки!
Старик качнулся, неуверенно шагнул к столу, осторожно, точно боясь чего-то, присел около дочери на низкую, высветленную за столетие скамью. Виноватый голос упал до шепота:
– Слышь, дочка, постой, вытри слезу-то. Одни мы., постой, слушай, чего скажу…
– Оставь, отец, – Ирина отняла ладони от багрового, вспухшего лица, и он вконец растерялся под взглядом ее мокрых, опустошенных глаз.
– Почему продали дом, а не лес? – спокойно спросила она.
– А кому он спонадобится, коли два срока потеряно? Так запустила дело чернильная саранча – хоть в петлю лезь. Взалкал много, надорвался!..
Прокушев почувствовал приближение ярости, и это укрепило его.
– Ан не все выгребли, ироды! – сорвавшись, закричал он. – Не все! Ты постой, постой, слушай… Скажи, как от поручительства избавиться?
– Еще что? – насторожилась Ирина.
– Штраф за меня на поручителей. А там половина мертвецов. Волостное правление поручательство свидетельствовало, слышь!








