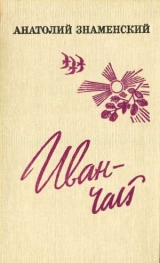
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
– В тюрьму посадить могут: подлог.
Прокушеву почудилось, что он ослышался: не могли же ее мягкие, полудетские губы произнести эти страшные слова. Он хотел возразить что-то, Ирина собиралась немедленно потребовать из оставшегося свою долю, но оба замерли на полуслове. В комнатушку торопливо вскочил хозяин дома и с испугом перекрестился:
– Матича богородица, укрой и помилуй! Что же теперь делать?
Отец и дочь неприязненно обернулись к Сямтомову.
– Постояльча, слышь, мне становой навязал! Следить чтобы, значит, за ним! Самого что ни на есть ирода-живореза, с четырьмя прозвищами! Куда теперь?..
Только тут Ирина рассмотрела купца. Он совсем не был так стар, как показался вначале. Просто жизнь заморила его, и он съежился к пятидесяти годам, как прихваченная суховеем ольховая кора.
– Что делать-то, Ефим, а? – испуганно спросил он.
– Тоже забота… – через силу пробурчал Прокушев.
– Да как же, туды его… Слышу, поет: «Не стерпело мое сердче, я урядника убил!» Это как, а?
Прокушены молчали, с нетерпением ожидая ухода хозяина. Им надо было решать куда более важное дело.
Андрей Новиков с конца 1905 года находился на нелегальном положении. За это время он исколесил добрую половину России и вынужден был сменить несколько фамилий. В Питере его называли Кольцовым, на ростовском «Аксае» проходил за украинца Кожушко, а в московской организации РСДРП получил имя «товарищ Илларион»…
До памятных баррикадных схваток Андрей не рассчитывал, что из него выйдет профессионал-подпольщик. Он работал слесарем за Нарвской заставой, когда ему впервые доверили дело – оборудовать типографию и пустить в ход испорченный станок. Потом он выслеживал провокатора, затесавшегося в организацию из максималистов. Спокойная жизнь осталась где-то далеко позади. Таково было время: тот, кто однажды на баррикаде подхватил древко красного флага из рук пораженного насмерть товарища, уже не мог, не имел права выпустить его сам.
Дел хватало. Андрей отдался им, как человек, узревший истинно справедливую и единственно необходимую цель.
Он попал на глаза филеру случайно, улик не было никаких, и, может, поэтому да еще по причине сравнительно «краткой» политической биографии избавился от тюрьмы и получил высылку в края не столь отдаленные, под гласный надзор…
Конечно, лучше во всех отношениях было бы отбывать ссылку по месту назначения – в Яренске. Оттуда и побег легче организовать. Но он не мог оставить умирающего товарища, с которым встретился в следственной тюрьме, и теперь оказался в Усть-Сысольске.
Добровольно избранный им городишко был захолустьем в самом страшном понимании этого слова, с абсолютным бесправием, зубодробиловкой, унынием в среде ссыльной братии, порожденным оторванностью от настоящей жизни и сложностью побега.
Почему Полупанов определил его в меблированные комнаты Сямтомова, Андрей так и не понял. Вероятнее всего, причина заключалась в нежелании станового назначить специального полицейского надзирателя: хозяин дома, считавший себя образцовым членом Стефано-Мефодьевского братства, мог с успехом нести столь почетные обязанности.
Весь ужас ссылки Андрей почувствовал с первых же дней. Город кишел ссыльными, но среди них почти невозможно было нащупать нужных людей. Здесь содержались террористы-эсеры, напуганные ликвидаторы, мальчишки-«революционеры» в потрепанных гимназических шинелях, не знавшие своей партийной принадлежности, и просто провокаторы, зарабатывающие подчеркнутой развязностью в суждениях кусок хлеба. Всякий шаг был сопряжен с опасностями.
По общему мнению, и побег из этого проклятого угла был почти немыслим.
Раздражал хозяин.
Целыми днями он крутился во дворе дома, ни на минуту не упуская из виду двери в комнату Андрея. От безделья стравливал кошек с собаками, выбрасывая из-под полы обезумевшего кота на спину приблудного пса. Возникала короткая схватка, кот взлетал птицей на забор и до следующего сеанса убегал в покои хозяина. Сямтомов, насладившись зрелищем, уединялся, но ненадолго. Спустя четверть часа он уже прогуливался по коридору нижнего этажа у дверей постояльца и нудно гнусавил:
За морем синичка не пышно жила…
Пройдет в одну сторону, проскрипит, потом при возвращении снова тянет с заупокойным унынием:
За морем синичка не пышно ж-жила…
Когда от скуки ему становилось невмоготу, а постоялец не проявлял признаков жизни, он бесцеремонно просовывал голову в дверь, подозрительно и недоумевающе хмыкал:
– Ишь ты?..
Андрей молчал. Поморгав белыми, свиными ресницами, хозяин повторял те же два слова, с некоторым добавлением яда.
Невозмутимость постояльца выводила, кажется, его из себя, и он уже с нескрываемым вызовом, с угрозой, гремел:
– Ишь ты!
Андрей неторопливо поворачивал голову:
– Ты чего, дедок? Может, в загривок ищешь, а?..
Дверь захлопывалась.
Однажды Сямтомову захотелось выяснить политическую физиономию постояльца, а заодно высказать и свою точку зрения. Тогда он без всякой подготовки распахнул дверь, утвердился на побитом, щербатом пороге и весь подался вперед, на посох:
– Крамольник, а? – Молчание Андрея не охладило его. – Значит, когда все на одного работают, это тебе не нравится? Ну а коли вы и в сам деле богача одного заставите на всех черноспинных работать, так что ж оно такое получится? А?!
Тут Андрей все-таки обернулся к хозяину и вдруг раскатисто захохотал. Смеялся до слез, высоко задрав голову, и не мог остановиться. Старый крохобор с самым серьезным видом ожидал ответа.
– А ты не знаешь, дед, откуда у станового такая фамилия? Не пойму – то ли от слова «полпана», то ли от изречения «лупить»? Скажи-ка, а?
Сямтомов собирался ответить, но в эту минуту кто-то окликнул его со двора, и по всему дому пронеслось: «Никит-Паш приехал…»
– Вот погоди, он, Михаил-архандел, выи-то вам скрутит! – успел крикнуть Сямтомов и поспешно захлопнул за собой скрипучую дверь.
Андрей озабоченно потер пальцами лоб, с омерзением поморщился. Дальнейшее рисовалось в самом неприглядном виде. Стоило, по крайней мере, начинать ходатайство об «исправлении ошибки» и переотправке его в Яренск. Говорили, что оттуда людям удавалось бежать.
Он открыл узенькое окно и без любопытства стал наблюдать чуждую ему жизнь: требовалось как-нибудь убить бесполезное время…
Никит-Паш приехал!
Местное купечество готовило Козлову встречу в земском клубе, но Никит-Паш остановил пролетку у сямтомовского дома и долго вчитывался в полинялые буквы, извещавшие об открытии меблированных комнат. Потом тяжело опустился на землю, едва не опрокинув легкий тарантас набок, и, чему-то усмехнувшись, приказал внести вещи в номер.
– Шибко баско, – сказал он сам себе, еще раз кинув глазами на вывеску, и уверенно направился к крыльцу.
Иссушенный как хвощ, хозяин дома выглядел перед ним плохоньким приказчиком. Он раскланялся и подобострастно схватил Никит-Паша под руку.
– Добро пожаловать… В кои веки к нам! – бормотал он.
Козлов высвободил локоть и легко взбежал по крутой лестнице наверх.
– Кажи-ка, что у тебя есть тут порядочное, попросторней!
И, оглядев номер, с ехидцей заметил:
– Выжили хозяина-то, ироды?
Сямтомов засуетился пуще:
– Как можно! Свои, чай… У меня тут до сих пор и живет. Пьет лишь многовато, слышь. Боюсь, как бы паралик не тово…
– Все так живут. Все пьют, все мрут, – опять сам себе бормотнул Козлов и, сбросив поддевку на руки хозяина, задумался.
– Слыхали, большое дело зачинаешь, Павел Никитич? – опять заискивающе осклабился Сямтомов.
– Откуда знаешь? – с непонятной подозрительностью повернул голову гость.
– Слухом земля полнится, Никитич. Доброму делу, слышь, и ангелы небесные радуются!
– Да! Где оно просто, там и ангелов штук по сто, а где хитро – там ни одного. Хотя, положим, я не супротив них, – заметил Козлов и немного погодя добавил – Слышь, Кирилл. Умаялся я. Дорога тяжела к вам… Придут купчишки докучать – скажи: завтра, мол. А сей минут кликни ко мне Прокушева. Малое дельце есть к нему…
Ефим Парамонович Прокушев опешил, узнав о приглашении, да так в столбняке и замер в козловском номере у порога. В глазах двоилась черная фигура большого человека у окна, крашеный пол зыбился желтым пятном. Ефиму думалось, что после разорения на него могли только осуждающе указывать пальцем да плевать под горячую руку. Он внутренне костенел, готовясь к новому обидному положению, – и вдруг сам Никит-Паш с недосягаемой теперь высоты желал с ним говорить! Да пускай он хотя бы посочувствует, и то Прокушев малость приподымет свою оплошавшую голову.
– Слыхал, слыхал… – проговорил меж тем Козлов и подвинул своей короткой и толстой ногой к столу ближайшее кресло с облезлыми, топорной резьбы подлокотниками. – Садись, Ефим. Это ничего, с каждым случается…
Потом минут пять сидели молча. Прокушев ждал, о чем пойдет разговор, потихоньку покряхтывал. Никит-Паш думал. Погодя спросил:
– Что думаешь делать, Ефим?
Прокушев поднял голову, растерянно оглянулся по сторонам, как бы ища поддержки. Издавна знакомые стены, низкий вощеный потолок на обхватной матице давили его, не давали дышать, – они стали с недавних пор чужими, и это не укладывалось в понятии.
– Сам не знаю, Никитич, – сознался он, – Спасибо тебе, не забыл…
– Где ж забыть! – усмехнулся Козлов. – Не раз ты мне задавал задачу. Прямо скажу – побаивался я, что оставишь ты меня с пушниной как с разбитым корытом. Теперь ведь какие времена? Теперь требуется что потяжелее: лес да земляной деготь. Да, но не радуюсь, нет. Жалко, когда деловой человек впросак попадает: на том живем. Сухой короед Сямтошка большого дела не потянет, сам знаешь. Повезло дурню, а жаль. У него и в добрый год в амбаре мыши дохнут… Так что делать будешь?
– Куда теперь? Банкрут, – развел руками Прокушев.
– Да ведь на разгон в загашнике, положим, оставил?
– Побойся бога, Никитич!
Козлов хитро погрозил узловатым пальцем:
– Знаю, чего уж там! Сам такой… Барыши любить – накладов не бегать.
– Правду говорю: на дело не рискну больше. В счастье, оно, вишь, не в бабки; свинчаткой кону не выбьешь. В стражники, видать, придется. Тоже занятие: сиди гляди, а пришло время – получай деньгу. Хоть и небольшая, да верная… – Прокушев устало прикрыл веки. Говорил он от души, то, что думал.
Козлов поверил.
– Зря напускаешь на себя, – заметил он. – В одну думу по уши влазить не след. Потому: без толку молиться – без числа согрешить.
– То правда. А веры в себя нету, то как же дале-то?
– Э-э, осердясь на блох, и шубу в печь? – недовольно крякнул Никит-Паш. – Не дело задумал. Не дело, говорю!..
Так переливали из пустого в порожнее с полчаса. Козлову надоело. Он зачем-то поглядел в окно, прислушался. Где-то внизу Сямтомов выпроваживал настырных купцов. Пора было заговорить о главном деле.
– Слыхал про Ухту, Ефим? – спросил он. – Сам губернатор, бают, рвется… Дорогу надо ладить. Слыхал?
Прокушев кивнул.
– Подряд мне с поляком из Вологды на эту дорогу отдали. Стало быть, половина – моя. Толковый человек нужен в подрядчики.
Прокушев напружинился, встал во весь рост. Понял.
– Веришь, значит, мне, Никитич!..
Радость ударила в колени. Потолок, словно бабий зонтик, плавно пошел вверх. И густой куст герани на подоконнике, поймав солнечный луч, загорелся сквозным, праздничным светом.
Козлов смачно высморкался, опять повернулся к окну:
– Берись, в обиде не будешь… Дело в отдалении, вернешься домой – охнут в городишке… Так как же, согласен?
За дверью в нервной лихорадке дрожала Ирина.
8. День,
который год кормит
За ночь, проведенную на пароходе, Яков хорошо отдохнул и теперь сызнова упруго и споро попирал ногами отпотевшую весеннюю землю. Он шел быстро, изредка вскидывая на плечах отяжелевший к концу пути лаз, с непонятной радостью поглядывая по сторонам: пошли знакомые места.
Справа невнятно плескалась речка, успокоившись после половодья в исконных берегах, слева сплошной стеной зеленела весенная тайга, и в ее хвойной гуще отрадно сквозилась невесомая, воздушная розовость берез. Все наливалось соками, бурлило, распускало почки. Призывно трубили последние птичьи стаи, влекомые далекими полярными скалами у океана – местами гнездовий и птичьих базаров. Властная сила весны будоражила душу, подгоняла к дому.
Вот он, просыхающий, солнечно-желтый песчаный пригорок, старая вековуха лиственница с клешнятыми пальцами веток, знакомая с того дня, как Яков стал помнить себя, с первого выхода за околицу, в лес, за грибами. А за пригорком и купой кедров совсем близко – деревня. Его деревня, Подор…
Яков окинул одним взглядом знакомую окраину, приземистые избы, вразброс осыпавшие берег, и тут неотвратимая память заставила его глянуть в сторону, где в лес входила мшистая, зарастающая просека – старый зимник. Та, непроезжая теперь, дорога зияла как глубокий, незарастающий шрам на теле пармы, таила в своих мглистых излучинах подробности прежней жизни, его детства.
Тогда Якову было шесть лет. По этой дороге и пришло к ним в дом страшное, незабываемое.
Яшка еще не знал больших и малых причин, заставивших исконных подорских охотников и рыболовов оставить вольготный промысел и взяться за пилы и топоры, валить обхватные мачтовые сосны и возить их на катища, ломая спины заморенным лошаденкам, уродуя леса, изгоняя навсегда ближнюю дичь и промысловое зверье. Он не знал, что деревушку захлестнула безжалостная новизна жизни с ее каторгой и длинным, пьяным рублем.
Он не знал этого, но слышал странные названия: «Фирма Ульсен-Стампе и компания», общество «Норд», «Дело Эдель-Фонтейсов». И помнил, как однажды в стужу отец и мать собрались на делянку. Видно, туго подошло с хлебом, если отец не пожалел ее, ходившую последние дни перед вторым дитенком…
После бабка рассказывала, как все было.
Высоченная ель, перегруженная мартовским снегом, пошла вдруг к земле, когда они не успели еще пропилить и середины комля. Она шумела вершиной, сносила тонкий молодняк, засыпала их пластами снега.
Мать свалилась в сторону, отец оторопело пятился от страшного пня, путался ногами в сучьях и перетоптанном снегу.
Ель, словно живая, подпрыгнула всем туловищем на гибких лапах и, когда на суку с треском лопнул закол, двинула отца в грудь комлем.
Пока обессилевшая мать отвернула ель вагой, откапывала его из-под снега, у отца побелели губы и остекленели глаза…
Потом она связывала непослушными, коченеющими пальцами лыжи, укладывала на них скрюченное тело, волокла по зимнику в деревню.
Было уже темно, когда Яшка с бабушкой услышали за окном дикий вопль матери. Яшка выбежал в одной рубашонке первым, но бабка суетливо загнала его в избу, крестясь, кинулась к корчившейся на снегу матери…
Высоко в небе пылала холодная луна, и от мороза потрескивали ступени крыльца – больше ничего не успел заметить ошалевший от страха Яшка.
Потом пришли люди, орали и бегали вокруг избы, затопили без времени печь, парили отруби и возились с крикливым овчинным свертком, а мать, сказали, померла.
Яшка не верил, лез в дальний угол, где на скамье лежала присмиревшая мать, вырывался из чужих рук и, заходясь от крика, сучил ногами. Он так и уснул в тот вечер на теплой печке, обессилев от страха и крика. А утром, едва продрав сонные глаза, увидел отца и мать – они лежали рядом на длинном столе, сложив руки крест-накрест, а над ними стоял бородатый поп в странной одежде и махал дымящим котелком на длинной цепи. Воняло приторносладкой сосновой смолой…
Отца и мать схоронили в дальнем углу кладбища так давно, что Яшка теперь уж и не помнил, какие они были. Сестренку назвали по матери – Агафьей.
Бабушка скоро померла, за детишками присматривали соседи. А когда Яшке сравнялось одиннадцать лет, он взял отцовское ружье и пошел с большими охотниками на лесованье.
Сестру выходил сам, она как дочка ему. О ней заботился, из-за нее не женился. Все хотел хозяйство на ноги поставить, потом уж о себе думать.
Лесную каторгу Яков возненавидел всем своим существом. Он не терпел топора и пилы, не ходил с парнями на сплав, где они зашибали большую деньгу. Не мог видеть лесных катищ с высокими штабелями долготья. Презирал в душе звучные чужие слова: «фирма», «Эдель-Фонтейсы», «Норд»… Без этих слов люди когда-то жили спокойнее.
Он любил парму и ее неписаные законы, порядки охотничьего братства. Как бы то ни было, Яков с одиннадцати лет кормился с сестренкой охотой и, наверное, никогда не влез бы в кабалу к Чудову, если бы не вздумал в прошлом году завести корову. Пускай. Года через два он рассчитается с пароходчиковым доверенным, зато Агаша теперь стала настоящей хозяйкой: корова на дворе.
В деревне с ним считались, добрый получился из него охотник. Из ружья бил без промаха, а уж парму знал как никто другой. И ходил всякий раз в такую даль, в какую не отваживались проникать даже старики.
Якова тянуло куда-то в глухомань, а куда – он и сам не знал. В таинственной синеве пармы чудились ему вечные загадки, непонятные инстинкты леса, которых еще никто не умел разгадать…
Зато потом, возвращаясь с богатой добычей, было что вспомнить, чем обрадовать сестру, а деревня становилась милее и звала к себе.
Вот и околица.
– Чьи-то новые прясла из свежих жердей жадно протянулись к берегу, отхватив клок общественного выгона. Стало быть, по-прежнему жадничают люди. Ну да ничего! Землей тут не разбогатеешь. Глаз нужен, сметка, выносливость да терпение… А то что же: понабил жадный человек кольев в землю, – глядь, ан кол-то всей деревне в глаз! Нехорошо…
Яков в последний раз подкинул на спине лаз, огляделся и, выбрав в изгороди подходящее место, перешагнул, направляясь к дому. Сразу позабылись дальняя дорога, пароход, чернобурка, ссыльный из трюма, правда и кривда человеческие… Он вошел во двор и закрыл за собой скрипнувшие ворота.
Вот и конец странствиям до самой осени. Что ни говорят люди, а хорошо все-таки иметь на суровой, неуютной земле свой двор!
Воробей с серенькой воробьихой засуетились на теплом, обомшелом взвозе и бросились под застреху с пучками соломинок: гнездо замышляют свить. Вейте! В растворенном настежь сарае спокойно, по-домашнему вздохнула корова. У крыльца проклюнулась первая травка – подорожник. На высоком крыльце на лавке стоит с осени знакомая бадья… Хорошо!
«Нет, не то. Плохо, двор опустел!» – полоснула его мысль о собаке. Хороший был пес, и отчего околел, понять невозможно. Правда, старый был, да ведь иные живут и дольше… Теперь придется нового заводить, учить в лесу – без собаки какой он охотник!
Яков шагнул по скрипучим порожкам в чулан – пахнуло знакомым устоявшимся запахом овчинной мездры-кислятины и старого мха. Двери в летнюю хоромину были настежь раскрыты – лето. Заглянул туда и прошел в зимнюю боковушку.
– Агаш! – позвал он, устало присев на лавку и привалившись пухлым, горбатым лазом к стене.
Сестры не было. Яков перевел дух и неторопливо стал стаскивать с себя лаз. Ноги гудели, как сухая сосна под ветром. Сбросил разбитые и раскисшие тобоки, сунул босые ноги в меховые чуни и, напившись берестяным ковшиком пахучей холодной воды, нетерпеливо выглянул во двор.
– Агаш!
От ворот бежала здоровая, раскрасневшаяся девка-невеста. Она и не она. Словно ветер влетела на крыльцо, вцепилась в Якова сильными, располневшими руками, зачем-то пустила слезу.
– Ну, о чем ты? – сурово сказал брат. – По мертвым плачут, с горя… А ты, однако, здорова стала – не узнать. Хороша девка!
Она не слушала. Утирая радостные слезы, торопливо сунулась в печь, достала чугун, взяла с полочки деревянную миску с шаньгами, поставила на чистый, выскобленный стол. А Яков все смотрел на нее то сбоку, то со спины; Тю прямо в круглое лицо и удивленно покряхтывал:
– Ишь ты! Когда же успела, а? За зиму выходилась на целу четверть!
Старенький, насквозь простиранный дубас туго обтягивал полные, округлившиеся плечи Агаши и высокую грудь, толстая коса, свитая натуго, упруго вздрагивала на спине при каждом движении, а на круглой и белой шее дорогим украшением поблескивали дешевенькие материны мониста. Лицом Агафья в отца пошла – с тонким, птичьим носиком и строго вырезанным ртом. «Хороша вышла девушка, не зря мучился с ней после бабки… Теперь небось парни глаза пялят, а не отдам…»
Она уселась на скамью против него и жадно, пристально глядела на брата, пока он с хрустом дробил крепкими зубами глухариные косточки и, обсасывая пальцы, чуть не целиком глотал поджаренные шаньги. Он устало посапывал, как лошадь, дорвавшаяся до овса. У него двигались маленькие обмороженные уши и угловато вспухали желваки скул. А она радостно обнимала его взглядом заботливой матери и время от времени меняла на столе миски.
«Вернулся брат – проживем теперь», – улыбаясь чему-то, думала она.
– Пантелей приехал, – неожиданно для самой себя вдруг сказала Агаша и покраснела.
– Пантя? – брат насторожился.
– Пантя. Он недавно с Серегова вернулся.
– Ты к чему это? – Яков перестал жевать.
– Он ко мне два раза приходил… – несмело сказала она.
– Пантя не охотник. Голый как липка. К чему он?
– Ты не видел его?
– Не видел – и не надо! Я знаешь что ему скажу?..
Агаша подошла к печи и остановилась там, вцепившись
пальцами в ситцевую линялую занавеску. А Яков облокотился на стол, поковырял лучинкой в зубах, задумался.
Он бы многое сказал. Он скажет, дай только встретиться с Пантей.
Деревня Подор, как и многие другие на Вычегде, наполовину коми, наполовину русская. Те и другие живут дружно, а приезжих вовсе с охотой встречают: соперничества в лесу от них нет, зато иному какому-нибудь промыслу у пришлых всегда можно подучиться. Даже визингские пимокаты и пыелдинские портные от русских сноровку перехватили.
Но живут русские тяжело. От них тут и пошла лесорубная каторга. Охотиться не могут – за это и недолюбливает их Яков. Бабка давным-давно говорила ему: «Не гляди, что часом попадется вшивый роч, – у него нутро сильное. Он сам из своей кожи рукавицы шьет, ремни тянет…»
И еще рассказывала.
В давние времена, когда прадеды наших прадедов жили, пришел первый роч – монах Степан Храп – в Усть-Вымь с железным крестом и стал уговаривать коми поклониться кресту.
Стояла там, на берегу, вещая береза-жертвенник, и до последнего дня весь народ поклонялся березе. А Храп взял топор и начал рубить ее. Задрожали леса кругом, каждый листик плакал зеленой слезой, а из надруба кровь ручьем пошла. Страшно стало в лесах, но люди боялись Храпа. Лишь кудесник Пама решился спорить с монахом на прохождение через огонь.
Страшное было дело. Сложили люди в одну кучу сто возов валежа вместе с порубленной березой, подожгли невиданный костер – огонь до неба встал. От багрового пламени поднялся на свете небывалый ураган, а темный лес будто надвинулся со всех сторон, загудел в вершинах совиными крыльями.
Ждали люди, что пропадет Храп, ох как ждали, когда он перекрестился своим восьмиконечным крестом и шагнул в пекло… Но случилось неслыханное. Слабы ли оказались лесные духи, силен ли был новый бог, но сгорел Пама в костре, а Степан Пермский прошел невредимо…
Собрались было вскорости убить монаха. Но тут новгородский князь наложил огромную дань на ижемцев да Печору, и нечем стало ту дань платить. Тогда Степан пошел с крестом до князя и сказал, что русский бог не велит брать больше, чем могут дать люди. Усовестил ли он князя, или тот сам боялся своего сурового бога, но от дани отказался. Так Степан Пермский прошел снова сквозь огонь народной ненависти и любви…
Непонятными русские пришли в леса, такими и остались ныне. Когда-то Яков с отцом был у них на ярмарке. В одной деревне видел, как дрались мужики за межу. До сих пор не может забыть: здоровенный мужик в красной рубахе хватил другого колом по башке – будто яйцо хрупнуло.
– Чего они, бать?! – задрожав, вскричал тогда Яшка.
– Глупые… Землю делят всю жизнь. А земли этой кругом непочатые края, – глухо, потрясенно сказал отец.
И верно, земли кругом было много, а люди убивали из-за нее друг друга. Страшно и непонятно.
Тут же, на ярмарке, отец дал Яшке гривенник на леденцы. Яшка слонялся по рядам, все выбирал, как лучше потратить дорогую монету. Увидел толпу, подошел поближе. Зевак много, смеются.
– Кто еще хочет! За пятак – путешествие вокруг света!:– зычно кричал какой-то ряженый шут.
Тут подскочил к Яшке проворный и тощий парнишка из мастеровых.
– Деньги есть? Давай путешествовать! Знатно!..
Не успел Яков рта открыть, как гривенник перекочевал к хозяину балагана, а они с парнишкой вошли в темную полотняную избу.
Пусто. Посредине – деревянный стол, на нем одинокая свечка коптит. Это, стало быть, и есть свет. Одураченных людей со смехом обводят вокруг света и выталкивают в противоположную дверь. А тут настоящее светопреставление: народ орет, чтобы деньги назад вернули. На возвышении краснорожий хозяин тычет коротким пальцем в ревущую толпу:
– Назад не даем! А коли орать – решите спервоначалу, кому первому отдавать!
Народ рычит от обиды, а первого все равно не сыщет.
Вот так путешествие! Чего-чего, а такого нахальства Яков сроду не встречал. И гривенника жалко…
«Хитрый дурак роч», – сказал сам себе Яков и заплакал.
После отец подсмеивался над оплошавшим сыном. А что тут смеяться? Ведь там и большие мужики попадались на удочку.
Сосед, Пантя Батайкин, был тоже русский. В детстве вместе играли, ловили прутяными мордами рыбу, воровали репу на огородах, петли зимой на куропаток ставили. Пантя был слабенький, Яшка колотил его не раз. А потом приехал с заводов черный, как ворон, и страшно нелюдимый. Схватились бороться – шутя кинул Яшку через голову и сразу тяжело задышал в ярости. Подумалось тогда: этот Пантя может, не моргнув, хватить кого угодно колом по башке.
Вот они какие, рочн, лешак их разберет… Яков испытывал к ним острое любопытство, недоверие и страх.
Обо всем этом и сказал бы он Панте, который вздумал ходить к Агаше. Что хорошего? Пантя – вечный зимогор, Заводской сезонник. Леса не знает, охоты не любит. Какой из него человек? Как будет кормить Агашу?..
Она все еще стояла у печки, сжав губы, и теребила пальцами занавеску. Чего-то ждала, но Яков знал, что ей этого не дождаться. Он поднялся из-за стола, махнул перед образом косым крестом, закурил. Потом не удержался, пожалел сестру:
– Ладно, после об этом. Разбирай лаз. Для тебя чернобурку спустил с рук на пароходе. Четвертной взял. Завтра куплю обнову. А замуж… выбирай охотника, чтобы верный был человек.
И вправду сказать – вынослив русский человек!
С пятнадцати лет ходил Пантелеймон Батайкин, а попросту Пантя-зимогор, по заработкам. Три шкуры, кажется, спустил за это время, а все жив-здоров, да и жениться собирается.
Сначала бывал он со стариками на пермских заводах, дрова заготавливал, уголь жег. Возвращался домой, хлестко пил водку и старался ни в чем не отставать от земляков. В голосе появилась хрипотца бывалого человека, в глазах – злой, волчий огонек.
А прошлой осенью, когда соседская девчушка Агаша приглянулась, злой огонек неожиданно потух, в глазах сгустилась темная, волнующая теплота. Решил меньше пить и обходить поножовщину: жизнь неожиданно приобрела какую-то огромную ценность и смысл. На пермские заводы не пошел. Решил не уходить далеко от деревни, обернуться на сезон где-нибудь поблизости до прихода Якова и высватать ее за себя. Яшка был друг и сосед, не мог отказать. Оставалось малость деньжат подзаработать на свадьбу да на перестройку избы.
«Подзаработал!..»
Надоумили сходить на Сереговские солеварни. Близко, и работа – проще не выдумать. Вот позабыл только, какая умная голова советовала: теперь рожу бы набил до крови…
Когда-то Серегово гудело на весь уезд. Рабочих до двух сотен набирали, соль варили самую наилучшую. А после японской войны и беспорядков все хозяйство разваливаться стало, в упадок пришло.
Диву можно даться, как это жизнь теперь пошатнулась! Даже хозяева, что лопатой деньги загребают, и те потеряли всякий интерес. Глядят, как оно валится все, и глазом не ведут. На погибель, что ли?
Явился Пантя на заводы, глянул – тошно стало. Стоят девять сараев без крыш, того и гляди рухнут. Кругом грязь в колено, мусор кучами свален. В трех крытых сараях дымится: соль, стало быть, варят.
Заглянул в один. На железный лоток – чреном зовется – бежит ручьем рассол из трубы. И лоток и трубы проржавели до последней возможности. Под чреном костер горит, не костер, а пожар – сразу сажени три дров закладывается.
Спиной к дверям копченый человечек примостился, старший варщик.
– Жив?! – закричал ему Пантя в самое ухо.
Тот повернулся, машет что-то рукой невпопад, глаза красные, как у карася.
– Не слышу ничего, оглох я тут от простуды! Дюжей ори!
Пантя усмехнулся признанию горемыки, а потом испугался. Как же тут работать? Спереди кожа от огня лопается, а сзади, от дверей, снегом заносит. Тут не то что оглохнешь, тут спину враз в три дуги скрутит.
– Много ль зарабатываешь, страдалец? – спросил.
Тот выругался, погрозил куда-то вверх сухим кулачком:
– При Булычеве сходственно давали, а теперь, слышь, арендатор какой-то проявился, из-под себя жрет. Обещал сорок копеек в день, а в получку по тридцать восемь выдал. За низкий сорт, мол…
– Ловко!
– А что поделаешь, милок? Молодым был сам, в Пермь на Мотовилиху ходил. Теперь ноги не несут. Как-то прокрутиться надо…
«Да, до весны как-то прокрутиться надо…» – подумал Пантя и пошел к приказчику.
– Сорок копеек, – буркнул из-за стойки человек с ли-заным пробором, не поднимая глаз от прошнурованной книги.
– Да ты хоть погляди на меня, а потом цени! – грубовато сказал Пантя. – Видишь, какая у меня шея?
Приказчик вскинул узенький лобик кверху:
– Дерзить?! Это тебе не пятый годок, господин пролетарий! Не с красной тряпкой!
– Но-но!
– Вот именно! Теперь с перцем всыпать можно!
Пантя знал, что половина рабочих разбежалась и приказчик кочевряжится зря, людишки на заводе нужны.
– Полтинник будет? – упрямо спросил он.
– А работать будешь?
– За деньги. Даром – не буду.
– Черт с тобой! Заплатим полтинник. Только никому не говори, не набивай цену. Иди в первую варницу.
Вытерпел всю зиму.
То была не работа – ад. Из-за дыма и страшного жара двери постоянно приходилось держать открытыми. На сквозняке пронимал удушающий кашель, всю грудь прошивало иглами, глаза краснели и слезились.
Весной повалил народ на заводы, как в пропасть. Запасы, видать, подошли к концу. Администратор понизил расценки. Пантя не обратил внимания, уповая на личную договоренность с приказчиком. Деньги до расчета тут наличными не платились, лавочка отоваривала по заводским талонам.
Пришел как-то свериться и ахнул: с самого начала рассчитывают по сорок копеек!
Приказчик теперь тоже чувствовал себя по-другому. У конторы толпа новых поденщиков ждала работы за любую цену.








