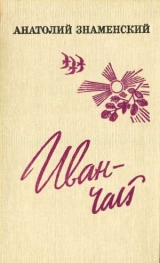
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Глыбин вдруг сел на топчане, поджав по-узбекски ноги. Казалось, его оглушили последние слова Останина.
– Сын, говоришь, в армии? И жена небось жива? – хрипло, через силу выдавил он из себя.
– Жива… – вяло подтвердил Останин.
Глыбин торопливо расстегнул ворот, заскорузлыми пальцами царапнул костлявую грудь.
– А у меня – никого. Прошлым летом всех похоронил! На моих глазах – жену и детей… Эвакуировались… Потом я в этакую глушь кинулся, как с моста в воду! Только не вышло! Нету такого места, чтобы позабыться, брат!..
Он встал и тяжело, как пьяный, пошел прикуривать. Наверно, десятую цигарку за вечер.
Иван Останин, занятый собственными воспоминаниями, для порядка вздохнул: у каждого, значит, свое горе… Зато Алешка Овчаренко удивился не на шутку. Он выскочил из-под одеяла, удивленно таращил глаза вслед Глыбину.
Какая семья, какие дети? Придумал их, что ли, Степан? Судя по его здешней славе, Глыбин не имел семьи и тем более детей. Это был старый северный бродяга, истоки его славы таились где-то в глубине нэпа, в сумеречной мгле Соловков, туманных рассветах Беломорканала.
Времени на размышления, впрочем, на Пожме почти не полагалось – к шести часам утра нужно было успеть отдохнуть, чтобы справиться с нормой на лесоповалке. Алешка отвернулся к стене, поджал усталые ноги и задремал.
В полночь он проснулся от крика.
С трудом продрав глаза, Алешка хотел было по привычке выругаться, но вовремя заметил, что потревожил спящих поселковый завхоз, человек оборотистый, с которым спорить не следовало.
– Лежебоки, черти! До чего барак довели, а? – орал завхоз вовсе не ко времени. – Когда я вас научу по-человечески жить?
– Заостряй, заостряй вопрос-то! Людям спать нужно, – прервал его Глыбин.
Костя сбавил горячность:
– Завтра днем тут уборку будут делать. Белить, клопов шпарить, барахло ваше трясти. Все утром сложите, чтобы девчонкам лишнего не таскать! Пыль выбить!
– Откуда уборщиц выписал? – поинтересовались из-за печки.
– Приехали там с буровиками две… Не видали еще? Пока бурения нет, расторопный начальник их в уборщицы определил…
Когда завхоз упомянул о девушках, Алешка сразу одолел дремоту.
– Зачем в уборщицы? – с недоумением спросил он.
– Не по тебе товар! – желчно сказал Ухов. – Уж если им отдельный номер сразу изволили дать, то тут расчет ясный!
В словах завхоза была, конечно, некая доля обидного пренебрежения в отношении самого Алешки («Не по тебе товар!»). Однако сейчас его больше задел другой, тайный смысл, касающийся, как показалось Алексею, нового начальника.
– А и трепач же ты, Константин Крохоборыч! – недовольно сплюнув, заметил Алешка. – Человек не успел еще как следует приземлиться…
– Ты-то что за начальство болеешь? Или ссучился ненароком? – сразу же вскипел завхоз. Он пустил в ход самое оскорбительное обвинение в отношении Овчаренко.
Алешка вмиг слетел с топчана. Под руки ему попался кирзовый сапог, пристроенный кем-то у печи для просушки. А Костя Ухов тоже был не трусливого десятка, и не миновать бы драки, но тут весьма ко времени из-за печи появилась волосатая физиономия Глыбина. Поддергивая исподники, Степан взял завхоза за рукав, повыше локтя, и, не торопясь, повел к выходу.
– Объявление слыхали, – сообщил он Косте. – А в эти дела ты, техническая вошь, нос не суй! А теперь рви!
Потом Степан погасил лампу и прошлепал босыми ногами к своему месту. А Овчаренко еще долго не мог уснуть, все раздумывая о вечернем разговоре стариков, о глыбинской семье.
Прибился же человек к берегу, успел схватить кусок человечьей жизни?..
* * *
Кажется, они приснились Алешке во сне – две писаные красавицы с татуировками на белых предплечьях и синими мушками на щеках, в коротеньких белых рубашечках с кружевами – девчонки что надо! Возможно, приезжие были совсем другими, но так их нарисовало непритязательное Алешкино воображение.
Во всяком случае, нужно было хотя бы посмотреть на них, завязать разговор для начала, а значит – не ходить на работу.
Утром Алексей поднялся с обвязанной головой. За ночь, оказывается, у него разболелись зубы. Об этом несчастье немедленно узнала добрая половина поселка. Алешка ныл, ругался, грел у печки свои обветренные скулы, просил каждого проходящего затянуть потуже повязку.
Когда подготовительная часть была закончена, оставалось идти в медпункт. Но поселковый медбрат мог и не поверить сетованиям сомнительного пациента, поэтому Алешка сначала завернул в барак к Мишке Синявину.
Тракторист, собираясь на работу, кроил портянки из старого байкового одеяла, ему было некогда. Но Алешка так пронзительно взглянул на него, что Синявину пришлось отложить работу.
– Кариоз… Как думаешь, пройдет? – коротко объяснив причину болезни, спросил Алешка.
– Какой кариоз?
– Ну, первая стадия зубной боли! Снаружи зуб ничего себе, целый, а житья с ним нет… Пройдет?
Мишка был человек опытный, знал и порядок медобслуживания на Крайнем Севере.
– Да ты что?! – заорал он в искреннем восхищении перед этакой детской простотой друга. – Кариоз?! А прогула не хочешь с вытекающими от Шумихина последствиями? Нет? Тогда правь к делянке с поперечной пилой о зубах толковать!
Алешка обругал его препоследними словами, потом потряс Мишкин матрац и без труда выудил из него длинную соломину – непримятый еще ржаной стебелек, пахнущий хлебной пыльцой и солнцем. Откусив зубами хрусткое коленце, он протянул соломинку Михаилу:
– Была не была, дуй!
– Да ну тя, ошалел, что ли?!
– Дуй, рогатик! Сказано, бюллетень позарез нужен!
– Ч-черт с тобой, разевай пасть…
Мишка дул осторожно и старательно. Через пять минут Алешкина физиономия перекосилась, рот уплыл в сторону, а правую щеку разнесло так, что она стала отливать баклажановым блеском.
– Хо-о-о? – косноязычно спросил Алешка, ткнув пальцем в собственную челюсть.
– Хорошо! – заржал Мишка, сплевывая после трудной работы. – Уж куда лучше, родная мать бы не узнала! Не человек, а кубышка с перекосом! – И хлопнул по плечу. – Вали, тут сам нарком здравоохранения упадет, глянув! Дня два перекантуешься – и то хлеб!
Медбрат посоветовал теплый компресс и выдал справочку. Алешка передал справочку бригадиру Каневу, а сам отправился в барак и стал ждать. Компресса он не сделал. Как только все ушли на работу, Алешка сел, пригорюнившись, у стола и начал легонько нажимать кулаком на щеку. Во рту возник холодок, воздух с комариным писком вырывался из прокола, щекотал язык и нёбо. Исцеляться было довольно приятно. Во всем этом, правда, была опасность: получить всамделишную заразу. Но, с другой стороны, что хорошего в жизни, вовсе лишенной опасностей?..
Сначала он увидел их в окно, а потом они вошли в барак и нерешительно остановились у порога, привыкая к темноте барака.
Пока девчата толклись у двери, он хорошо рассмотрел их.
Первую – крупную, мягкую, в толстом ватнике и огромных валенках, будто с плаката взятую солдатку, – Алешка вроде бы не заметил. Это случилось потому, что рядом с нею стояла другая – тоненькая, очень стройная девушка в узенькой юбке (из которой она, по-видимому, выросла) и аккуратной жакетке, перешитой из той же ватной стеганки, что полагалась всякому рабочему человеку как спецодежда. Девушка была гибкая, словно веточка, со вздернутым носиком – именно такие, уменьшительные слова пришли в голову Алешки при виде ее. На затылке у девушки держалась новенькая ушанка.
У Алексея дух захватило. Если не считать знакомства на таежной просеке с колхозной руководящей девицей, вот уже полгода он не встречался с женщинами, с той самой минуты, как завербовался на Пожму – в этот мужской малинник, где единственным представителем слабого пола была старуха, штатная уборщица.
Девчата поставили ведра у двери и стали снимать ватники. Вешалка была прибита высоко, на мужской рост, и они с трудом доставали до крючков. Алексей из своего угла смотрел с видом знатока, как они тянутся на носках, напрягая плечи и обтянутые кофточками гибкие спины.
– Может, помочь?
Они разом обернулись и только теперь заметили парня, сидевшего в дальнем углу верхом на табуретке.
– Вы не из Рязани? – приступил к делу Алексей.
– Нет, а что? – охотно отозвалась та, что была постарше, и снова Алексей будто не заметил ее, адресуясь к меньшей подружке.
– Так. При входе в порядочный дом нужно позвонить, снять калоши, если таковые имеются, поздороваться и познакомиться с хозяевами.
– У вас здесь такая темнота! И порядочного ничего не видно, темно и грязно… А вы что? Больной или дежурный? – спросила меньшая грудным, глубоким голосом.
Алексей обиделся:
– Ну вот еще! Меня оставили делегатом. Принять вас, передать пламенный привет от тысячи рогатого скота, ну, и помочь в переноске барахла, поскольку женщина существо слабое и вправе рассчитывать на наше внимание!
Ясное дело, присутствие Алешки избавляло от подноски воды и вытаскивания тяжелых топчанов. Да и как-никак оно свидетельствовало об уважении к ним здешних обитателей. Обитатели, правда, были какие-то странные, судя по их жилищу.
– И давно вы здесь страдаете? – поинтересовалась старшая.
Алексей не счел возможным продолжать разговор в такой форме.
– Как вас зовут? – спросил он, подходя к девушкам и подавая поочередно руку.
– Наташа, – чуть кокетливо блеснула зубами толстушка.
– Шура… Иванова, – строго откликнулась ее маленькая подружка.
Если бы кто мог проследить, как вяло подержал Алешка Наташину пухлую ладонь и как сильно и жадно пожал другую, смуглую ручку!
– А страдаем мы тут с незапамятных времен, – сообщил он с плохо скрытой гордостью. – В далекие архе… зойские времена господь бог, тот, что наверху, послал на землю потоп. Видать, от жары либо с пьяных глаз, а может, просто из высших соображений. Ясное дело, всем бы крышка. Но тут подвернулся лысый Ной, собрал по паре всяких тварей, посадил в ковчег и настропалился подальше от боговой программы, в открытые моря. Семь пар чистых и семь пар нечистых… После потопа выкинуло чистых на юге, с чистыми паспортами, ну а нас занесло в пределы Крайнего Севера, куда макар телят не гонял… Он обвел глазами угрюмый, закопченный барак.
– И вам здесь… не скучно? – участливо спросила Наташа. – Ведь кругом одни медведи!
– Медведи нас не выдерживают, – скромно и даже кротко пояснил Алешка. – Было в этих краях два местных, берложных, но не повезло им. Один услыхал поутру как-то: Степан Глыбин повара кроет, – схватил сотрясение мозгов и отдал богу душу. А другой под норму Шумихину попал. Вымерял его Коленчатый вал своим земным поперечником, и медведь дал тягу. Не житье, значит!
– Это кто же такой – Коленчатый вал?
– Наш старший десятник. Приводной дегенератор всей здешней карусели!
Девушки, ничего не понимая, молчали и этим поощряли Алешкину болтовню.
– А насчет скуки – верно, было скучно до чертиков. Но как только вы приехали, словно кто в душу горчичного масла налил, ей-богу!
– Этак вот вы, наверное, всем говорите… – простодушно сказала Наташа.
А Шура насмешливо глянула на свою подружку и мельком на Алешку, потом взяла швабру и ушла в дальний угол. Оттуда заметила:
– Тебя, парень, видать, не переслушаешь до вечера, а нам нужно успеть к приходу бригад… Ну-ка, шевельнись!
Алексей взялся выносить топчаны. За водой ему выходить было опасно – колодец находился около медпункта. Ведрами вооружилась Наташа. Подмигнув подружке, она громыхнула в тесном тамбуре и умчалась по воду.
Шура же собрала большой узел одежды и хотела вынести, но Алексей предусмотрительно оказался рядом:
– Тяжело, постой-ка! – и перехватил вещи из ее рук. – Давай вынесу!
Около Шуры он вдруг ощутил непривычное волнение. И стоял рядом затаив дыхание, словно вспоминал что-то страшно дорогое, потерянное давным-давно.
Шура вопросительно посмотрела на него, и он не выдержал ее прямого, дерзкого взгляда. Куда-то провалилась недавняя лихость и нахрапистая решимость Алешки.
– Что-то вы… невозможно серьезная, Шура! – немного растерянно и тихо сказал он таким тоном, будто хотел закричать совсем другое: «Не бойся, не смотри на меня так своими окаянными, острыми глазищами!»
– Я обычная, – скучая, ответила она.
– Девчонка, пускай самая умная, должна быть веселой, – не очень кстати заявил он.
Она только усмехнулась в ответ.
– Эх!.. – Алешка не выдержал поединка. Боясь нагрубить, он с обидой взглянул в ее равнодушное лицо и, взвалив узел на плечо, ринулся в дверь.
Видно, сегодня он понапрасну претерпел хирургическую операцию, и день в самом деле получился длинный и пустой, как одиночная камера…
* * *
А день был беспокойный, на редкость плотный. Бригада Канева валила лес, расчищала площадь под буровую. Шумихин стоял над душой, не давая отдыха. «Подготовительный период кончился! – кричал он. – Теперь буровики на плечах, знай поворачивайся!»
Еще из поселка Николай услышал ряд отрывистых, быстро чередующихся взрывов – рвали мерзлоту под фундамент буровой. Взрывы напомнили Николаю артиллерийские залпы, зиму прошлого года под Москвой. Стало тревожно. Он торопливо и широко зашагал к Пожме.
Половина участка была уже вырублена. В разных концах снежной поляны полыхали огромные костры. А рядом росли новые вороха зеленого лапника, валежа и мерзлой дернины. Их запаливали берестяными факелами. Огонь воровато перескакивал с ветки на ветку; бессильно моргнув где-то под торфяным комом, вдруг с неожиданной прытью взвился тонким языком вверх. Достав бородатый еловый лишайник, обрубок сухой березы, сразу набирался силы, с воем и треском охватывая кучу со всех сторон.
Утоптанный снег круговинами проталин отступает от костров, сочится мутной водой. Вокруг треск и сотрясение от падающих деревьев, горечь паленой хвои, запах талого снега. И все заволакивает густой дым.
По снегу, запорошенному взрывами, разбежались дощатые трапы – Шумихин налаживал здесь тачки, чтобы отвозить взорванный грунт.
Работа кипела вокруг, а у десятника было не то что хмурое, но прямо-таки взбешенное лицо.
Николай внимательно оглядел площадку.
– Что стряслось, Семен Захарыч? – спросил он Шумихина.
– А ничего, в общем, – хмуро ответил десятник. – Глыбин в печенках! Взял, черта, себе на шею вчера, а он как раз приготовился в отпуск. Вон, сидит у костра!
Недалеко от Шумихина горбился у костра рослый мужик, блаженно полуприкрыв глаза и растопырив клешнятые пятерни над догорающими углями.
– Отдыхает? – простодушно полюбопытствовал Николай.
– Кой черт отдыхает! С самого утра поднять не могу! «Не желаю, – говорит, – вертеться вокруг собственной оси на холостом ходу!»
– На каком?
– Жратвы мало… Не хочет мириться с военным положением!
Николай подошел к Глыбину, окликнул его. Тот не спеша, лениво открыл глаза, малость отодвинулся от костра, но не встал. Во всей его фигуре, в небрежной позе чувствовалось глубокое безразличие, даже презрение к тому, что делалось вокруг, к людям, суетящимся на делянке. Казалось, он один знал что-то страшно важное, какую-то неоспоримую житейскую суть, не доступную никому более.
– Ну что ж, познакомимся, Глыбин? – миролюбиво сказал Николай, присаживаясь к костру.
– Если не шутишь, начальник, – равнодушно кивнул тот в ответ.
– Какие уж тут шутки! – усмехнулся Николай. – Все дело провалим, если шутить начнем… Почему не работаешь, Глыбин?
– Устал. Никак дух не переведу, не видите?
– Это с утра-то?
– Не с утра, а прямо-таки с детства душа перепалась с натуги… Можете понять или такое до вашего брата не доходит?
Было что-то серьезное в том, что говорил этот небритый, колючий детина.
– Психологию нам, Глыбин, некогда разводить, – враг-то у ворот! Слыхал? – ощутив некую внутреннюю слабость, нарочито жестко сказал Николай.
– Война? – недоверчиво покосился Глыбин. – Война – она далеко больно. С нами не советовались ни перед войной, ни после, так и нечего ее поминать. Мы люди сторонние, мараные, беспорядочные. У нас одна душа за душой осталась.
– Какая у тебя специальность? – постарался Николай переменить разговор.
– Специальность известная: семеро навалят – один тащи!
Тут уж не выдержал Шумихин:
– Какой семеро! Да ты, дьявол, и за одного раз в неделю таскаешь! Возгордился медвежьей профессией! Я вот нынче сготовлю матерьял за саботаж, а тогда поглядим, как ты запоешь по военному времени! Сейчас поднимайся и берись за топор – последнее мое слово!
Глыбин и тут не пошевелился. Лишь отвел глаза в сторону, невнятно забормотал что-то.
Николай плюнул с досады, встал и пошел через вырубки к лесу.
…Огромная одинокая лиственница, дрогнув от маковки до корня, вдруг качнула вершиной, словно буйной головой, неуверенно подалась в сторону, как бы испытывая прочность пня, и потом сразу с грозным шумом понеслась вниз, рухнула в заросли, коверкая молодняк и сухостой. Раздался треск, тучей взлетели обломки сушняка. Задрожала земля.
– Эх, кр-расиво упала! – воскликнул в кустах молодой звонкий голос.
Лиственницу завалил Канев. Что верно, то верно, умел человек обращаться с деревом!
Николай впервые увидел настоящего, потомственного лесоруба в деле и подивился, как эта тяжелая работа удивительно спорится у него в руках и со стороны кажется даже легкой, веселой.
Канев, кряжистый и низкорослый карел, был неутомим, как машина. Обходя вокруг дерева, он шутя-играя разбрасывал огромными валенками снег до самой земли, до седой губки мха и закостеневшей от морозов зелени брусничника. Потом, опершись коленом о ствол, перегибался, обнимая дерево, и легонько прикасался жалом лучковой пилы к бурой, потрескавшейся коре.
Запил слева, подруб топором, запил справа, повыше… Веером летят щепки, белая, сахаристая древесина, быстрое движение рук и плеч, звон пилы – и дерево легко подается в сторону, стремительно с глухим стоном несется к земле. Через несколько минут вторая сосна ложится «в елку» на первую, скрестившись вершинами. И третья летит кроной, к двум первым, ударяется серединой об их стволы и, вздрогнув, замирает. А человек идет дальше. За ним двое едва поспевают обрубать ветви и сбрасывать их в кучи. А вслед им снова звенит пила. Подсобник Канева Ванюшка Серегин кряжует сосны на деловые бревна.
Канев помог своему подручному разделать хлысты, заметил:
– Это дело такое… Главное – любить его надо! Не гляди, что тяжеловато, – обвыкнешь. Без любви, брат, лаптя не сплетешь…
Он коротко взмахнул топором, и на месте сучка блеснул свежий, чистый стес.
– Гляди, какой сучок аккуратный! Глазу хорошо глядеть. А пенек? Вот на него теперь можно сесть и закурить…
Словно почуя издали запах махорки, на перекур вышел из ельника Иван Останин. Старая телогрейка болталась на нем, длинная шея обмотана грязным полотенцем. Канев насыпал ему на завертку, занялся кресалом. Трудясь над заверткой, Останин так и этак оглядывал навороченные кряжи. Кивнул на каневского подручного:
– Чего ты с ним время проводишь? Пока втолкуешь этую мудрость, запросто куб нарежешь в одиночку. А ему что? Придет время – сам узнает, как доставать хлебную горбушку с еловой вершины по глубокому снегу!
Канев с удовольствием затянулся крепачком, спокойно возразил:
– Ничего, поднатужусь к вечеру и допилю этот куб, будь он неладен! А новому человеку-то как не показать настоящую сноровку! Он потом, может, больше моего осилит, – значит, в общем масштабе кубиков прибавится.
– Эва! Идейные, значитца! – беззлобно усмехнулся Останин и не торопясь стал прикуривать от каневской цигарки. – А я, брат, не дорос еще.
Он простудно закашлялся, отошел в сторонку.
– Погоним дальше? – отдав окурок подсобнику, спросил Канев.
Останин подозрительно глянул в сторону начальника, остановившегося недалеко от них, уклончиво пробурчал свое:
– Хм… У меня уже почти сто двадцать процентов намотало… Добьем, ладно…
Когда Николай возвратился на вырубки, на глаза ему снова попался Глыбин, по-прежнему сидевший у костра. Шумихин, не обращая на него внимания, пробежал мимо.
– Я – за трактором! К вечеру брусья будем затаскивать!
– Что, уже уложили пакеты?
– Соберем, как часы! Все заготовлено!
– Вот здорово, Семен Захарыч! – сказал Николай. – А вот позабыл я вчера спросить: как у нас тут с агитацией? Попросту – с разъяснением всей обстановки и значения северной нефти в войне.
– Как с агитацией?.. – Шумихин замялся, ткнул своей палкой в снег, как бы отыскивая точку опоры. – На этот случай у нас сама жизнь здорово агитирует! Здесь поблизости железная дорога на Север проходит. В декабре здоровый снег валил, путейцы с заносами не справились, нам пришло предписание со всеми строгостями – очистить! Многие, конечно, волынили поперву. А потом, как пропустили два состава угля из Воркуты на Ленинград, разом поумнели, черти! Даром что до железной дороги без малого двадцать километров пехом двигали!
Николай кивнул в сторону Глыбина:
– А с ним как же?
Шумихин яростно выругался, завертелся вокруг костыля.
– А этого давно расстрелять пора! Я не знаю, что Советская власть терпит их до сего времени! Г-гады!
– Расстрелять?! – удивился Николай.
– Парочку шлепнуть, как при кулацком саботаже, – сразу толк будет. А то есть еще, к примеру, такой Иван Сидорыч Останин… Встречали? Двуличный, сволочь! «Видишь, – говорит, – если я прыгать с выработкой буду, то могу загнать себя, как дурной хозяин лошадь. А мне и конец войны, мол, поглядеть хочется!» – Шумихин с трудом перевел дух, облизал пересохшие губы. – Конец ему хочется! А какой конец – это еще вопрос!
Николая прямо-таки пугала какая-то внутренняя ярость Шумихина.
– Ты на что намекаешь, Семен Захарыч? – вдруг спросил Николай, уставившись в глаза десятника. – О чем ты?
– Понятно о чем… Что с него спросишь! Кулак!
– Он что, сам тебе так говорил?
– Эх, сказали! Сам!.. А нутро мне для чего? Партийное нутро! Я с ними чуть не с тридцатого года воюю, знаю, кто чем дышит! Только поднеси спичку – все в распыл пойдет!
– Да что ты? И где доказательства? Ведь этак на всякого можно пальцем показать! На тебя, на меня… Неужели не понимаешь?
Шумихин колко засмеялся:
– Ну, на меня вряд ли кто покажет! Я их на Кубани в тридцатом году давил, как гадов, и теперь не дам пощады! Вот она у меня где, пуля кулацкая, пощупайте! – Он задрал голову, показал на острый, беспокойно прокатившийся кадык. – И ногу тоже. Колом перебил один контрик…
– Да-а… – вздохнул Николай. – Значит, с тридцатого года? Дело давнее… Как на Севере-то очутился, Семен Захарыч?
Шумихин насупился, минуту молчал, потом неохотно пояснил причину:
– За перегибы. После «головокружения» исключили из партии, сняли с районной должности и направили сюда – комендантом кулацкой высылки. На исправление. Это уже после Конституции, как ликвидировали кулачество и всякие ссылки, я в десятники пошел… Сейчас заново в кандидаты партии приняли, подал заявление в день объявления войны! Я знаю, когда верные люди Советской власти нужны бывают!
Николай угостил Шумихина папиросой, а потом спросил с пытливой усмешкой:
– Конституция ведь не отменялась, зачем ты о кулаках заново подымаешь речь?
Шумихин болезненно сморщился, отступил шаг назад.
– Вы, Николай Алексеич, не обижайтесь… Я вам верю и ценю как инженера, я бы тут ни за что не потянул дела с буровиками, потому – в технике ни в зуб ногой… Но что касаемо политики, то скажу: близорукость проявляете. Как же это, социальное происхождение, значит, побоку? А в анкетах тогда зачем требуют это писать? А? Не-ет, Николай Алексеич, это вы мягкотелость проявляете, и до хорошего она не доведет. Верьте слову!
– Насчет расстрела – не согласен, – сухо возразил Николай.
– Не знаю, – сказал десятник. – Глыбина беседами и лекциями не пробьешь. Это точно. Я с ним пятый месяц бьюсь, и… сами видите! Телеграфному столбу оспу прививать бесполезно!
– А он тоже кулацкого семени?
– Перекати-поле. В прошлом.
– А в настоящем?
– Лодырь и саботажник.
– Таких социальных категорий нет даже в анкетах. Вопрос другой: почему он лодырь?
– Это вы у него спросите, – начал накаляться десятник, – я за него не буду отвечать!
Николай задумчиво посмотрел в желчное, морщинистое лицо Шумихина, сказал тихо, но внятно:
– Должны мы с вами отвечать за всех этих людей, Семен Захарыч. И… без расстрелов! Идите за трактором, мне к Опарину пора. Посмотрю, как строят мост через Пожму…
Они разошлись в разные стороны, недовольные друг другом.
* * *
Разговор с Шурой у Алексея так и не получился. Скоро пришла Наташа с водой и вовсе испортила ему настроение.
Девушки мыли стены, скребли пол и обливали кипятком щели, а он, сгорбившись, сидел в углу на табуретке и молча наблюдал за ними. По складу своего характера Лешка должен был говорить, делать замечания, смешить девчат или сам смеяться над ними. Но сейчас такая развязность почему-то казалась ему неуместной.
Положительно эта тонкая, скупая на улыбку девчушка в простеньком ситцевом платье и меховой, расшитой цветными узорами безрукавке была хороша.
А главное (наверное, у нее еж вместо сердца!) – она ни разу даже не взглянула на него. Работала, время от времени напевая песенку «Веселый ветер…».
Он с трудом дождался прихода бригады, снова обвязался полотенцем и пошел в столовую обедать.
За длинными серыми столами – толкотня и шум: если не считать делянки, здесь – самое людное место.
– Ну как нынче лучковка? – кричал кому-то инструментальщик, ожидая похвалы. Его чаще других ругают лесорубы, и сейчас ему хочется услышать похвалу всенародно: недаром же он не спал ночь и направил все пилы. – Лучок каков, спрашиваю?!
– Знатный, ничего не скажешь, – тоном судьи одобрил сидевший поблизости Останин. – Словно масло, а не сосну резал!
– Сколько отхватил?
– Сто двадцать процентов.
– Ого, брат, наша бригада гремела и будет греметь!..
– …котелками около кухни! – с сердцем добавил Овчаренко, не находя себе места из-за пропавшего дня. Он положил повязку в карман и, сунувшись к бачку со щами, вдруг хватил ложкой по краю котелка. – Повара! Самару сюда!
Из-за приоткрытой двери высунулась лоснящаяся физиономия в сером, застиранном колпаке. Непонимающе заморгала безбровыми глазами.
– Ну чего вылупился, как пьяный на милиционера? – заорал на него Овчаренко. – Опять крупина за крупиной гоняется с дубиной?! А масло куда девал?!
Повар Яшка Самара, безбровый, с бабьим лицом мужчина лет сорока, по прозвищу «тетя Яша», приоткрыл дверь.
– Чего орешь? – набрался он смелости. – Надо работать, а не кантоваться в бараке! Тогда все будет вкусным!
Когда он успел узнать, что Алешка не ходил на работу? Впрочем, этот народ всегда знает, чем занимаются другие…
– Масло, масло куда девал, спрашиваю?!
– Все точно, согласно раскладке…
– Знаем мы эти раскладки! – ища сочувствия у соседей, бушевал Алексей. – Раскладка по своим карманам! Не пойму, куда порядочные люди смотрят, – давно пора вывести на чистую воду!..
У крайней двери стало что-то очень тихо. Но Алешка не обратил на это внимания, продолжал кричать. И тут на его плечо опустилась чья-то рука.
– Чего кричишь?
Алешка повернулся. Перед ним стоял, улыбаясь, парень из гостиницы, нынешний начальник.
– В чем дело, Овчаренко? – спросил Горбачев.
– А вот не хотите ли откушать флотский суп под названием «а море синее стонало и шумело»? Или, может, кашки хотите? Называется «страдающее брюхо, на радость Косте Ухову»…
– Разберемся, потерпи малость… Так ты, значит, не пробился через военкомат?
– Куда-а там! – махнул рукой Алешка. – Только вошел в кабинет – гляжу, сидит… товарищ Волк! Ну, я повернул оглобли – и сюда. А вы тут? Здо́рово!
– Да уж не знаю, здо́рово ли, а так вот получилось… Ну ладно, заходи ко мне, если дело будет.
Николай прошел в кухню, люди с удивлением посмотрели на Алешку, потом обратились к раздаточному окну. То, что происходило у котлов, касалось их больше всего…
Пищевой блок на таких стойках, эвакопунктах и всяческих пересылках – самое больное место. На первых порах, пока руководители теряют сон и покой из-за нехватки жилья, гвоздей, досок и умелых рук, к хозяйственным постам неведомо как со всех сторон присасываются какие-то «специалисты по снабжению», темные дельцы, не имеющие понятия о товароведении, но зато ловко умеющие достать, перебросить, обмишулить и выкрутиться с набитым карманом. Трудно сказать, чем они больше заняты – обеспечением предприятия или постоянными махинациями по запутыванию концов. И сколько ни кричи Овчаренко, для него заранее приготовлен резонный, хорошо продуманный ответ: «Работать надо! Теперь война! На фронте трудно, а здесь – и бог велел! Затруднения!..»
Николай оглядел кухню, подумал и приказал позвать Золотова.
– Считаем, что его избрали общественным контролером, – сказал он.
Золотов обнаружил в моечной неразделанное мясо, а в холодной духовке одного из очагов две банки свиной тушенки. Составили акт.
– Если через три дня не будет порядка, выгоню в лес, на повал, – сказал Николай Самаре. – Что касается этого… направим акт по инстанции. Пусть расследуют. Продукты завтра же пустите в котел сверх пайка, в присутствии товарища Золотова. Вам все ясно?
Разговор был хорошо услышан за столами. Алешка тихо положил ложку и значительно обвел всех глазами:
– Видали?
А Иван Останин мрачно заметил:
– Эта метла с нужного края начинает. Поглядим, как оно пойдет дальше.
* * *
Поздней ночью в каморку завхоза при складе дефицитных продуктов вломились Яшка Самара и счетовод хозчасти Сучков. Костя Ухов лежал по привычке под полушубком, ждал, пока принесут что-нибудь с кухни На ужин. Но повар пришел с пустыми руками.
– Горим! – от самого порога с тревогой сообщил счетовод и подтолкнул Яшку вперед, к свету, на суд Ухова.
– Знаю, – спокойно сказал завхоз и поправил фитиль лампы, пристроенной на бочке с сахаром. – Знаю… Вопрос, как говорят, требует длительного изучения. Вообще-то придирки этого чистоплюя с дипломом нельзя принимать всерьез, поскольку пиковое положение с витаминами естественно. Мы тут помочь ничем не можем. Но все же нынешний акт нежелательная штука и внушает мне опасения. Придется смазать кое-какие винты и гайки в ОРСе, иначе возможны самые грустные последствия…
Костя многозначительно посмотрел в сторону повара.
– И откуда его принесло на нашу голову?! – со злобой воскликнул Самара. – При Шумихине совсем иное дело было, прямо лафа! Старый хрыч все политикой мозги сушил, орал до хрипоты, а вовнутрь не лез. А этот прямо хватает за грудки и щупает, нет ли у тебя чего-нибудь за пазухой.
– Так он же из колхозников! – с чувством безнадежности разъяснил повару Сучков. – Это тебе не городской интеллигент! Мужик, в принципе, это стра-а-ашная вещь! – И поднял сухонький палец. – Да и, к слову, Шумихина Константин Пантелеймонович неплохо подкармливал. А этого не привадишь.
Ухов с пренебрежением оглядел спорщиков. Ну что о них скажешь хорошего? Помощники у него были неталантливые люди. Самара давно не мыслил своего существования без него, вездесущего Кости. Сучков же вовсе не заслуживал никакого уважения. Он списывал в отчетах все, что приказывали Ухов и Самара, а пользовался только тем, что давали они. Хилый и облезлый человек неопределенного возраста. Жизнь когда-то сильно напугала его, и он навсегда сохранил в глазах заячий трепет, готовность услужить сильному. Его и держали-то на хлебной должности только по протекции Кости.








