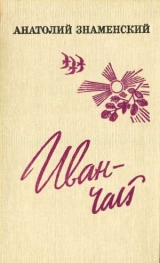
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
– Со вчерашнего дня, понимаешь, ничего не жевал… Всю дорогу пробавлялся в охотничьих избушках. Это у вас здорово заведено – оставлять припас бродячему человеку. Люблю зырян, хороший народ! Только вот Прокушев сволочь. А ружье ты правильно не дал. Он, дьявол, не хочет, чтобы народ тут пищу себе промышлял! Остальные послушались, сдали. Слабоваты!
– А ты бы не отдал?
– Еще чего! Такая штука может крепко пригодиться…
Яков отломил парню еще кусок. Тот утомленно разжевывал корку, причмокивая языком.
– Спасибо, брат, – уже без шутовства, вставая с земли, сказал он. – Живым отсюда сплавлюсь – передачу тебе из Крыма пришлю. Понял?
Яков засмеялся. Он не знал, о каком Крыме шла речь, но слово показалось сказочно заманчивым, духовитым, как медовый пряник.
Они спустились вниз. Моховое болото, как губка, было напитано водой. Ноги чуть не по колено утопали в подушке сфагнума и тотчас же заливались водой. Старые тобоки Якова промокли, холод заковал ступни в лубяные колодки. Надо было выжать из себя седьмой пот, чтобы продержаться до вечера, и Яков с жаром взялся за топор.
– Эк дурни! – вдруг сказал Фомка и, подмяв под себя куст, стал разуваться, – Брось-ка, парень, давай босиком! Обувку к ночи надо сухой держать, а то околеть можно.
Яков не понял.
– Разувайся, говорю! Я сейчас уйду за версту вперед, подсушу на огне, не то целую ночь придется терпеть с мокрыми ногами.
– А рубка? Заметит Прокушев, что тебя нету…
– Ну и черт с ним! Поденка у него, пускай замечает. А заездить себя не дам.
Яков разулся. Фомка жалостно оглядел его дырявый тобок, покачал головой:
– Однако небогато живешь… И все у вас так? Точно как в России. Вот гляжу и думаю: отчего это честная работа кровяные волдыри на руки дарит, а обувка вдрызг разваливается, а? Не знаешь?
Яков поглядел на озорного бродягу, промолчал.
– И я, брат, не знаю… Передавить бы кое-кого следовало, да все времени нет… Ну, пошел я. Костер разведу.
Было холодно. Здесь, где-то на аршинной глубине, таился зимний лед, укрытый торфяниками. Обжигающая мутная вода пузырилась, проступая между пальцами. Зато впереди мерещилось привычное меховое тепло, и Яков крушил топором под корень тонкий, дрожащий березняк. Рядом старались незнакомые хмурые бородачи, изредка вытирая вспотевшие лбы.
Пасмурный день не торопясь подвигался к обеду.
Наконец первая верста осталась позади волнистой зеленой дорожкой, а на сухом бугорке замаячил огонек Фомкиного костра. Рубщики торопились разуться, протягивали раскисшую обувку на жердочках к огню. Кто-то пристраивал уже рогульки для подвески котла.
Фомка сидел на корточках, склонив голову набок, словно лесная птица.
– Эх, хорошо огонь горит, ярко пылает… Сало было б – пышка пек, самый главный – мука нет! – скосноязычил он татарскую поговорку.
Яков пристроился ближе к огню.
Тем временем у костра остановилась лошаденка, впряженная в волокушу – две оглобли с загнутыми позади комельками и перекладиной. На волокуше лежал бочонок, а вожжи держал в руках сам Прокушев.
– Рановато сушитесь! – прикрикнул он. – Гатить придется болото, жердевой настил мостить. Я вот вам мясца привез, чтобы не окоченели ненароком. Принимайте!
Десяток рук протянулись к бочонку. Верхний обруч покатился в траву, носок топора сноровисто поддел донышко. Смрадно потянуло тухлым.
– С душком солонинка, хозяин? – спросил вскочивший было Фомка и снова разочарованно сел к огню.
– А ты помолчи. Помолчи, Хорь!
– Дак тухлятина ж, вступился за Фомку бородатый.
– Ничто! Печорский засол. Промыть малость надо…
Из болотной канавки зачерпнули воды. Котел колыхнулся над красными языками огня. Солонина пошла в ход.
– Сами знаете, путь сюда немал. Человек и тот в длинной дороге вонять начинает, не то что провиант, – сочувствующе пояснил Прокушев. – К деревне выйдем – тогда легче будет.
Потом осмотрел из конца в конец лохматую, в зеленых ягодниках просеку, напомнил:
– Так глядите, дальше не идти. Будем стелить гать…
Сорокина обуревали сомнения. Деятельность фирмы, его собственные поступки не оправдывались при самом простейшем анализе.
Что, собственно, хотел получить патрон в результате своих не совсем понятных действий? Отвоевать львиную долю нефтеносных земель? Но эта цель не могла не казаться призрачной, так как отвоевывать, по существу, было не у кого и нечего. Столбопромышленники жили в самых различных концах России, а их доверенные на Ухте не входили в сделки. Гансберг, Воронов, Альбертини и инженер Бацевич не желали расставаться с участками. Десятки заявок, перекупленных Федором, не меняли дела.
Может быть, Трейлинг стремился помешать Гансбергу в бурении или вовлечь его в свое предприятие? Но, пока никакого живого дела не было, Гансберг не хотел и не мог вступать в какой-либо серьезный разговор даже и с громкой фирмой. Альбертини? Воронов?..
После разговора с Гариным Федор снова направился к отставному штабс-капитану. Его промысел возвышался на берегу речонки Яреги, верстах в трех от Сидоровской избы. Место было топкое и неприглядное. Угрюмые дощатые бараки не красили вида, а бурная в половодье речка уже основательно подмыла берег под неряшливо срубленной вышкой.
На промысле никто не работал. Глушь и запустение свидетельствовали о неблагополучии на вороновском предприятии.
– Ну, как себя чувствует гражданин города Риги? – без тени уныния спросил Федора Воронов – тяжеловатый, подтянутый, чисто выбритый человек лет пятидесяти с большими, лошадиными зубами. – Давненько я не имел удовольствия лицезреть его очаровательной супруги…
– Между прочим, кто эта женщина? – поддался любопытству Сорокин. – Пикантная особа!
– О, тут целая история! – с живостью, смакуя слова, заговорил штабс-капитан, – Парижская шансонетка из немок, мамзель Лулу вешается на шею Александру Георгиевичу и прямо с Елисейских полей отправляется в тайгу кормить комаров, а?
– Любовь? – поддавшись нечистой горячности Воронова, с едва заметной иронией спросил Сорокин.
– Все может быть… Но я расцениваю сей случай как самое благоприятное предзнаменование для Ухты!
Федор позволил себе снисходительную улыбку.
– Да, да! – с жаром воскликнул Воронов. – Именно! Когда на Ухту летят сломя голову сто предпринимателей, это еще ни о чем не говорит. Это обычная суета сует вокруг шкуры неубитого медведя. Но когда здесь появляется первая ласточка в оперении мамзель Лулу, можно сказать наверняка – пахнет миллионами!
Помолчали. Сорокин думал о судьбе Ухты и своем собственном неустройстве. Воронов закурил папироску и бесцельно смотрел в мутное окно. В раскрытую форточку было слышно недалекое кукованье.
Федор стал считать – оборвалось на тринадцати. Он успокоил себя тем, что запоздал начать счет. Потом равнодушно задавил каблуком окурок, взглянул на штабс-капитана.
– А вы, значит, твердо решили прекратить дело?
– Почти. Деньги подошли к концу, впереди никакого просвета…
Воронов снова напомнил о хищении бурильной коронки с алмазами, что обошлась ему в двенадцать тысяч, о бездорожье и геологической неясности.
– Мой патрон просил переговорить с вами о возможности кооперирования, – напомнил Сорокин, хотя имел уже по этому поводу с Вороновым краткую беседу. – Он полагает, что мог бы дать вам некоторое подкрепление в средствах. Ему, в свою очередь, выгодно было бы иметь первую опорную базу – ваше предприятие. Контрольный пакет акций, несомненно, остается за вами.
Воронов сдержал усмешку. Старый воробей, очевидно, догадался, что и патрон Сорокина, и он сам, Воронов, кажется, служат одному хозяину.
– Нет, моя песенка спета. Больше рисковать не могу. Не имею права.
– Я вас не понимаю! – с жаром воскликнул Федор. – Не можете же вы махнуть рукой на свои сто тысяч, вложенные в промысел! Да и тех лет жизни, что вы отдали Ухте, вам никто не вернет… Как раз теперь и наступает благоприятная пора развернуться. Земская дорога к зиме будет готова, путь сюда сократится необычайно. Миллионы, о которых вы упомянули шутки ради, могут стать реальностью!
– Не станут, – с какой-то загадочной убежденностью изрек Воронов. – Даже такие подвижники, как инженер Гансберг, вряд ли осилят противодействие обстоятельств. Вы слышали, рабочие Гансберга подали на него в Архангельск иск за неуплату жалованья?
Сорокин удивленно молчал.
– Между прочим, кто строит дорогу? – продолжал Воронов. – Говорят, подряд отдан этому зырянскому маклаку Козлову?
– Я слышал, что подряд поделили между Козловым и каким-то дорожным техником из Вологды.
– Парадысским?! – вскричал штабс-капитан, резко повернувшись на каблуках, – Этакой канальей?!
– Будто бы сам губернатор…
– Ну, этот вымостит дорожку! Покорнейше благодарю! Он, негодяй, даже проигрыша не считает нужным заплатить, а вы сказали – дорога к зиме будет готова! Она не будет готова и через двести лет!
Деловой беседы не получилось и на этот раз. Как только Федор возвращался к разговору о цели своего прихода, Воронов становился непроницаем, как стена.
Сорокин раскланялся.
Выйдя из барачной пристройки Воронова, он рассеянно приблизился к берегу и долго стоял над рекой, бесцельно провожая взглядом убегающую в неведомую даль мелкую рябь волн. Делать здесь больше было нечего. Возвращение в Усть-Сысольск тоже ничего не сулило, так как прогнозы фон Трейлинга не оправдались даже наполовину.
«Придется известить патрона телеграммой из Усть-Ухты о делах Гансберга. Может быть, последние новости ему пригодятся. А потом…»
Оставалось на всякий случай переоформить сделанные заявки на свое имя или же искать нового, более предприимчивого хозяина.
Можно было подумать, что Вологду посетил неподкупный, придирчивый ревизор. Изрядный шторм разыгрался в тихом омуте губернской земской управы. Люди потеряли сон и покой. Воду взмутил Станислав Парадысский.
Оказалось, что в течение двух месяцев, пока он героически прокладывал на благо вологодского земства и всей остальной России дорогу к заповедным сокровищам, никто не посчитал нужным оказать ему хотя бы моральную поддержку, помочь словом и делом. Земские деятели готовы были разделить славу строителя новых путей, но по беспечности своей или же в силу зависти лишь чинили помехи в его многотрудных делах. Никто не ездил в Половники, никто не инспектировал строительства, никто не доставил потребные инструменты и провиант на место рубки. Все это явствовало из его же собственных слов.
Станислав, оказывается, вынужден был поиздержать личные деньги ради процветания Ухты. Правда, он не представил никаких счетов в подтверждение своих издержек, но ведь это не имело никакого значения. Рубка была закончена, и сам факт говорил за себя.
Председатель растерянно разводил руками. Губернский секретарь Веретенников спрятался в собственном доме и носа не казал, интересуясь лишь одним: дойдет ли вся эта история до губернатора? Граф мог круто спросить с земцев за такое бездушное отношение к важнейшему государственному делу.
– Везет проходимцу! И за что везет? Разве потому, что у него полированные ногти? – подыхал от зависти Веретенников. – Сорвет куш, негодяй! А ты… годами корпишь над бумагами, и хоть бы тебе четвертную выхватить ради престольного праздника!
Председатель все же счел нужным подробно ознакомиться с результатами строительства, для чего дважды прочитал докладную Парадысского. Оказалось, что работы еще далеко не закончены. Нет мостов на переправах, не срыты крутые спуски и подъемы, не уложены гати по болотам. Но так или иначе, деньги надо было платить…
– Сколько? – желая разом утихомирить бурю, спросил он Парадысского, бережно вкладывая бумагу в портфель.
Ответ у Станислава был приготовлен заранее.
– Восемь тысяч!
Глаза председателя едва не вылезли из орбит.
– Восемь?!
– Шесть – по смете и две – мои, на провиант и снаряжение рубщиков.
Выкладки Парадысского были коротки и тверды, как удары кувалды.
– Хорошо. Две тысячи мы вам возместим безотлагательно. А что касается сметных расходов – придется проверить. Денька через два…
Инженер Кашкин и губернский ревизор Межаков-Каютов на следующее утро пытались доказать, что стоимость рубки никак не могла превысить трех тысяч рублей, но один слабый намек Парадысского на возможное вмешательство в их подсчеты губернатора графа Хвостова заставил их принять во внимание все возможные затруднения в деле. Сошлись на четырех тысячах шестистах.
Буря утихла, пыль улеглась.
Станислав купил ящик коньяку, погрузился в земский шарабан и, не теряя времени, отбыл к месту работ. Он до сих пор побаивался встречи с Ириной.
При выезде из города под экипажем неожиданно проломился мостик на какой-то грязной канаве. Пока подоспевшие мужики выручали груженый возок, Парадысский вдоволь насулил чертей нынешнему дорожному инспектору, имея в виду, что этот нынешний, вне всяких сомнений, бездельник и взяточник.
Лишь дождавшись отъезда производителя работ, председатель управы рискнул сделать доклад губернатору о ходе рубки. Наглая прямолинейность Парадысского прямо-таки бесила председателя, и он собирался, кажется, тоненько намекнуть на неблаговидное поведение их общего избранника. Это нужно было сделать хотя бы во имя высших моральных принципов… Но едва рука председателя коснулась знакомой двери, обитой черной клеенкой, всякая охота доказывать очевидные истины и добиваться справедливости по привычке уступила место благоразумию, больные мысли успокоились.
Странное дело, прекрасно разбираясь в жизни, умея здраво расценить не только сами явления, но и их предпосылки, предвидя даже тягчайшие последствия собственного невмешательства в жизнь, председатель управы всякий раз решался ударить тревогу, доложить по инстанции, в конце концов выправить дело, но стоило ему достичь этой «высшей инстанции», как его руки опускались, пристрастная честность патриота вдруг представлялась опасным кощунством, а язык будто бы сам по себе начинал одну за другой выговаривать обтекаемые фразы о всеобщем благополучии и животворящей силе самого монархического устройства. Отдельные огорчительные факты теряли здесь свое значение.
«Высшая инстанция» всегда излучала некий венчик солнечного самодовольного благополучия и с молчаливой благосклонностью принимала к обозрению лишь светлые стороны бытия. Пороки и неустройства не имели права покидать низменных трущоб жизни, где они возникали.
Даже во времена жесточайшей холеры, когда вымирали целые деревни, председатель умел так направить разговор, чтобы касаться только живых, подчеркивая похвальную готовность земства к чрезвычайным мерам, в том числе и к своевременному захоронению некоторой части пострадавшего населения…
К чему было рисковать откровенной статистикой фактов? Через десять – пятнадцать лет русские бабы, не отрываясь от сенокоса и жатвы, воспроизведут недостающее число пахарей и новобранцев, жизнь до нового мора войдет в положенную колею, и никто даже не составит себе труда подсчитать издержки эпохи. А одной неосторожной информацией можно серьезно испортить собственное положение и даже карьеру деток…
Так председатель поступил и в настоящем случае.
Его сиятельство граф Хвостов остались весьма довольны ходом строительства ухтинского зимника, которое имело, как он указывал, общегосударственное значение.
14. Когда не спят
люди
– Кар-раул!
– Спасайся!
Огромный, линялый, весь в клочьях свалявшейся шерсти, по-вешнему злой медведь, поднявшись из-под разлапистой сосны, шел прямо на вырубку, разинув пасть и потрясая округу страшным ревом. Жидкая голодная слюна струилась через клыки. Трещал валежник. Зверь тяжело дышал и, почуяв небывалую опасность, рвался напролом.
Он был хозяином здешних мест – хозяином этой старой сосны с берлогой в корневищах, болотца под холмом и студеного ручья, заросшего непролазной щеткой смородинника и ольхи. Он вырос тут из молодого, несмышленого пестуна в заматеревшего, умудренного опытом зверя. Не один раз в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть изгонял он отсюда бродячих собратьев, дрался с ними в пору медвежьих свадеб, из года в год подчиняя округу.
Кто посмел нарушить исконную тишину леса? Откуда потянуло вонью огня и кислотой железа? Почему стая пришельцев трусливо бежит в разные стороны, не принимая боя?..
– Ах ты, мать честная, ружье-то отдал! – сокрушался какой-то ижемский медвежатник в стареньком лазуне, отбегая в сторону, за лиственницу. – Проклятый подрядчик!..
– Ружье, ружье!
– Флинту давайте!
Яков сорвал с плеча ружье.
Зверь торжествующе рявкнул и метнулся к единственному смельчаку, сжимавшему в руках длинное железо…
Яков выстрелил в упор. На мгновение огненная вспышка скрыла от него кроваво-красную ярь звериных глаз, и в ту же минуту дикая сила сбила его с ног. Смертельно раненный, но все еще живой, медведь прижал его лапами к земле. Резкая боль обожгла бок, треснуло ребро. «Задавит…» – успел подумать Яков.
Глухо и коротко хрястнул медвежий череп. Туша тяжело поползла набок. Яков открыл глаза.
Над ним стоял Фомка с окровавленным топором.
– Живой? – все еще дрожа мелкой лихорадкой страха и через силу улыбаясь синим ртом, спросил Фомка. – Вот, брат, страху было!
Яков привстал и тут же упал обратно, придерживая ладонью ноющий бок. Ижемский медвежатник подошел к Якову, задрал его рубаху. Старательно ощупал выпуклую грудь и ребра, успокоил:
– Ничего… Полежи чудок под кустиком – к утру полегчает. Помяло малость…
Оголодавшие рубщики завалили половину туши в котел, разожгли костер.
– Ты… череп-то ему развалил? – спросил Яков Фомку, когда все ушли к костру и они остались вдвоем.
– Со страху, понимаешь. Глаза зажмурил, а рублю! Сроду в таком деле не приходилось…
– Спасибо. На-ка вот нож, пойди вырежь кусок печени.
– Зачем?
– Полагается.
– Ну-ну…
Он тут же поковырялся в медвежьей туше, нашел темнокрасное полудужье печени, отхватил острым ножом парной кус и подал Якову. Потом долго и с удивлением глядел, как бывалый охотник уплетал сырую печенку. Показалось аппетитным. Отрезал ломтик, понюхал, сунул в рот и выплюнул обратно.
– Как хочешь, а я не могу!
Яков засмеялся:
– Кто неволит?
Зато чай пили потом из одной банки, поочередно обжигая губы о ее жестяные края.
Как снег на голову свалился Прокушев, будто нарочно он появлялся всякий раз либо к перекуру, либо к обеду, заставляя сокращать отдых.
___ Оголодали? Солнце на сосну еще не влезло. Эх, вы-ы!..
Тут он заметил медвежью тушу, опытным глазом прикинул вес и упитанность, сразу подытожил в уме убытки.
– Слышь, хозяин! Ружьеца-то верни нам назад. Вишь какие нечаянности в лесу бывают, – заметил ижемский бородач, улучив минутку.
Сразу загалдели хором:
– Нужны нам ружья!
– Верни – уж, чего там!
– Лосей, само собой, никто не тронет…
– Опасно тут без пищали!
Прокушев ничего не ответил. На повороте просеки показалась подвода, груженная его походным скарбом, – хозяин переезжал со своим имуществом вместе с продвигающимися рубщиками. Недалеко от костра растянули палатку, поставили под навес обитый зеленой жестью сундучок, с которым Прокушев ходил еще в дни молодости на сплав.
– Ружья, положим, верну вскорости… А тушку жрите скорее, потому – соли Чудов не припас вволю, – сказал он, присев к костру на обрубок бревна.
Рубщики один за другим вставали, уходили с топорами подальше от хозяина, в конец просеки.
Фомка Рысь замешкался дольше всех. Старательно сложил остатки поленьев в костер, потом достал из чехла кривой ножичек и принялся остругивать березовую чурку – похоже, делал ложку.
Подсел к Прокушеву:
– Слышь, хозяин… Прошлый раз, как деньги двухнедельные выплачивал, ненароком, что ли, обнес меня?
– Нехватка вышла, – спокойно пояснил Прокушев. – Откуда я знал, что ты лишним ртом заявишься? Выйдем к концу – за все разом получишь… Хотя и хлипок ты и маловато от тебя толку, да ничего. Ты не сумневайся, работай! Хоть раз в жизни пользу сделай. Не малое дело вершим: дорога напрямик, по меридиаду, пойдет!
Прокушев забыл уже, где он слышал это словцо, но тут оно пригодилось для важности.
– Ну-ну… Мне бы к Котласу по ней выбраться, – задумчиво согласился Фомка, сноровисто орудуя ножичком. Прокушев невольно загляделся на сверкающее жало отточенной стали, на жилистые, быстрые руки парня.
– Значит, говоришь, расчет сразу? – с ухмылкой спросил парень и отложил чурбачок в сторону. – А не продашь ты меня там, старый мерин, а?
– Мели, Емеля! – обиделся Прокушев, не сводя глаз с Фомкиных рук. Нож спрятался в чехле на поясе парня, и хозяин облегченно вздохнул: – «Продашь»… Тоже товар! Да за тебя никто ломаного гроша не даст. Мордой не вышел – поковырянная изрядно. Тебя, видать, господь так и задумывал – бродяжкой то ли душегубцем!
– Ну, не скажи! – беззлобно огрызнулся Фомка. – У настоящих-то душегубов вся морда – божеская благодать. Благообразные, черти! Хоть икону с них пиши!
Взял топор и ушел к рубщикам.
– Не платит денег, гад! – сказал он Якову, со злобой обрушивая топор на молодую березку.
Яков лежал под кустом, укрывшись с головой от комаров, и осторожно ощупывал ноющий бок.
– Сколько теперь придется пролежать так? – пожаловался в лад другу. – Прокушев, поди, вычтет за хворые дни, а?
– Не дадим, – буркнул Фомка, оттаскивая березку в сторону.
– Чего?
– Не дадим вычет делать! Не случись ты – чего бы медведь тут наковырял!
Яков отбросил с лица полу азяма, глянул вдоль просеки. Лес мелко дрожал и охал под натиском топоров. Люди подходили к обхватной лиственнице, издававшей упругий, бронзовый звон, подрубали с подветренной стороны, трогали пилой, и она покорно, с тяжелым вздохом, свергалась вниз, коверкая и сметая молодняк. Трещал сухостой. Люди были сильны, но не сознавали своей общей силы.
«А верно, – подумал Яков, – что, если бы все разом взяли Прокушева за горло? Взять сообща и давить до тех пор, пока не выплатит Фомке заработанное, пока не вернет ружья, не отдаст кровные пятнадцать рублей…»
Но тут же ворохнулось сомнение. «Все вместе…» – этого люди не умеют. Каждый родится и умирает в одиночку, в одиночку горе мыкает.
Эх, был бы тут Андрей-ссыльный или хотя бы Пантя! Эти не испугались бы Прокушева, нашли бы концы! У них и подрядчик заплясал бы мелким бесом. А так – что же? Народу много, да всяк о себе думает. Толку нет…
К вечеру еще тоньше и злее зазвенели комары. Яков тревожно поглядел на низкое, туманное небо, потрогал больной бок, укрылся.
Ночью видел во сне деревню и свой дом. У крыльца стояла босиком Агаша, а у ее загорелых ног крутился их старый пес, вертел хвостом…
Рассвет, который приходился здесь на середину ночи, был сырым и холодным. Ближнее болото дышало тяжким, леденящим туманом. В лесу царило выморочное безмолвие, и впервые в жизни он показался Якову чужим и неуютным.
– Не к добру сон, – прошептал Яков, глядя немигающими глазами в блеклую муть неба, и, выпростав руку из-под азяма, вытер на щеке крупную каплю росы.
Ночью в окно батайкинской избы раздался слабый стук. Тихонько задребезжало стекло, в сером просвете колыхнулась расплывчатая тень.
Андрей осторожно поднял голову, прислушался. В пазах бревенчатых стен, конопаченных мхом, шуршали тараканы. На печи, мирно вздыхая и покряхтывая, спала старуха. Стук повторился.
Андрей шагнул к порогу, вошел в темный чулан, провонявший мышами и старыми овчинами, осторожно снял крючок. Вошел незнакомый рослый человек.
– Приезжие есть? – осведомился он, последовав за Андреем в избу, когда тот снова запер дверь.
– Нет, тут все свои, – тихо ответил Андрей, ожидая третьей условной фразы.
– Однако я припозднился. Не откажите в ночлеге. Хорошо заплачу…
Новиков крепко пожал руку вошедшему, усадил на скамью. Затем наколол сосновых лучинок и пристроил на загнетке чугун с водой.
– Сейчас будет чай. Какие новости?
Белая ночь глядела в окно. Хату наводнял мягкий сумрак, в углах копилась тьма. Большой плечистый человек за столом подпарывал подкладку пиджака. Выложил на столешницу тощую пачку бумаги.
– Вот тут все последние новости. Из-за границы, – коротко пояснил он.
– Я с прошлой осени ничего не знаю, – признался Андрей. – В «ящике», помню, был разговор о предстоящем созыве съезда…
Взял одну из брошюр и, склонившись к огню, перелистал страницы. На титуле прочитал: «Две тактики социал-демократии в демократической революции».
Человек у стола распрямил плечи, облокотился и обернул к свету широкое, обросшее щетиной лицо:
– В начале мая прошлого года состоялся Пятый съезд… О разгоне Думы вы, вероятно, слышали?
Андрей оторвался от странички, резко вскинул голову:
– Ничего не знаю. Кто?
– «Сначала успокоение – потом реформы…» – усмехнулся человек.
– Столыпин? Но ведь это самое страшное, чего можно было ожидать!
– Да. Многие наши товарищи арестованы…
Андрей убрал литературу в тайник, устало присел на скамью. От печи на его лицо падали трепещущие блики багрового света, и при каждой вспышке еще резче выделялись свинцовые впадины под глазами, суровая морщина меж бровей.
Говорить было трудно. Каждому из этих двух почти незнакомых людей осязаемо представилась картина страны, где приходилось им жить и работать, сидеть в тюрьмах и выходить на волю лишь затем, чтобы вступить в новую, еще более опасную схватку. Россия – вся, из края в край, – представилась вдруг одной бесконечной Владимиркой с расквашенными под дождем колеями, ошалелыми воплями конвойных и мерным скрипом этапных подвод. Петля – столыпинский галстук – неотступно маячила перед глазами. Но еще тяжелее было оглядываться на вчерашних союзников, попутчиков и прочую братию, случайно примкнувшую к революции.
– Теперь начнется… – в раздумье проговорил Андрей.
– Уже началось, – хмуро заметил гость. – Наши правые поправели еще на два румба и кокетничают с кадетами. Требуют ликвидировать подполье.
– Что на заводах, у рабочих? Нужно, видимо, внести полную ясность в названия группировок – иначе людей постигнут запоздалые разочарования. Как-никак верят в социал-демократов…
Человек положил на стол свои огромные руки и стал свертывать цигарку. Лица не было видно. Только эти две грубые, бугроватые, в широких венах руки шевелились в бронзовом свете углей.
– Меня за этим и послали… Испытываем острый недостаток в людях. Как только будут готовы документы, вы должны бежать. Когда – дадим знать. А сейчас нужно немедленно установить связь с сереговскими солеварами. Там вот-вот закипит буча, а головы нет. Наших двоих перехватили по дороге.
– Сделаем, – коротко ответил Андрей.
– Только, чур, не попадаться! Мы вас будем ждать.
Андрей взглянул в окно и вдруг положил руку на плечо собеседника. Ему показалось, что за стеклом, в мутном полусвете, мелькнула чья-то угловатая тень.
На печи беспокойно завозилась старуха. Близилось утро.
– Явки мы сменили, – прошептал гость. – Расшифруйте последний абзац на обертке книги, которую я принес, – там несколько адресов…
За окном снова промелькнула тень. Андрей, выждав время, проводил товарища до порога, вернулся в избу.
Днем к старухе Батайкиной зашел волостной писарь. Постояльца не оказалось дома – ушел на рыбалку, захватив с собой узелок с харчами.
Писарь посидел в переднем углу, под образами, внимательно оглядел хату.
– Слышь, бабка! Были у вас ночью чужие?
– Были, были, кормилец. Как же!
– К ссыльному, а?
Старуха глядела на писаря мутными, слезящимися глазами и, казалось, вся была переполнена страхом.
– Ась?
– К ссыльному, спрашиваю?
Старуха сгорбилась еще ниже.
– Что ты, что ты! Уж не греши, кормилец… Ссыльный-то попался тихой души… От Пантюши эфто поклон приносил добрый человек, с рубки. Деньжонок мне сынок прислал…
Она трясущимися, сморщенными руками развязывала тряпицу, в которой с давних времен хранилась у нее заповедная рублевая бумажка «про черный день».
Писарь постоял в раздумье у порога, еще раз оглядел избу, недовольно поморщился и ушел, хлопнув дверью. Старуха вытерла мутную слезу и спрятала заветную рублевку за божницу.
* * *
Сорокин не мог и предполагать, сколь важное известие направлял своему патрону в последнем письме. Узнав о судебном иске гансберговских рабочих, фон Трейлинг наскоро попрощался с Ириной и уже на пятые сутки прибыл в Архангельск.
Судебный следователь был весьма удивлен, когда этот интеллигентный и, во всяком случае, богатый человек назвал себя ходатаем по делу ухтинской буровой артели.
Беседа проходила в квартире следователя. Хозяин дома и гость сидели у раскрытого венецианского окна, выходившего на приморский бульвар.
Хозяин был немолодой человек. Дело, о котором зашла речь, уже более месяца валялось без движения в его служебном шкафу. Нынешнее время – он хорошо понимал это – не могло поощрять своевременного делопроизводства и усердия в защите каких-то поденных рабочих.
Фон Трейлинг и сам хорошо понимал обстановку. Говорить о существе просьбы было чертовски трудно, и поэтому он был вынужден частично раскрыть карты.
– Все, что я имел честь слышать от вас по поводу последних событий в нашем государстве, – говорил Георгий Карлович, откинувшись в кресле, – все это свидетельствует о некоем родстве наших душ, хотя мы и трудимся в разных сферах… Это позволяет мне быть до конца откровенным. Ведь и без того вы не могли не догадаться, что поездки, подобные моей, не делаются без крайней нужды…
Весь склад Трейдинга и его речь удивительно импонировали хозяину.
– Итак, буду откровенен, – продолжал Трейлинг. – Жалоба артели для меня только удобный предлог. Дело в том, что человек, против которого она направлена, является моим давним противником, если не сказать больше. Он доставил мне большие издержки и много беспокойства. Этот человек не привык считаться со средствами… И если рука правосудия скажет по его поводу свое слово, на Ухте станет легче дышать, поверьте мне!..
Монолог гостя все же внутренне покоробил следователя, и он уже подыскивал слова для упрека. Но Трейлинг с самого начала приготовил себя к этой минуте.
– Нет, нет! – с жаром воскликнул он. – Фирма заранее готова взять на себя возможные расходы по делопроизводству, поскольку у самих истцов – за душой ни гроша…
Следующее движение Трейдинга было столь же изящным, сколь и деловитым. Незаметным движением холеных пальцев он извлек из часового кармашка чек и положил на лакированное поле письменного стола.
У следователя сдвоилась перед глазами заранее выписанная на чеке сумма «500», и он с некоторой растерянностью откинулся к спинке кресла. Если ему не изменила память, весь иск артели едва ли превышал одну-две тысячи рублей. Поэтому расход фирмы никто бы не рискнул назвать неблагозвучным словом «взятка». Дело было, по-видимому, серьезное, безубыточное и, главное, безопасное…
– Но, позвольте… – промямлил следователь.
– Не беспокойтесь! – снова поспешил Трейлинг. – Я гарантирую, кроме того, половину этой суммы за своевременный разбор дела. И уверяю вас, что для меня все это только вопрос принципа.








