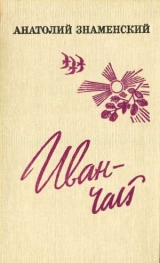
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
– Что такое?
– Мне смешно, – ответил тот. – Получилось как в сказке… Удача выпала в третий, решительный раз. Я ведь на Ухту уже в третий раз являюсь. Я, брат, знал, что главный арендатор Канкрин был здесь собакой на сене, и верил, что рано или поздно нам разрешат схватить этот край за горло. Так и вышло. Два сезона впустую потратил, а теперь поглядим, чья возьмет!
Они двинулись. Знакомой дорогой идти оказалось куда легче. Драгоценный берег звал к себе, и, несмотря на непролазный бурелом и кустарник, к полудню они прошли уже около десяти верст.
Солнце поднималось все выше и выжимало пот. От рюкзаков горели натертые плечи, но путь становился все короче, сил прибывало. Вот уже недалеко из-за еловых вершин показалась знакомая гора в лишайниках и сланцевых голызинах, местами поросшая кривыми, скорчившимися на самом ветряном юру березками.
За горой куковала бездомная кукушка.
Что это? Федору показалось вдруг, что, чередуясь с вскриками птицы, недалеко отрывисто раз и два тяпнул топор…
Федор напряг слух, но ничего не услышал. Стук топора не повторялся, кукушка спокойно продолжала оглашать окрестность своим бесцельным счетом.
Сорокин хотел предупредить друга, но тот уже сам внимательно прислушивался к лесным шорохам, снял почему-то с плеча ружье и шел теперь напряженной походкой, словно подкрадываясь к пугливой дичи.
От слухового напряжения звенело в ушах. Сразу обнаружились сотни неизвестных до того звуков, хлынули со всех сторон скрипы сухостоя, настороженное постукивание дятла, лепет березовой листвы и воркующий шепот воды по галечнику…
И вдруг совсем отчетливо звякнуло железо, послышалось тяжелое притаптывание земли
Гарин шагнул на поляну.
Это было наваждением, дурным сном.
В двадцати шагах, у самой воды, два человека совершали дьявольский танец, притоптывая каблуками рыхлую землю вокруг свежеотесанного и только что поставленного ими столба с кособокой деревянной табличкой. Рядом торчала лопата, вонзенная в этот ставший уже спорным берег.
Федор не успел рассмотреть ни столба, ни людей, с языческим упоением пляшущих вкруг него. В глазах его надолго отпечаталась лопата, вероломно поставленная на их пути…
«Третий год…» – мелькнуЛо в сознании Федора. Они позавчера были здесь. Этот берег принадлежал ему и Гарину. Откуда взялись чужие? Или это и в самом деле лишь дурной сон?
Богатство, словно юркая чернобурка; вильнув хвостом, исчезает на глазах. А тайга бескрайна, тайга глуха и нема, ей не выскажешь своего отчаяния и злобы!
Тайга глуха и нема, ей нет дела до человеческих мучений и разочарований, она надежно охраняет и добро и зло.
– Стреляй! – услышал Федор рядом и вздрогнул всем телом, от головы до пят. – Стреляй!
Он не успел сорвать с плеча ружье, как Гарин уже выстрелил. Один из тех двоих, у столба, высоко подпрыгнул и упал навзничь, словно подрубленный.
Другой испуганно глянул в сторону и вдруг, схватившись обеими руками за голову, бросился бежать.
Гарин разрядил второй ствол.
Заряды были медвежьи. Промаха он не знал.
Все совершилось в какое-то мгновение. Тайга все так же дышала своей непонятной и равнодушной тайной. Неудержимо постукивал дятел. Притихшая было кукушка возобновила счет…
Не глядя друг на друга, они стали подходить к столбу.
Человек в брезентовом плаще и совсем еще новых яловых вытяжках лежал вверх лицом.
Знакомые устюжские вытяжки…
Федор споткнулся. Волосы ощутимо зашевелились на голове, и он всей кожей почувствовал холодок смерти.
«Вытяжки…»
– Гриша! Гри-и-и-ша-а!!! – завыл Сорокин и упал к ногам друга.
19. Коловерть
Сорокин лежал долго.
Прильнув к земле и обняв ноги Григория, он исступленно вертел головой и прижимался щекой к дегтярной, вонючей коже сапог. Случившееся было так неожиданно, невероятно и непоправимо, что даже расчетливый и жестокий Гарин потерял на минуту самообладание.
Тайга начинала мстить. За что – он не знал, но было что-то предопределенное в этой нечаянной встрече у заявочного столба.
Два человека поплатились жизнью. Кто были эти люди? Что побудило их стать на пути Гарина, чем закончится теперь эта история? В конце концов, что остается делать, если единственный спутник потерял голову, бьется в припадке истерии и несет невероятную околесицу, выпрашивая прощения у мертвеца…
Разум Сорокина помутился. Зеленая карусель леса, отчаянный страх, острое сожаление и непрощающая власть давней дружбы подняли в его сознании бурю, и он потерял себя.
– Будь проклята жизнь, закинувшая нас в этот ад! – рвущимся, клокочущим голосом выл Федор, кусая губы. – Будь проклят золотой телец! О-о, будь я трижды проклят. Про-о-сти, Гри-и-ша!..
Они потеряли счет времени. Прошел, может быть, час, может – четыре часа, когда Гарин наконец догадался взять лопату и принялся копать яму. Надо было припрятать трупы, замести следы. Дальнейшее еще поправится.
Работа подвигалась медленно. Лопата дрожала в руках, прыгая и скрежеща на гальке. Но человек с мрачным упорством, методично вонзал ее в грунт, отбрасывал комья – копал яму другому.
Так же молча и стараясь не смотреть в сторону Федора, он отошел к кустам, подхватил под мышки отяжелевшее тело безвестного бородатого проводника в изодранном азяме и приволок к столбу.
– Помоги положить, – невнятно сказал он.
Сорокин вдруг вскочил на ноги, посмотрел помутившимся взглядом прямо перед собой, торопливо и бессильно ударил Гарина кулаком по голове.
– Назад! – взвизгнул Гарин, – Назад, ба-а-ба! Убью…
Лопата выразительно повернулась в его руках вверх теслом.
– Сядь, бедняга, – уже примирительно произнес Гарин и вытер со лба испарину. – Слабоват ты, Федор, оказался… Разве мы виноваты?
Сорокин заскрипел зубами, опустился на землю и зарыдал.
– А кто, кто же виноват? Мы – звери!
Был бред, страшный сон.
Два тела мягко шлепнулись через бровку в яму. Не теряя из виду Сорокина, Гарин торопливо заровнял могилу, присыпал песком.
– Хватит! Пошли…
Потом спохватился, отбил топором табличку на столбе и приколотил свою: «Гарин-28».
Концы были опущены в воду, а участок все же мог пригодиться в случае благополучного исхода дела с исчезновением этих двух бродяг.
– Пошли… – снова повторил он, и Сорокин заметил холодное равнодушие в его глазах.
Всю ночь Сорокина трясла лихорадка. Он порывался встать и задушить спутника, но не хватило сил. Мокрый туман стоял над рекой, давил грудь, становилось трудно дышать. Белые призраки выходили из чащобы к воде, колыхали прозрачными саванами, погружались в воду. Волос становился дыбом, и Сорокин стучал зубами, теряя ощущение реального, отдаваясь страху.
Перед рассветом он собрал остатки сил и на четвереньках подполз к Гарину.
Внутри шалаш напоминал темную яму. Человек спал, положив под голову рюкзак. Мучительная морщина исказила его лицо. В полусумраке на грязной подстилке отчетливо выделялась тонкая, жилистая шея. Зеленый хвойный лапник с могильной торжественностью топорщился вокруг головы Гарина.
«Придавить?..»
Сорокин склонился над спящим и вдруг почувствовал, как от сердца предательски отливает кровь, а вспотевшие ладони становятся невесомыми, как плавники дохлой рыбы.
– Ты… что? – Гарин испуганно поднял голову. – Ты что? – Во тьме сверкнули его глаза. – Опять?!
Сорокин привстал на колени. Его трясло.
– Прости… не могу я дальше.
– Повешу, негодяй! – взревел Гарин. – Семь бед – один ответ!
Но он уже знал, что Сорокин теперь был неопасен – он выдохся. Гарин резко отвернулся, накинул на голову полу сюртука и, глубоко вздохнув, притих. Сорокин свалился рядом, мгновенно уснул.
Над тайгой мрело хмурое, туманное утро. Откуда-то с Уральского хребта наволакивало тяжелые облака. Они клубились над вершинами тайги, сгущались в лиловую гряду. В вышине взвихривались шалые ветерки, и лес начинал гудеть подземным, угрюмым гулом…
Коми край велик. Где-то над просторами Предуралья и неведомой речушкой Пожмой собиралась гроза, а над селом Усть-Вымь вставало ясное, росистое августовское солнце. На белых колокольнях пылали золоченые кресты, несся веселый трезвон.
– Успенье пресвятыя богородицы, – сквозь дробную скороговорку колес пояснил ямщик и, сняв шапку, перекрестился. – К обедне попали…
Ирина нетерпеливо шевельнулась в телеге, поправила на коленях полы накидки.
– Поспешай, – сказала она.
На бледном, истомленном лице Ирины сухо и властно поблескивали синие глаза. В уголках губ змеились мелкие, неглубокие морщины. Она знала об этом и не старалась противиться судьбе: теперь к ее лицу более подходило выражение сиротской грусти.
Проехали холмистую луговину, проселок круто взбежал к поскотине. Лошади пошли тише, показались первые дворы, и тогда Ирину вдруг охватило беспокойство: «Куда она едет?»
– Останови на минуту, – попросила она возницу, – Я… нарву цветов.
После долгой дороги плохо слушались ноги. Ирина сошла с колеи и побрела травянистым скатом в глубь кустарников. Цветов было немного. Летние отцветали, и свежий ветерок срывал с них увядшие лепестки. В воздухе носились пушинки иван-чая и чертополоха, и только под кустиками можжевела кое-где пестрели запоздалые калужницы. Ирина нарвала луговой герани, золотой розги и в раздумье оглядела открывшуюся отсюда реку, низкие зеленые берега в тяжелой хвойной шубе кедров и елей. В мире было просторно и тоскливо… Совсем близко, на пригорке, трепетала на ветру стройная молодая осинка. Ирина задержалась на ней взглядом и вдруг заметила, что половина листвы на осине прихвачена осенним холодом. Ярко-красные пряди и желтая россыпь увядания уже осилили деревцо.
Осень?..
Ирина бегом миновала кустарники и торопливо взобралась на телегу.
– Погоняй!
Деревня встречала Ирину необычно. Улицы полнились принаряженным народом, пьяные норовили попасть под колесо и орали песни. Ограда у церкви не могла вместить всех, и у ворот волновались новые толпы. Баба в красном сарафане истошно визжала над избитым мужиком. Он пьяно корчился в ногах и размазывал по лицу кровь. Другой лез на железную ограду и, победно оглядывая толпу, размахивал руками:
– Вот это да-а! Гуляем, люди добрые… Не жалей лаптей, знай наших! Подваливай круче, всем места хватит!
От кабака несло сивухой за двадцать сажен. Ямщик придержал тут лошадей, жадно потянул носом и вопросительно оглянулся на путницу. Ирина рассеянно глядела на церковь, мелко крестилась.
Из дверей кабака вывалился клубок пьяных: урядник выставлял на улицу двух забияк, другие безуспешно пытались втолковать ему истину, неизвестную самим.
– Пошто шум? – спросил ямщик длинного детину в разорванной рубахе горошком.
Тот перегнулся назад, почесал кадык и сплюнул.
– Свадьба! Всем селом празднуем. Потому – большой человек веселится!
Ямщик оживился, схватил детину за руку:
– Кто же ето?
– Никит-Паш сына-гимназера замуж выдает… тьфу, женит! Поповну из Половников отхватил, кровь с молоком! Настасьи Кирилловны дочку. За рыжего своего… А нам все одно. Шагай и ты в кабак – Чудов за всех платит!
Ирина задохнулась, до боли в скулах стиснула зубы.
Васька Козлов женится… Месяц тому назад валялся у нее в ногах, умолял, клялся в любви… Как же так?
Мужик уже наматывал вожжи на колышек забора, намереваясь нырнуть в темное хайло трактира. Ирина спохватилась.
– Поворачивай лошадей! – вскрикнула она, позабыв про букет золотой розги и прижимая веник стеблей к груди, – Поворачивай, я… на четверть водки дам. Ну?
Ямщик опешил.
– Слышишь? Едем.
Минутой позже телега с Ириной грохотала на выезде из села и скрылась на повороте Усть-Сысольской дороги. Кованые ободья колес оставили на пыльном проселке двойной вьющийся след. Но к вечеру здесь проехали еще десятки подвод с пьяными гостями, сеном, дровами, уездным чиновником, земским фельдшером, и след затерялся в пестрой неразберихе дорожной колеи.
…С этого дня Ирина уже навсегда исчезла из нашего поля зрения. Говорят, что ее замечали в земском клубе и в библиотеке общества любителей трезвости. Другие утверждали, что видели однажды дочку покойного Прокушева в пролетке, рядом с помощником городского головы Степкой Латкиным, забулдыгой и бабником…
Однако, поскольку ни у одного из именитых граждан Усть-Сысольска, Великого Устюга и Вологды не обнаружилось впоследствии супруги с девичьей фамилией Прокушева, мы склонны думать, что судьба уготовила Ирочке благопристойное и утверждающееся со временем мирское положение – девица…
Сорокин вскочил, разбуженный страшным раскатом грома, потрясшим округу до самых коренных пластов. Молнии палили тайгу синим, мертвенным огнем, вода лилась сквозь хвойную крышу шалаша.
Федор накинул плащ, поправил на голове башлык и, скорчившись в дальнем углу, решил переждать.
Пробуждение его было столь неожиданно, что он не сразу заметил отсутствие спутника.
Фосфорический огонь молнии полыхнул прямо перед глазами, шалаш озарился разящей магниевой синевой, и только тогда он отчетливо увидел пустоту и примятую хвою у входа. Не хватало мешка и ружья Гарина.
«Куда он мог уйти? – шевельнулся спокойный вопрос. – Такая сумасшедшая погода!»
– Вы где, Гарин? – позвал Федор.
Ответа не последовало. Над лесами бушевала гроза.
– Да где же он может быть? – вслух спросил Сорокин, и вдруг острая тревога полоснула ножом. – Га-а-а-рин! – завопил он и выскочил из шалаша.
Порыв ветра сорвал с его головы капюшон. Водяные потоки ошалело ударили со всех сторон, Федор зажмурился. Пришлось вернуться в укрытие.
– Га-а-арин! – потерянно и бесцельно повторил Федор. В ответ прошумел ветер, с новой яростью зашепелявила по хвое и листве капель.
«Неужели ушел, бросил?..»
Если бы с неба ринулась каменная лавина, и то человек попытался бы дойти до берега, чтобы не мучиться неизвестностью. Придерживая дрожащими руками крылья капюшона и сгорбившись, Федор ринулся сквозь потоки воды к берегу.
Речка плясала, булькала под натиском стихии, веселый звон наполнял уши. Лодки не было. Там, где они когда-то причалили, на береговом иле ее днище четко отпечатало острый след. След уходил вглубь, а затем пропадал, и казалось, что сам дьявол уволок посудину в подводное небытие.
– Сбежал? – еще не веря самому себе, спросил вслух Сорокин.
«Сбежал! Один в тайге. Один за добрую сотню верст от жилья… Что делать?»
Федор собрал все свое самообладание и поплелся к шалашу.
Значит, Гарин испугался? Он, конечно, не уснул ночью после своего объяснения с Федором… Черт, но ведь он хорошо знает, что без лодки отсюда почти невозможно выбраться! Плот не пропустят пороги и перекаты. Да и времени для этого нет. Есть ли еще патроны в мешке?
Это новое опасение заставило его ускорить шаги. В шалаш он вбежал с искаженным от страха лицом: запасы патронов, кажется, всегда хранились у Гарина.
Распустил горловину мешка, лихорадочно заработал пальцами. Под руку лезли глупо-ненужные безделушки – иголки, нитки, зубочистка, мыло в бумажной обертке, карта Вологодской губернии…
На дне нащупал. Там случайно оказалось два патрона. Одним заряжено ружье. Значит, три патрона…
Гроза миновала только к вечеру. До следующего утра пришлось сушиться, а с рассветом Сорокин тронулся в путь. Двигаться было легко – негодяй Гарин забрал почти все припасы. Еды оставалось на два-три дня.
Несмотря на все потрясения прошлых суток, Сорокин все же сообразил, что идти следует по-над берегом, как бы ни петляла эта лесная беспутная речка. Другого пути не было.
Низкий, болотистый берег был сплошь опутан буреломом. Весенние паводки и ледоходы оставляли за собой груды завалов, ломали и калечили обхватные ели. Местами поверженные с обоих берегов лесные великаны на полпути встречались вершинами и схватывались в объятия над водой, образуя невеселые арки, украшенный черной хвоей. Непролазные заросли ивняка, примятого по весне льдинами, теперь снова поднялись вверх и неустрашимо наседали на реку с обеих сторон.
Только теперь Сорокин по-настоящему оценил известное выражение «непроходимая тайга». Она действительно была непроходима и страшна своей дикостью. Здесь нельзя было шагу ступить без усилия, без помощи топора, без риска сломать ногу на первой же коряге или в глубокой водомоине, укрытой от глаз тощим кустиком можжевела, хвойной лапой замшелой ели.
Он шел целый день, продирался кустами, перешагивал через гниющие стволы лиственниц, со страхом вытаскивая ноги из ржавой древесной трухи-мертвечины, выбился из сил, но одолел всего несколько верст. Ночь требовала отдыха, но вместе с сумерками пришел страх, и Сорокин продолжал свой мучительный путь. Правда, темноты не было, но тайга как-то настороженно притихла, в небе слабо и одиноко замаячила тоскливая, несветящая луна, от земли потянуло вечной сыростью.
Пора было остановиться на ночлег, и тут Федор вспомнил, что у него нет спичек. Это новое обстоятельство подняло в его душе злобу к недавнему спутнику и к самому себе. Как можно было забираться в такую медвежью глушь без проводника и необходимой сноровки? Как можно было стрелять в людей, встретившихся в этом зеленом аду? Ведь это были люди, люди, от которых можно было ждать помощи, поддержки!
О, как любил теперь Сорокин тех злых и вредных людишек, которые когда-то приносили ему лишь огорчения и разочарования! Каким прекрасным казался теперь живой, облагороженный человеческими усилиями мир! Только бы выйти из этой хвойной карусели, только бы осилить предначертанное испытание!..
Он выйдет. Он выйдет во что бы то ни стало! Он – человек, а человек сильнее хаоса, он должен осилить тайгу. Он не смеет думать об опасностях…
Он выйдет! Он должен вернуться к людям. Ведь он не успел еще ничего сделать в жизни. Не исполнил ни одного своего сколько-нибудь серьезного желания. А он должен взять свое.
Нет спичек. Как добыть огонь? Первобытные люди добывали огонь трением. Еще в гимназии Сорокин пытался повторить их опыт – ничего не вышло. Он знает, что не выйдет и сейчас. Но он попробует…
Федор перевел дух, сбросил с плеча котомку и вдруг повалился на мягкую моховую кочку. Стоило остановиться и выключиться из ритма, как силы оставили его. Усталость брала свое.
Пожевал сухарь. Потом лежа дотянулся руками, поднял с земли сухой березовый сук.
Полчаса прошло в тщетных усилиях. Дерево отполировалось до блеска, стало чуть-чуть теплым, на лбу крупными градинами выступил пот, но таким образом добыть огонь было невозможно. Историки, очевидно, что-то напутали в этом вопросе. Когда смертельно захотелось курить, Сорокин не выдержал. Он отмел лишние сомнения о завтрашнем дне и принялся выпарывать из сюртука вату. Затем уложил ее на мох и, торопливо схватив ружье, выстрелил в упор. В пути так или иначе нужно было иметь трут…
Не менее часа ушло на свивание жгута, конец которого нестерпимо вонял и теплился красным глазком вечного, негасимого огня. Затянувшись затем крепкой махоркой, Федор прилег головой на узловатые корневища кедра и уснул.
Утром его разбудил пронизывающий холод. Он вскочил и с трудом раскрыл глаза. Все лицо пылало, веки, казалось, были покрыты толстым слоем горячей глины, несмотря на то что тело прохватывал простудный озноб. «Лихорадка дьяволова!» – выругался Федор и пошел к речке умываться.
Вода сделала свое дело, озноб утих. Федор постоял на низком, топком берегу, послушал тяжкое лесное безмолвие и тихое всхлипывание речки, посмотрел вниз по течению и насторожился.
В полусотне сажен река вдруг обрывалась, будто пропадая под землей. В конце видимой протоки топорщился чахлый березняк и ельник.
«Что такое?» – удивился он и, прихватив котомку, торопливо пошел вперед.
Бурелома здесь стало меньше, река вышла на болотистую равнину. Там, где Федор предвидел ее исчезновение, русло делилось на несколько мелководных рукавов, которые начинали петлять между торфяных кочек и кустарников. Седоватое море пушицы – северного одуванчика – покачивалось под наплывами легкого ветра.
Куда идти? Какую протоку избрать?
Решил идти своим, правым берегом: где-то болото должно закончиться.
Наскоро перекусив размоченным в воде сухарем, Федор опять двинулся вперед. Мхи надолго сохраняли его след, вмятины наполнялись ржавой водой. А проклятая протока петляла все чаще, потерявшись на этой мшистой, торфяной равнине. Шел словно по зыбкой перине, с трудом сохраняя равновесие, а лес все мельчал, болото все так же жадно всасывало в себя речную протоку, и, наконец, живая струя воды совсем пропала из виду.
Федор остановился.
В глубине, под щеткой ягодника и толщами сфагнума, предательски позванивала вода. Тончайшее журчание доносилось со всех сторон, как будто вся тайга была подмыта с корней множеством родников, как будто весь воздух трепетал стеклянным звоном сталактитовой пещеры. Но река на глазах исчезла. Может быть, от возбуждения начиналась галлюцинация слуха?
Надо было немедля поворачивать влево: там где-то оставались другие протоки, способные выдержать схватку с болотом…
Федор сделал несколько шагов левее, чувствуя, как под ногами слабеет подушка мха и вся земля начинает зыбиться на десяток сажен вокруг от каждого шага.
Сверху болото представлялось манящей зеленой лужайкой и не возбуждало подозрений. Но следующий шаг чуть не стоил ему жизни. Он рухнул сразу по пояс в жидкую кашу гнили, прорвав тонкий слой мха. Нечеловеческим усилием Федор откинулся назад, ружье, висевшее за плечами, удачно подвернулось, упало под ним поперек тела, и это спасло, потому что и в глубине он не ощутил ногами дна.
«Чаруса!» Это страшное слово пришло вдруг из потемок памяти: он слышал его еще с детства, от бывалых охотников, но не очень верил им. Оказывается, бывают в лесу такие западни!
Где-то в глубине струились подземные ручьи, текучая вода не давала мхам и за сотни лет окрепнуть и нарастить толстый покров. Человек, попавший в чарусу, неминуемо шел на дно. Сорокин уцелел и, выбравшись на зыбкий закраек моховины, с угрюмым безразличием осмотрел себя.
Вонючий ватный фитиль потух. С одежды струилась дегтярно-рыжая грязь. Надо было сушиться, но огня не было. И совсем неожиданно Федор обнаружил, что наступил вечер…
Ночь прошла в каком-то бреду. Комары осатанело визжали над головой, впивались в тело с привычным, изнывающим стоном, и от них не было спасения. В мешке оставалось не более фунта сухарей. На рассвете он заметил в ветвях суковатой, уродливой березки большую птицу. Это была пища. Содрогаясь от холода и страха потерять драгоценную пулю даром, Федор долго и старательно прицеливался… Глухой выстрел, казалось, увяз в сырости болота, в комарином звоне. Птица вяло свалилась вниз. Он бросился к ней, встряхнул дрогнувшими руками и тут же брезгливо разжал пальцы: это была огромная старая сова со стеклянными, круглыми глазами…
Вдалеке, издеваясь, хохотнул сыч.
До восхода солнца Федор тщетно разыскивал пыж, который должен был упасть где-то рядом и мог возвратить ему огонь. Но болото не хотело ничего отдавать человеку, оно жадно глотало все, что попадало в его бездонную прорву.
Весь следующий день прошел в попытках найти проход к недалеким соседним протокам. Федор держался верного направления, но болото угрожающе вспучивалось под ногами, всхлипывало своей утробой и отталкивало назад. Тогда он отказался от мысли пересечь гнилое поле, взял правее. Осторожно двинулся вперед, твердо веря, что болото находится слева, а там, впереди, оно неизбежно сменится обычным, здоровым лесом-беломшаником.
В пути прошел еще день. Кончился последний сухарь, и пришел голод. Под вечер, когда голодная, водянистая слюна до противной пресноты вымыла рот, а взгляд Сорокина стал сухим и острым, он услышал в кустах глухое ворчание и схватился за ружье.
Сухая валежина треснула, как выстрел, и Федору почудилось, что из-за зеленой кипени листьев на него пугливо и пронзительно сверкнули желтые глаза зверя. Он вскинул ружье и, торопясь, нажал спуск. Глаза исчезли, и лишь легкий шорох дальних кустарников да быстрая тень большой лесной кошки убедили Федора в неизбежности потери последнего патрона… А когда первый страх прошел, Федор явственно почуял вблизи острый трупный запах.
Мертвечиной несло из пологой сырой ложбинки. Сорокин машинально кинул ружье за спину и, толкаемый любопытством и голодом, стал спускаться. Моховой покров становился все податливее, опять внятно звякнула подпочвенная струя. Можжевеловые кусты напряженно застыли в вечернем покое и, казалось, сами звенели тонким, металлическим звоном натянутой до последнего предела струны…
В самой низине, у черного, обгорелого пня, Сорокин остановился: его глазам предстала необычайная, но естественная лесная картина. Моховина была разворочена копытами животного, валежник разбросан веером во все стороны, а посередине покоились обглоданные кости и рога оленя. Останки растерзанной туши шевелились, словно муравейник, и издавали этот сногсшибательный тленный запах.
Сорокин отпрянул назад и, обхватив голову руками, с ужасом побежал прочь. Следы недавней лесной трагедии долго преследовали его, и он бессознательно рвался вперед, не разбирая дороги. Кусты хлестали его влажными и прохладными листьями, ельник обдирал руки и платье, но перед глазами все стояла оленья обглоданная голова с распяленной в безмолвном вопле пастью и рогами.
Голодный ли медведь загнал бедное животное или дерзкая, кровожадная рысь неожиданно спрыгнула с кедра на хребет оленя – неизвестно. Нельзя понять и того, откуда взялся олень в этих местах. Может быть, и он был таким же беспутным бродягой, как сам Федор?
Он остановился лишь в полночь, чтобы перевести дух. И уснул на первой же болотной кочке. А утром лихорадочно обшарил пустой рюкзак, сглотнул голодную прозрачную слюну, оторопело взглянул на бесполезное ружье и в ярости хватил вдруг прикладом о ствол толстой лиственницы. Когда он покинул место ночлега, у корней векового дерева остались ствол и жалкие щепы от этой нехитрой человеческой выдумки – охотничьего ружья.
Остаток сил надо было использовать с наибольшей пользой. Поэтому Федор внимательно примечал и следы лишайника на еловых сморщенных стволах, и муравьиные кучи на лесных полянках, и число ветвей вокруг березовых стволов, неопровержимо показывающих страны света. Он старательно примечал десятки тех давно известных с детства признаков, которыми мог пользоваться лишь опытный человек и которые могли служить ориентирами лишь в своей неясной и неизвестной ему совокупности.
Весь день он шел только прямо и только вперед, все ускоряя шаги. Тайга ломилась навстречу густой щетиной еловых лап, жиденьким березняком, перекрученным буреломом, подушками цветного мха. Тайга была бесконечна, как и вчера, и третьего дня, и сотни лет назад.
Он миновал десятки верст, обошел тихую заводь чарусы и вдруг почувствовал, что ноги с облегчением начинают спускаться в ложбину, а снизу потягивает отвратительной мертвечиной…
Что за черт? Черный, обгорелый пень, развороченный мох, рога, бессильно вонзившиеся в трясину. Проклятое место звериной грызни!..
Федор бросился в сторону, как от чумы, и, испытывая гнетущий страх, направился в совершенно иную сторону, чем в прошлый раз.
Когда-то он слышал неправдоподобные рассказы о блуждании по кругу в лесных лабиринтах. Тогда он верил и не верил в это. Но это случалось так же, как случались на пути человека тайные лесные чарусы.
От старика Рочева в Лайках Яков узнал, что Гарин обретается где-то недалеко, в здешних местах. Можно было продолжать поиски инженера, но одно обстоятельство задержало его в Лайках на неопределенное время.
Яков подходил к деревне рано утром. Завистливо поглядывал на первобытную глушь, прикидывал, сколько зверя водилось в здешних лесах, поблизости от деревни; жалел, что его родное село поспешило приобщиться к оголтелой, страшной человеческой новизне. Здесь можно было бы, кажется, прожить век спокойно…
В эту-то минуту и случилось событие, приковавшее Якова к Лайкам.
Яков услышал крик – отчаянный женский вопль, молящий о пощаде, зовущий на помощь. Сорванный на полуслове крик доносился из мокрой низинки, где, по всей видимости, протекал ручей.
Яков свернул с дороги, бросился в густой подлесок. Раздвигая колючие ветки, торопливо спешил на голос. Слезливые крики женщины то раздавались совсем близко, то обрывались, будто кто зажимал ей рот. Яков ловил обостренным слухом слабое потрескивание кустарника, непонятную возню вблизи.
На выкошенном берегу увидел в траве брошенную горбушу – на белом, высветленном полотне налипли мокрые травинки…
«Медведь?» – впопыхах подумал Яков и на ходу вскинул ружье.
Слева, за можжевеловым кустом, качались заросли вымахавшего в человеческий рост иван-чая, трещал валежник. Слышалось глухое сопение, переходящий в плач визг:
– Пусти! Пусти же, проклятый лешак! Не… дамся!..
Яков опустил ружье, в один прыжок перемахнул через можжевеловый куст.
Здоровенный парняга в лакированных сапогах и городском пиджаке, распластавшись огромной лягушкой, мял девку. Девка царапалась, билась птицей, силясь сбросить с себя озверевшего детину, теряла силы.
Яков ударил распластанного верзилу прикладом промеж лопаток, схватил за шиворот. Тот вскочил на раскоряченные ноги, пятясь, зацепился за корягу и сел в траву. Нижняя губа у него была разодрана, на подбородок стекала кровавая слюна.
– Чего делаешь, сыч? – укоризненно сказал Яков, с опаской поглядывая на парня. Для верности пошире расставил ноги, загородил девку.
У парня, видать, была немалая силенка. Он оправился от недавнего удара и, качнув плечами, вскочил на ноги.
– За-а-щит-ник!! – гаркнул он, бросаясь вперед.
«Молод еще на эти дела…» – с усмешкой подумал Яков.
И с разворота двинул его в челюсть. И когда тот завалился на спину, успел еще достать в переносье, промеж черных красивых бровей.
По его расчету двух ударов было за глаза. И он обернулся к девушке…
Он оглянулся и оторопел.
Девчонка – ей было лет шестнадцать – успела уже оправиться, сидела на корточках, смущенно натягивала на колени порванную юбчонку. Подняв белое, красивое лицо, испуганно смотрела снизу вверх огромными, доверчивыми глазищами.
Нет, Яков отродясь еще не встречал такой красоты. Сроду не видел таких голубых глазищ, соломенно-желтой толстой косы на круглом плече и выточенной шеи с округлой складочкой-морщинкой пониже мягкого подбородка. Он и сам готов был исцеловать это лицо, маленькие уши с розовыми мочками, что прятались в светлых вьющихся локонах, – только не звериным приступом, полюбовно…
– Больно тебе? – глухо, чужим голосом спросил Яков.
У девчонки вдруг округлились от страха глаза.
– Берегись! – дико закричала она, вскакивая.
Из-за куста к Якову мчался парень, размахивая сверкающей горбушей.
Яков успел заметить блеск косы в его руках, звериную ярость в глазах, вскинул ружье.
– Положи горбушу, сопля! – сказал он хриплым шепотом и взвел курок. – Убью, сволочь! Медвежий заряд у меня, слышишь?








