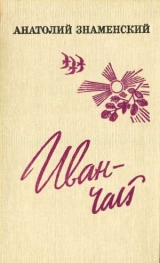
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
Гарин наклонился, разобрал свежую надпись. Кто-то старательно выжег каленым железом вдоль перекладины: «Крест – символ веры: когда-нибудь мы доберемся до Ухты…»
Он усмехнулся человеческой наивности, отошел к костру.
«Крест – символ веры…»
Яков все так же, не разгибаясь, ковырялся в обувке. Гарин с невольным уважением задержался взглядом на его широкоплечей, сноровистой фигуре, присел рядом.
– Слышь, Яшка? Написано: «Крест – символ веры». Надеются людишки, а? Потеряли, значит, веру в свои силенки?
Яков перекусил ремешок, натянул тобок на ногу.
– Пустое. У нас тоже верят… – Посмотрел на Гарина: не смеется ли? Хозяин сурово щурился у огня. – У нас тоже. В Усть-Выме когда-то было: церкву разобрали, чтоб новую, значит, сладить. А церква старая, самим Храпом строенная…
– Каким Храпом? – заинтересовался Гарин.
– Пермским святым. В давние времена. И нашли там, под церквой, значит, трухлявый пень той вещей березы, что Храп срубил. Народишко по куску растащил домой пень, за божницы клали. На удачу… – Яков набил трубку, схватил пальцами уголек, торопливо прикурил. Потянуло сладковатой болотной травой. Он затянулся. – У нас дома тоже лежит за иконой. А удачи спокон века не было… Не вышла удача. Вот ходил зиму, лесовал, заработал поболе четвертной. Так становой отмел: говорит, отец мой поручительство за купца Прокушева давал, а Прокушев-то прогорел…
– Да… – в раздумье вздохнул Гарин. – Удача – в самом себе. Как ты думаешь?
Разговорчивым стал хозяин с Яковом после того, как проводник вытащил его из воды на Роч-Косе. Крутой случай помог ему разобраться в истинной цене этого лесного, с виду невзрачного человека. Когда он в лодке открыл глаза, еще слыша глухой подводный гул перекатывающихся валунов, проводники уже брали третью ступень порога. Мокрые с ног до головы, с осунувшимися лицами, они из последних сил боролись с неистовством воды. Лодка вертелась в белой пене меж камней.
Каким-то чудом нос лодки снова взвился над гривастой кромкой, и, когда вся она в третий раз повисла в воздухе, Гарин безнадежно закрыл глаза. Силы иссякли.
В десяти саженях выше порога пришлось снова разжигать костер для просушки одежды.
– Кто? – дрожа от холода, спросил Гарин, едва высадились на берег.
Филипп указал глазами на Якова.
Хозяин благодарно потряс руку своего спасителя, но тот отрицательно покачал головой и кивнул на Филиппа:
– Он лодку один сдержал, когда я тащил тебя.
Гарин смотрел вниз, на беснующийся падун.
– Роч-Кос… Как это перевести?
– Русский порог.
– Да… – задумчиво заключил Гарин. – Русский… Не в нем ли заключена вся судьба окаянной Ухты вместе с ее богатствами?
За два перехода до Шом-Вуквы он не успел еще как следует прийти в себя.
– В самом себе, значит, удача, Яков? – переспросил Гарин, все внимательнее присматриваясь к проводнику.
– Так выходит… Гнилушка, вишь, лежит на божнице, а семья вся распалась… Каждый человек на свете сирота, и некому об нем подумать… Люди что клесты: носы у них крепкие, а все без толку.
Гарин вскинул голову, засмеялся:
– При чем тут клесты?
– Птица такая, стайная. Шелушит хвойную шишку да наземь ее сбивает. А следом хитряга белка идет да выбирает готовые семечки. Вот и выходит, что клесты-работяги за двух стараются.
Перед сном хозяин достал из лодки ужин. Предложил Якову полкольца копченой колбасы. Но проводник поморщился, принялся потрошить недавно выловленную с берега мелкую рыбешку.
– Это лучше…
Ночь прошла спокойно.
Утром они свернули в устье Шом-Вуквы и пошли на шестах по капризным излучинам мелководной речушки.
Начиналось царство дикого, первобытного леса. Если у больших рек тайга лишь теснилась у воды, то здесь она властвовала безраздельно. Черные, лохматые ели скрещивались над речкой, как траурные знамена, ивняк местами щетинился поперек протоки, и тогда русло терялось в зарослях и корневищах лесных великанов.
Солнце не проникало сюда. Черная, как деготь, вода петляла в зарослях. И, хотя местами можно было заметить следы топора, прорубавшего узкие проходы в сплошных завалах поперек течения, Гарин все же приготовил ружье. Неудивительно, если с нависшей ели в лодку прыгнула бы рысь или злой, облинявший по весне медведь встал на дыбы в двух шагах от борта посудины.
Филипп когда-то проходил Шом-Вуквой и теперь настороженно следил, чтобы не свернуть в старицу. Яков, привязав к шесту свой длинный охотничий нож, время от времени бил этой самодельной острогой щук, притаившихся у обрывистых берегов.
Так прошло три дня.
На переволоке лодку вытащили на берег. Филипп тут же ушел искать людей. Здесь где-то стояли две-три избушки, обитатели которых за добрую плату обслуживали шестиверстный волок до Ухты.
Гарин с Яковом увязывали вещи, пристроив над огнем котел с ухой. И опять хозяин не мог не оценить ладную, на совесть, работу проводника. Похоже, он не испорчен был еще нудной поденщиной и делал все так, будто упаковывал свое собственное снаряжение – ремешок к ремешку, уемисто и плотно. Неплохо было бы взять такого в помощники надолго. И Гарин заговорил о своей дальней дороге.
– Берись, Яшка. Не будешь внакладе, хорошо заплачу. А?
Все так же по-хозяйски увязывая вещи, Яков приподнял голову, подумал минуту. Вспомнил, может быть, плутовство Гарина в харчевне или свой обет вернуться к заморозкам домой. И отказался:
– Нет, хозяин, не сподручна мне твоя дорога. К Ни-кит-Пашу иду. Авось и там не обидят… А деньги – что ж деньги? Все их не загребешь…
Скоро вернулся Филипп с лошадью и возчиком. Лодку прицепили к постромкам. Но Гарин перед дорогой, по обычаю, пригласил всех к огоньку и достал стеклянную посудину.
– На удачу, – сказал он.
В котле уже закипела духовитая, густая уха.
12. Золотое
дно
Гансберг встретил Сорокина в своем доме подозрительно и сухо. Его уже начинала беспокоить задержка грузов, доставляемых вычегодскими пароходами, и он интуитивно чувствовал приближение каких-то новых, непредвиденных осложнений. Скважина в тридцать сажен глубиной продолжала стоять в ожидании обсадных труб. Требовалось заменить тросы и долотья. Но все это оборудование еще путешествовало где-то между Великим Устюгом и Усть-Вымью, за тридевять земель, умножая долги.
Десять лет жизни в этой лесной пустыне достаточно закалили Гансберга, он терпеливо продолжал дело, не теряя надежды. Посмеиваясь в душе над завистливыми и ленивыми конкурентами, ждавшими нефти на поверхности, у заявочных столбов, и не особенно верившими в собственные замыслы, Гансберг потому и сохранил за собой звание «гражданина города Риги», что презирал русский «авось». Он хорошо знал, что берега этой далекой таежной речки таят в себе немалые богатства, что человек со знанием дела и достаточным упорством в состоянии их взять. Нефть – невыдуманная, живая нефть – переливалась через края Сидоровской скважины, образовала целое озеро вокруг заброшенной вышки екатеринбургского купца Фалина, разорившегося в трех шагах от огромного состояния, в конце концов она попросту сочилась там и сям из берегов, трепеща радужными червонцами на речной быстрине. Нефть была близко! Но взять ее можно было только умением и терпеливой работой. Не день, не два надо было положить, чтобы начать промышленную добычу, и Гансберг обосновался здесь прочно и домовито. Утепленная вышка для зимнего бурения, добротно срубленные казармы для рабочей артели в шестнадцать человек, баня, хороший жилой дом для себя и артельщика – все это надежно гарантировало исход дела.
И все же Александр Георгиевич был неспокоен. В последнее время к естественным трудностям – бездорожью и отдаленности, капризам скважины с частыми обвалами стенок – ощутимо стали примешиваться какие-то посторонние и неожиданные помехи, происхождение которых никак нельзя было отнести к случайности. В его жизнь вмешивались люди – завистники и враги, но он не знал их, и в этом таилась основная опасность. Огорчало и враждебное отношение конкурентов-ухтинцев.
Сорокин отрекомендовался служащим компании великой княгини Марии Павловны и подал опечатанное сургучом письмо. Письмо от фон Трейлинга, которое следовало передать в самые руки Александра Георгиевича или же уничтожить.
Гансберг небрежно разорвал конверт и углубился в чтение. По мере того как он читал послание, тонкое лицо Гансберга темнело все больше и больше, а подвижные брови вдруг стиснули переносицу, прорезав лоб двумя гневными морщинами.
– Вы… знали содержание этой бумаги? – с трудом сдерживая бешенство, спросил Гансберг.
Письмо с шелестом съежилось и полетело в печь.
_____ Нет. Мне поручено переговорить с вами лишь в случае благосклонного отношения к нему с вашей стороны… – сдержанно поклонился Сорокин.
– Конечно! Такие вещи принято делать через подставных лиц, – желчно проговорил Гансберг. – Это избавляет меня от необходимости вышвырнуть вас вон! Мне надоел этот шантаж, уважаемый, но зато я убедился, что человеческая низость не имеет границ!
Он распалился и вдруг закричал прерывающимся голосом неврастеника:
– Мне надоела недостойная игра вокруг моей скважины, слышите, вы? Надоела!..
В это мгновение молодая красивая женщина в легком, перетянутом в талии капоте метнулась из соседней комнаты и, обняв плечи Гансберга, усадила его в кресло.
– Тебе нельзя волноваться, милый… Не разрешай, пожалуйста, себе этого, будь благоразумен.
– Хорошо… Но пойди к себе, – весь осунувшись, мягко заговорил Гансберг и благодарно выпустил ее руки из своих жилистых ладоней. По всему видно, он щадил свою подругу, потому что заговорил лишь после ее ухода.
– Я действительно сорвался… – словно извиняясь за свою недавнюю резкость, сказал Александр Георгиевич, склоняясь над столом. Потом опять резко вскинул голову. – Но… кстати сказать, затопление баржи с обсадными трубами и канатом… это не ваших рук дело?
– Я не знаю, о чем вы говорите, – насупился в свою очередь Сорокин. – Наша фирма тоже нуждается в бурильном снаряжении. Но при чем же здесь пароходная катастрофа?
– Как бы то ни было, я не премину послать своего доверенного уточнить подробности. Предполагаю неприкрытый бандитизм на большой дороге. А вам лично… если, разумеется, вы пока еще слепо выполняете задания фирмы, советую разобраться в ее истинных намерениях.
Сорокин растерялся, как актер-новичок, сбившийся с роли. Воображение подсказало вдруг целый хаос догадок, сомнений. Он решительно не знал, чем ответить на самоуверенную резкость в высшей мере симпатичного человека.
– Сколько заявок удалось перехватить вам в связи с газетной миной? – спросил между тем Гансберг. – Знаете ли вы, что граф Хвостов неминуемо оторвет голову редактору? Губернатор, находясь на Ухте, видел нефть своими глазами и решился даже строить сюда дорогу. И в это время пресса доказывает, что Ухта – афера!
Сорокин молчал.
– Как видите, история не столь проста, как вам кажется. Что касается письма, то сообщите вашему… импресарио, что сделка не состоится. Я не намерен входить в контакты с компанией, не имеющей деловых намерений. Шантаж и спекуляция не моя стихия. – Он подумал минуту и добавил – А кроме того, следовало бы учитывать, что нефть на Ухте нужна не только Гансбергу, но в большей степени нужна России. Только дураки и жулики могут не считаться с этим. Это обстоятельство…
Гансберг неожиданно умолк. Странная мысль обожгла все его существо. России… необходима России… Не потому ли и находятся десятки всевозможных осложнений в его работе, что ухтинская нефть – это гораздо больше, чем промысел Гансберга? Не в этом ли главная причина разорения Сидорова и Фалина, что здешние промыслы могут решительно изменить и нефтяной баланс и промышленную конъюнктуру на севере империи, а может, и на севере Европы?..
«Ах, какой до обиды простой и опасный вывод», – мысленно удивился Александр Георгиевич и, смешавшись, забарабанил пальцами.
Молчание промышленника помогло Сорокину взять себя в руки. Собственно, почему Гансберг так прямо и резко смеет высказываться по адресу фирмы, во главе которой стоят члены царской фамилии? Почему он считает возможным столь бесцеремонное обращение с совершенно незнакомым ему человеком? В чем же провинился перед ним он, Сорокин, выполняя свои скромные обязанности?
Однако он выдержал тон разговора до конца.
– Я уже сказал, что являюсь простым служащим компании и не считаю нужным принимать незаслуженные оскорбления. Кроме того, при ваших двадцатитысячных долгах вы могли бы благосклоннее отнестись и к письму и к его подателю!
– Ах, вот как? – вскричал Гайсберг. – Да знаете ли вы, что это уже пятнадцатый грязный подкуп?! Что провокации уже вошли в систему, а вы, их исполнители, меняетесь, словно в калейдоскопе, да еще требуете изысканного обращения!
Он тут же взял себя в руки.
– Хотите принять участие в честном промышленном предприятии, в почетной миссии оживления целого края – пожалуйста! Мне нужны энергичные люди. Но не суйте палок в колеса, не отравляйте атмосферы! Надеюсь, вы поняли меня?..
Федор вышел от Гансберга минутой позже, низко надвинув на лоб полинялый картуз, и пошел по едва заметной тропке над берегом Ухты к видневшимся отсюда халупам, выросшим недавно у Сидоровской избы. Уже на половине пути обернулся и долго стоял, рассматривая из отдаления Варваринский промысел Гансберга. Тут было на что посмотреть. Прочная, доверху обшитая досками вышка, а рядом домовито теснятся строения паровой кочегарки, кузницы, жилья… Целый промысел!
В самом деле, о чем же думал фон Трейлинг, предлагая темную сделку Гансбергу – этому фанатику Ухты и, несомненно, талантливому человеку? В какой роли выступал он сам, Федор, в этой истории?..
Когда Сорокин подошел к Сидоровской избе, нынешний хозяин ее, главноуправляющий конторой ухтинских нефтяных промыслов его сиятельства князя В. С. Мещерского, М. К. Веригина и действительного статского советника В. Я. Иогихесса господин Альбертини, человек неопределенных лет, давно стершегося звания и неизвестного происхождения, отдавал распоряжения двум рабочим, которые составляли весь его штат, рабочую артель и охрану промысла.
Он стоял на крутом берегу в картинной позе, а рабочие вкатывали внизу в лодку мазученную бочку с нефтью. Нефть была собрана берестяными черпаками из недобуренных скважин Сидорова и Фалина.
– Через две недели чтобы явились ко мне! – скомандовал господин Альбертини.
Рабочие молча влезли в лодку, так же молча оттолкнулись от берега. Потом каждый из них снял шапку и перекрестился на восход. Предстоял немалый путь – на базар в село Ижму, где месячная добыча будет продана в качестве колесной мази или лекарства от простуды, по усмотрению ижемских мужиков.
Главноуправляющий проводил лодку, уплывавшую по течению, строгим взглядом, поздоровался с Сорокиным и прошел в избу. Федор последовал за ним. Уже более недели он снимал койку в избе господина Альбертини.
Изба Сидорова – живой свидетель ухтинских тайн – производила на Федора тягостное впечатление. Когда-то в ней жил сильный и смелый человек, теперь же она стала неким постоялым двором, а хозяйничал в ней управляющий несуществующих промыслов. Стены и двери избы были покрыты иностранными и русскими надписями: чтобы прочесть их все, вряд ли хватило бы и недели. Но все они свидетельствовали о крушении надежд, раскаянии, усталости. Их оставляли безымянные промышленники, проезжие инженеры, искатели приключений, которым не повезло в жизни там, на юге, но, судя по надписям, не повезло и здесь.
– Водки и жареной говядины! – потребовал хозяин.
Тощий малый в грязной рубахе испуганно заморгал ресницами.
– Как прикажете, но… мясо давно вышло-с… Водки нет.
– Почему нет?
– Вышла-с…
Ни слова не говоря, Альбертини ринулся вон. Он мчался узкой тропой между пнями к лавочке, открытой недавно Никит-Пашем для рубщиков. Сорокин едва поспевал за ним.
Хлопнула дверь, главноуправляющий туча тучей навис над прилавком.
– Почему не отпускаете моему камердинеру?! – заорал он на молодого приказчика с розовыми щечками, в засаленной жилетке и ситцевой рубахе горошком. – Я дал вам расписки на год вперед!
Приказчик улыбнулся лукавыми глазками и скособочил вихрастую голову, извлекая из кармашка аккуратно сложенные расписки управляющего.
– Не велено. Бумажки приказано вернуть…
Альбертини выкатил глаза:
– Ах ты, жулик!
Звонкая затрещина обрушилась на физиономию приказчика. Тот в изумлении спрятался за прилавок, но Альбертини нашел его и там и возил за шиворот до тех пор, пока не получил четыре фунта грудинки и полбутылки водки.
– Пошли! – словно дрессировщик, привыкший работать с хищным зверьем, зычно рявкнул главноуправляющий и потащил Федора домой.
– Хамье! Рогатый скот! Крохоборы! – поносил Альбертини соседей, вышагивая своими длинными ногами и держа трофеи в вытянутых руках.
Мальчонка-камердинер уже разжег в печурке дрова.
Сорокин устало опустился на скамью, привалился к стенке. На его глазах вершилась какая-то полуживотная лесная кутерьма, вышедшая из-под власти человеческих обычаев и законов, а он, не подготовленный к ней, попросту не знал, как следует себя вести.
Сомнения с новой силой охватили Федора. О том, что Альбертини был обыкновенным проходимцем, он понял сразу. Но не лучшую картину нашел он тремя днями раньше и у Воронова, отставного военного, из тех, кто не по собственной воле оказывается в отставке. Почему фон Трейлинг рекомендовал ему в качестве союзников именно этих двух деятелей на Ухте?
Воронов ничего не бурил и не собирался бурить, хотя построил капитальную вышку. На его промысле Сорокин видел тоже странное запустение. Хозяин был пьянехонек и все повторял, что недавно у него украли алмазное долото стоимостью в двенадцать тысяч рублей.
Воронов и Альбертини – союзники Трейлинга! Это было хотя и очевидно, но тем не менее неприятно. Что общего у его патрона, представителя авторитетной фирмы, и этих бездельников? Сорокин с большим удовольствием предпочел бы им нервозного, но деловитого гражданина города Риги: тот, во всяком случае, не потерял здесь человеческого облика.
– А я здесь вконец одичал, – будто подслушав мысли Федора, заявил хозяин дома, откупоривая бутылку. – Обрастаю мхом десяток лет, а ради чего?.. Не знаю, о чем думает мой покровитель князь Мещерский, но дело мне представляется совершенно дохлым.
Он пригласил Сорокина к столу.
– Когда его сиятельство были здесь и вернули меня к жизни, удостоив звания штейгера, было столько надежд! Сорили деньгами! А сейчас…
Альбертини опрокинул граненый стакан в широкий рот и простонал от удовольствия.
– Сейчас я, как ни странно, совсем смутно представляю наши дела в Питере…
– Да ведь дела-то должны быть у вас здесь, – попробовал Сорокин наставить своего собеседника на путь истинный. – Дело-то ведь поручено вести вам, насколько я понимаю?
Альбертини осклабился:
– О-о, это оч-чень… тонкая история!
Он вдруг икнул, насторожился и, прищурившись, уставился на Федора, словно увидел его в первый раз.
– А ты… кто? Ты земский шпион? Ты откуда взялся? – и схватил Сорокина за горло.
Федор рванулся, изо всех сил ударил его кулаком в грудь и отскочил к выходу.
– А-а, каналья!..
Альбертини медведем шел на него, протянув вперед длинные сухие руки.
Сорокин едва успел схватить картуз и выскочил за порог.
– Значит, наотрез? – переспросил Гарин Якова, когда они сели закусить в лавочке Никит-Паша, потеснив разномастных посетителей.
Яков покачал головой:
– Нет. Хороший ты человек, но у меня своя дорога.
Гарин сожалеюще вздохнул, потом достал кошелек, исправно расплатился с проводниками.
– Смотри, может, надумаешь! – напомнил он.
К прилавку протискивался взъерошенный человек в брезентовом плаще и полинялом дорожном картузе. Он присел рядом с Гариным и тоже попросил водки. Пришлось, по обычаю, чокнуться «за все хорошее», потом Гарин свободно заговорил с ним о деле, будто встретил давнего знакомого.
– Давно здесь? – поинтересовался он.
– Третью неделю, – отвечал человек.
– Ну и как?
– Невесело…
Гарин засмеялся.
– За три недели, брат, много можно было полезного успеть… Тут после газетного шума народец, говорят, побросал столбы. Можно бы перехватить!
Незнакомец промолчал.
– А я вот запоздал, брат! Какой-то прохвост уже прибрал к рукам все куски! А жаль. От прохвоста толку не жди.
– Так вы… всерьез думаете? – спросил человек.
– А как же! Стоило терпеть муку из-за дозволительного свидетельства! Это ведь дураки и жулики сидят тут сложа руки, как псы у кухонного окна: авось вывалится что-нибудь съестное!
– И промысел рассчитываете строить?
– Ну, до этого еще немало сапог избить придется… Сначала надо выбрать место, чтобы наверняка ставить. Риск – дело благородное, одначе довольно глупое.
Яков не стал дальше слушать их беседу. Кивнув на прощание Гарину, он бросил котомку за спину, прихватил ружье и вышел наружу.
Недалеко от лавчонки горел большой костер. Человек пятнадцать лесорубов, разными путями добравшихся до Ухты, прямо под открытым небом готовили себе нехитрый дорожный ночлег, чтобы завтра с восходом тронуться к Никит-Пашу на прорубку.
Яков пристроился с краю, раскурил трубку, прислушался к разговорам. По говору можно было определить тут и русских, и черемисов, и коми с Вычегды, Ижмы, Печоры. Всякий спешил заработать кусок хлеба на новом деле.
– Рупь тридцать, слышь, поденно… – говорил заволосатевший бродяга, тяжело вздыхая и с надеждой переваривая в мозгах все значение высокой платы. – Коли до морозов дотянуть, так целая сотня, слышь…
– Дотянешь! – горько усмехнулся другой, подкидывая дровец в огонь.
Из лавочки вывалился мертвецки пьяный Филипп. Колыхаясь на неверных, заплетающихся ногах, он остановился у костра, презрительно выпятил губу:
– Приперлись, приграбастались, лошади? Валяйте на прорубку, гнедые! Никит-Паш лошадей любит…
– Сгинь, сатана! Кыш! – выругался волосатый и отвернулся.
– Ты бы не пил, Филипп, – простодушно посоветовал Яков. – До Ижмы полдня тебе осталось, а там дом, детишки, а?
– Врешь, нету у меня дома! Жизни у меня нет… Все пропью! Все к дьяволу! – пьяно закричал Филипп. Он покачнулся, упал, на четвереньках пополз в лавочку.
– Обидел человека, – почему-то покосился на Якова сосед, – Пьяному не моги указывать! Пьяного сам господь хранит…
Приспело варево. Двое взялись за концы жерди, с великой осторожностью отнесли котел с рогулек в сторону.
– Налетай!
– Пускай остынет малость, кишки сварить можно.
– Садись, чего там! Ночь на дворе!
Яков остался было у костра, но его тоже позвали к ужину.
Белая ночь объяла тайгу тишиной. Волнистый хвост тумана длинно тянулся над Ухтой, размежевав темную громаду тайги на две половины. Здесь горел костер, дружно работали деревянные ложки, люди похваливали невиданно духовитый кондер. Там начиналась длинная, прямая просека, труд, рубли и копейки… Сосны и ели, болота и реки, буреломы и гари – земский путь на Ухту.
Яков вспотел. Вытер о штаны ложку.
– Хватит. Спасибо.
Прилег на травку и, закинув руки за голову, смежил глаза. Пламя костра согрело розовым светом прикрытые веки, в ресницах заметались испуганные искорки.
– Самого Никит-Паша охота повидать, – в раздумье проговорил Яков. – Большого ума человек.
– Увидишь его… Он дома чай распивает. В такую даль какая ему нужда!
– Так ведь просека-то его? – усомнился Яков.
– Мало ли что… Его рубка, его деньги, а руками и чужими можно обойтиться!
– А я думал самого повидать, – привстал Яков. – Про Чудова рассказать ему…
– Вот это да!
У котла кто-то присвистнул.
– Да на что он тебе сдался, Никит-Паш? Прокушев не хуже его прорубкой заворачивает. А торговлю и лавчонку твой знакомый Чудов вершит. У него каждая копейка рублем прибита!
Яшка вскочил с места, потянулся рукой к трубке и впопыхах рассыпал табак.
– Кто, говоришь, рубку ведет? Прокушев? Да ведь он в долговой яме в Усть-Сысольске! Сам становой говорил…
– Э-э, брат, алтынного вора вешают, а рублевого чествуют.
13. Закон – тайга
Прокушев ожил.
Никит-Паш, сам того не подозревая, вложил в его еще недавно обмякшее тело старую, проверенную основу – власть над людьми и право пересчитывать чужие деньги.
Даже небольшая доза власти взвинчивает в человеке тайные страсти его души. А тут старый купец почуял вдруг полнейшую свободу действий, какой не знал, может быть, и сам губернатор.
Ефим Парамонович отлично видел, что за народ прибывал на рубку. То были заморенные неудачники, не однажды битые самой судьбой и терявшие из-за лишней косушки последний грошовый заработок, или же местная зеленая молодежь с Вычегды и Выми, от бесхлебья потянувшаяся в сезонщину. Первые давно привыкли к унижениям, и, стало быть, с них без зазрения совести можно было драть три шкуры, а вторые не знали истинной цены ни своим рукам, ни своим прожорливым желудкам, для них тоже сошла бы любая арифметика. И те и другие не заслуживали снисхождения еще и потому, что Прокушев сам недавно испытал всю безжалостную, нешутейную силу судьбы и собирался мстить ей.
Сначала его удивило решение Никит-Паша платить рубщикам высокую поденную плату. Он, конечно, установил бы выгодный урочный расчет. Но Козлов и тут оказался дальновиднее: он велел начинать рубку от Ухты на юг и этим избавил себя от лишних замеров просеки и понукания. Каждого рубщика тянуло домой, в обжитые места, и каждая верста прорубки приближала его к цели.
– Языком подгонять людей не след, – напутствовал Никит-Паш своего доверенного. – Этого не моги, Ефим. Народ этого не терпит. Видал на юге, как на крупорушках и маслобойнях лошадей по кругу гоняют? Нет? Зря, это тебе грех не видать.
Прокушев вникал в слова хозяина.
– Там, слышь, главное водило стоит на месте. Зато круг, по коему скотину гоняют, колесом ходит и с наклонцем. Привяжут лошадей к водилу, а потом мирошник выбьет клин, кружало и поплывет из-под копыт назад: хошь не хошь – переставляй ноги. Дальше – больше. Ни кучера, ни погонщика, а коняги в мыле, пока хозяин всю механику не остановит. Вот!
– Скоро комарики зазвенят, Ефим, – лукаво напомнил под конец Никит-Паш. – Это тебе лучше любого уговорщика. Я их давно в деле проверил…
Прокушев испросил еще одно условие – расчет с Чудовым за припасы вести самому от рабочих – и с тем принялся за дело.
После того как на третьей версте убили безрогую матку лосиху, Прокушев отобрал ружья.
– Земство узнает – шкуру спустит за такое подобное, – пояснил он толпе озадаченных людей, собравшихся у его палатки.
Кто-то догадался, забубнил в толпе:
– Не хочет, сволочь, чтобы даровое мясо ели!
Ефим Парамонович пригляделся сбоку к ершистому, догадливому пареньку в рыжем зипуне, с нагловатыми, хориными глазами и синим, злым ртом на побитом оспой лице. «Народ больно злой, и соврать не дадут…»
– Ты кто? – спросил Прокушев.
– Не видишь? Образ и подобие господа бога.
– Звать, говорю, как?
– Меня-то? А тебе не все ль равно? Фомкой, положим, зовут…
– Черта ль мне в имени! Я пофамильно вас, иродов, должен знать. Потому – урядник требует.
– Ну, возьми на заметку. Фомка Рысь, беглый, – ехидно скривил свои тонкие губы-змейки парень. – Продашь – большой барыш будет, не меньше гривенника дадут.
– Ворюга?
– Вроде того…
– Ну что же, что ни рукомесло, то и промысел. Лес рубишь?
– А то как же! Мне этой просекой как раз домой…
– Ну-ну, руби… Рысь! – с презрением окинул его с ног до головы Прокушев. Глядел с прищуром, словно прицениваясь к щуплой фигурке, до края переполненной человечьей злобой, – Какая уж там рысь! Хорек!
«И дьявол их знает, кого только не несет сюда! – встревоженно подумал он. – Этот беспременно бузу тереть будет…»
Рано утром привалила новая ватага, душ двадцать. У одного скуластого, белобрового вычегодца за спиной болталось старинное курковое ружье. Прокушев зазвал его к себе в палатку.
– Ружье сдай, – сказал он по-коми. – Потом получишь обратно.
Парень отрицательно качнул головой.
– Да ты не бойся, не пропадет! – обнадежил Прокушев. – Свои люди? С Вычегды? По обличью вижу… Звать-то тебя как?
– Яков Опарин, – с каким-то усилием отвечал парень, будто решаясь на трудное дело. Переступил с ноги на ногу, решился: – А ты, значит, и есть самый Прокушев?
Ефим Парамонович довольно усмехнулся: «Далеко, стало быть, слух идет! Хорошо!» Но парень хмуро уставился ему в глаза и заговорил вдруг о каких-то пятнадцати рублях.
– Да кто взял-то их у тебя? – недовольно переспросил Прокушев, еще не докопавшись до сути дела. – Становой взял? А чего же ты ко мне привязываешься?
– Отец за тебя поручался, за тебя и пропали деньги,
Прокушев!
– Так не бывает. В полиции с меня спрос. И дела с тобой я не имел, – сухо отрезал Ефим. «Каких только дураков нет – и посля бани чешутся!» – мелькнуло в голове.
– Отец твой помер, я с судом разделался – значит, и концы в воду. Волостное правление о том могло печатью заверить. Аль не сообразил?
– Деньги становой взял за тебя! – упрямо топтался на месте Яков. – Имеешь крест – отдай, не греши. Я тебя не обманываю! Мне на зиму хлеба надо…
Прокушев опять усмехнулся:
– Мало бы что кому надо! Мне венскую гармошку да тройку с бубенцами теперь бы в самый раз с разорения, да мошна пуста. Деньги – они счет и порядок любят, а ты выкинул становому дарма полтора червонца, а теперь виноватых ищешь. Не годится, земляк! Вот прорубку кончим – получишь на хлеб и водочку…
Парень безнадежно махнул рукой и вышел вон. Ружья не отдал.
В конце просеки жарко лаяли топоры.
Последние обхватные сосны и ели были спилены и откачены за бровку. Просека падала вниз по угору, где на мшистом болоте толпились трепещущие березки.
Яков вынул из-за пояса топор, направился по песчаному косогору к зеленевшим зарослям можжевельника и щетинистого мелколистого ягодника.
– По-о-берегись!!
Высокая тонкая елочка шла прямо на него, поперек просеки. Яков шагнул в сторону, недовольно глянул на рубщика. Заморенный рябоватый паренек скалил мелкие, звериные зубы с черной щербинкой посередине.
– Гляди в оба!
– Лес валить не умеешь, – хмуро заметил Яков. – Кто же так делает – поперек дороги?
– Не умею. А на черта мне уметь? Тоже наука! – Парень вдруг вышел из-за куста, заинтересованно приценился к незнакомцу.
– Ружье не отдал?
– Нет… Куда мне без ружья?
– Молоток. Подрастешь – кувалдой будешь, хвалю! – и протянул руку. – Давай вместе хлебать кручину! Веселее, хоть ты и зырянин. Меня Фомкой зовут…
Яков усмехнулся: «Чудак какой-то. Пришел на рубку, а путем к сосне приступить не умеет. Все они, русские, в лесу – что малые дети».
– А ты откуда? – спросил Яков.
– И сам не ведаю! Сейчас с Пустозбрска на юг правлюсь. Мне эта рубка в самый раз, по дороге! – И неожиданно переменил тон: – У тебя пожрать не найдется?
Присели на бугорок. Яков достал краюху хлеба, разломил пополам. Парень впился жадными зубами в мякиш, судорожно задвигал кадыком.








