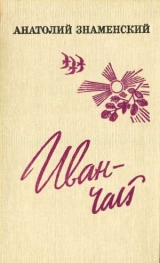
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
Помог спиртонос. Он явился как нельзя вовремя, пешком отмахав тридцать верст, и, не постеснявшись обычно клявшего его подрядчика, свалился прямо у костра под тяжестью двух ведерных жестянок с водкой. Прокушев воспользовался общим оживлением и звоном посуды, стал торопливо запрягать лошаденку.
Низкорослая кляча покачнулась, когда он кинул на нее хомут и шлею. Крученая супонь змеей охватила клешни хомута. Подтягивая чересседельник, Ефим Парамонович так рванул вверх оглобли, что у кобылки перехватило дух и она, словно рысак, перебрала копытами.
– Я на Ухту, за ружьями! – крикнул напоследок Прокушев и упал боком в телегу.
Повеселевший народ глядел вслед удалявшейся подводе, с сомнением ждал завтрашнего дня: не выкинет ли чего нового окаянный купец? Веселила водка, больше надеяться было не на что.
К ночи заморосил теплый дождичек. И без того злые комары вдруг взвыли с яростным, плотоядным стоном. Они летели из хвойной гущи сплошным облаком, нагоняя страх даже на старых таежников. Люди кряхтели в шалашах и, задыхаясь от духоты, кутались с головой в тряпье.
Яков без конца подкладывал в костер мокрый еловый лапник, совался к огню, в белую горечь дыма, успевая прихлопнуть на шее десяток насосавшихся истязателей. Уши от раздавленных комаров покрылись кровью, глаза покраснели и слезились, но время от времени он вставал и шел за ветками. Лес отчужденно всхлипывал тысячами дождинок и колыхался в дурманящем аромате этой теплой, разомлевшей ночи.
Перед восходом солнца к костру вылез Фомка. Он тоненько, по-собачьи, взвизгивал и, ошалев, бил себя кулаком по голове.
– Сожрут! Сожрут заживо, черти! Не ночь – казнь египетская!
Полез в костер и с воем отскочил назад. Уголек попал ему в рукав и прожег дыру. Пока он заплевывал вонючую гарь, его тощее лицо сплошь покрылось размазанной кровью.
– Сожрут, Яшка! Помоги, ради бога…
Так маялись, пока не подул утренний ветер, но в лес и утром заходить было страшно. Люди с помятыми, испитыми лицами подходили к огню, невесело усаживались в кружок.
– С похмелья закусить бы теперь, – сказал бородатый ижемец и со страхом глянул в сторону бочонка.
– Закусишь… – Фомка облил голову водой и, обтираясь портянкой, полез досыпать в шалаш. – Не доем, так досплю, – уныло сказал он.
– Не всякую кручину заспать можно, браток.
Яков не спеша поднялся от костра и подошел к бочонку. Долго не открывал накинутого кем-то донышка, потом решился, сбросил.
Ядовито-красное, истлевшее в навоз, смердящее мясо шевелилось. Яков обомлел.
– Черви!..
И, едва отошел от бочонка, стало страшно.
И сегодня, и завтра, и после надо что-то есть… Что? Орава немалая, под сотню человек. Что же думал окаянный купец, заведя всех в такую даль? Совесть, злодей, потерял!
До половины дня бродил вокруг стоянки с ружьем в надежде убить лося или медведя, но на этот раз страшно не везло. Убил двух глухарей и не знал, как явиться с ними к голодной толпе.
Лес изнывал в духоте. Лесные шишки от жары заливало смолой.
Когда вышел к шалашам, пришлось заткнуть нос. Кто-то решился варить гнилье.
Хилый мужичонка сидел в облаке дыма и вони, снимал с пенящегося варева всплывавшую непотребность длинной самодельной ложкой.
Фомка со злобой поглядывал от шалаша на кучку рубщиков, собравшихся около прокушевской палатки, и горланил частушку. Яков бросил в шалаш дичь, огляделся.
На просеке никто не работал. Все ждали чего-то страшного и молча теснились в кучу. А Фомка покачивался из стороны в сторону, будоражил душу незнакомыми и злыми словами:
Что ж вы, черти, приуныли
И повесили рога,
Ай не сладко шею пилят
Хомут и конская дуга?
– Не дури! – сказал Яков и лег ничком в шалаше.
Он долго не мог заснуть, беспокойно ворочался под армяком. Но едва сумел задремать, кто-то потянул его за ноги.
Яков открылся и с обидой уставился на темный силуэт, согнувшийся у входа.
– Тебе чего?
– Вставай! – тревожно зашептал Фомка, продолжая дергать Якова за ногу. – Вставай, беда в артель пришла…
Его свистящий, сдавленный шепот встряхнул друга.
– Чего?
– Пошли. Увидишь…
Фомка двинулся к костру, обошел вонючий котел стороной и направился к дальнему шалашу, около которого невнятно гомонила толпа рубщиков. Яков шел следом, тщетно пытаясь попасть в рукав армяка. Одежина тащилась за ним по мокрой траве. Фомка тем временем уже протискивался в середину круга, увлекая за собой Якова.
У входа в шалаш увидели двух знакомых мужиков. Один из них, бородатый ижемец, лежал на спине, закинув голову и задрав к небу черный клин бороды. Даже сквозь густую щетину была заметна мертвенная бледность кожи, синие круги запавших глазниц.
«Покойник?» – со страхом подумал Яков.
Второй, сидевший на корточках мужик шевельнулся, медленно и тупо обвел всех равнодушным взглядом:
– Водицы чистой, а? Принесли бы воды, братцы. Горит весь Антипка… Хворь споймал.
Подали ведерко со свежей водой из канавки. Сидевший на корточках сбрызнул больного, положил ему на желтый лоб мокрую тряпицу и встал.
– Пускай полежит. Авось очунеется.
И в ту же минуту за спиной Якова прозвучал страшно испуганный, затаенный и хриплый голос:
– Холера пойдет, братцы!..
Фомка дернулся всем телом, схватил говорящего за ворот.
– Каркаешь, баба! Каркаешь?!
Хилый мужичок увернулся, боком втиснулся в толпу. А Фомка вцепился в рукав Якова, потащил назад, к шалашу.
На половине пути пришлось снова задержаться. В одном из шалашей увидели человека, голого по пояс. Он сосредоточенно рыскал глазами в швах вывернутой рубахи.
Фомка постоял, глядя в глубину шалаша. Почесал ногу об ногу.
– Что, вошек ищешь? – с грустной задумчивостью спросил он.
Человек поднял голову, наморщил лоб, глядя снизу вверх.
– Ищу, брат! По две на щепоть.
– Молодец! Радуйся приплоду, коли так.
Яков испуганно дернул Фомку за рукав:
– А что, если… чума?
Фомка закусил свои синие губы. Озирнулся по сторонам. Кругом бродили будто бы равнодушные, убитые одним горем люди. Они еще не знали, какая беда подстерегала их в этом лесу. А Фомка – бродяга, бывалый вор, поножовщик, он знал. И вот, вдруг заложив два пальца в рот, он засвистал что было мочи, из последних сил.
Разбойничий этот свист встряхнул артель. Яков отступил от друга на шаг, болезненно сморщился: он любил тишину.
– Что ты?
Фомка порозовел от натуги, замахал руками:
– Собирайтесь сюда, дьяволы! Вшей нужно доразу подушить, слышите? Не то подохнем все тут, как мухи. Валяй ко мне!
Его окружили мужики. С тайной неприязнью, с сомнением поглядывали на хилого воришку, способного в трудную минуту на решительные действия.
А Фомка ждал. Когда подошли все, он двинулся в лес:
– Пошли!
Рубщики двинулись следом. Яков не понимал, что затеял его друг, но чувствовал, что Фомка на этот раз не дурил.
– Ты муравейников поблизости не видал? – спросил на ходу Фомка, мельком глянув на Якова.
Тот удивленно перехватил его взгляд, припомнил:
– Видал тут недалечко. А что?
– Веди. Надо позарез.
Мужики, растянувшись цепочкой, шли за ним. Никто не понимал, зачем нужно было идти за Фомкой, однако шли, толкаемые страхом и любопытством.
Саженях в ста Яков спустился в ложбинку и на противоположном скате остановился. Меж замшелых елей высилась островерхая копна лесного муравейника.
Это было великолепное сооружение. Гора сухих иголок, хвойной падалицы, смолистых чешуек и лесных семян была искусно выложена миллионной армией шестиногих работников, неутомимых ходоков и строителей. В этой легкой, почти воздушной копне зияли ходы и выходы, окна и двери. Муравейник кипел.
– Хорош для начала, – оценил Фомка и присел рядом на пень.
– Зачем он тебе, муравейник-то? – тихо спросил Яков.
Фомка не ответил. Он дождался, когда вокруг муравейника столпилась вся артель, и первым потянул через голову рубаху.
– Скидайте бельишко, волосатики! Вошебойствовать будем. Не то расплодят эти твари холеру либо чуму у нас. Самое верное дело!
Тут Фомка дернул ногой, разворотил самую середину муравьиного гнезда, сунул туда свою пропотевшую рубаху.
Яков стоял позади, ждал конца этой потехи. Люди, недоверчиво косясь на бродягу, что заставлял делать их непонятные штуки, медленно стаскивали одежу.
– Не жмитесь! – подбадривал Фомка. – Говорю – испытанное дело. Муравей – животная чистая. Ни одной вши вживе не оставит. Всех подушит! Другого спасения не найдешь!
Яков поверил, стал раздеваться.
К вечеру вся артель обезопасилась от хвори. Но успокоения не было. Бородатый ижемец, не приходя в память, скончался. Его зарыли тут же, наспех сколотив бревенчатый крест, будто у людей не было времени, будто гналось за ними невидимое, бестелесное чудовище, и надо было бежать от него не оглядываясь…
В ночь с порубки ушли по домам две артели, человек тридцать. Уходили молча, не сговариваясь. Наступило время бестолковой сумятицы, когда никто не мог сказать, что случится с людьми через час-два на этой проклятой версте.
– А может, и мы махнем? В Крым! – предложил Фомка.
Яков ничего не ответил. Он смотрел на людей и не верил,
что все это происходит на его родной земле, которая была добра и давала в достатке пищу не только человеку, но и всякой твари, всякой козявке под трухлявым пнем…
Прокушев приехал только на следующий день.
В телеге рядом с подрядчиком сидел, свесив ноги, усть-ухтинский урядник Попов.
Несмотря на престарелый возраст и седую голову, человек этот выглядел довольно молодо и постоянно сохранял вид борзой собаки, замершей в напряженной стойке на птичий выводок. В деревне Попов прославился еще с давних времен по незначительному поводу. Явившись со сверхсрочной службы фельдфебелем, он с царственным величием прошел в избу; не глядя на родню и важно усевшись в переднем углу на лавку, заявил:
– Жена! Открой дверь, я по-польски плюну.
Плюнул он действительно невиданным способом – сквозь зубы, со свистом, сажени на три. Прошло больше десяти лет, а в деревне до сих пор не могли забыть столь значительной минуты и такого дивного мастерства. Службу он нес ревностно и был исправен до мелочей.
Невысокий чин не мешал Попову чувствовать себя властелином этой округи. И веник в бане всем начальник, а уряднику в деревне и бог велел.
Бодро, с типичной полицейской сноровистостью, Попов спрыгнул с телеги, отряхнул с тяжеловатого зада прилипшую соломку и, по уставу прижав локти, сделал для разминки бег на месте.
Прокушев тем временем приказал разгрузить два мешка овса и сообщил, что ружья конфискованы до окончания порубки.
Народ взволновался, невзирая на присутствие законо-блюстителя.
– Вот оно! У корысти всегда рожа чиста!
– Жаловаться надо! – пробурчал хилый мужичонка. – Кругом обман!
– Куда? Куда жаловаться, – неожиданно для самого себя вдруг сказал Яков и спохватился: «Не свои слова ляпнул. Ах ты черт! Так чьи же?..» Сразу вспомнился ссыльный в Пантином доме, простота и твердость прищуренных глаз, последний, испугавший тогда Якова разговор: «А есть она, правда?» – «Есть, да не все про нее знают…» – Некому жаловаться! – со злобой повторил он.
– Судья что! У него четыре полы да восемь карманов, – подтвердил кто-то.
– Эй, хорек! – крикнул между тем Прокушев. – Фомка!
Фомка привстал, встревоженно огляделся.
– Тебя господин урядник спрашивал.
Парень оценил расстояние до ближнего куста, потом вспомнил, видно, о голодном брюхе и непроходимой тайге и, сразу присмирев, вышел к телеге.
– Продал, иуда?.. Точно, за тридцать сереб…
Страшный удар в ухо свалил его с ног.
Побледнев как полотно, он привстал на колени. Изо рта, вильнув змейкой, потекла кровица.
– За мои тридцать целковых, сволочь…
– Молчать, – коротко сказал Попов. – Это тебе для первого знакомства. Дальше – больше получишь. Когда оборвался? Откуда?
К полудню еще половина рубщиков покинула просеку.
Прокушев серчал:
– Идите, идите, голуби! На мой век вашего брата хватит.
Уходили многие, узнав, что кормить теперь будут неободранным овсом и что другой пищи не предвидится.
Яков остался.
От природы неразговорчивый, как и всякий коми, он трудно и долго размышлял о случившемся, о людях – своих и чужих, прошедших перед ним за эти полтора месяца. И странное дело – его честная, первобытная душа помутилась от страшного одиночества, от пустоты, возникшей вдруг в общении с людьми.
Гарин, обманувший в харчевне когда-то других людей, пьяница Филипп, лесной охотник, лишившийся ружья и потерявший вместе с ружьем самого себя, Прокушев – зверь и предатель, беглый проходимец Фомка, душевный и все же опасный парень, способный в горячке пырнуть ножом, – что такое делали они, эти люди, в жизни, почему так была опоганена всей этой кровожадной свалкой земля? Кто более всех был виноват в одиночестве человеческой души и потере самого малого доверия к человеку, без которого становится душно жить?..
Вот несколько артелей ушло от обмана, от червивой солонины, от комаров и самой рубки, чтобы не бродить целыми днями в болоте, не студить до хвори ног, но кто ждал их там, в других местах?
Прокушев не держит… Идите! Знает, что некуда податься человеку в жизни!
Прокушев… Земляк, на одном языке разговаривает с Яковом, а продал человека, чтобы не платить ему заработанные гроши. Продал человека, чего сроду не водилось в этих краях, где любая лесная керка оставалась открытой для всякого прохожего с малой толикой готовой еды, соли и дров.
Сказать об этом в любой деревне – плохо пришлось бы Прокушеву даже при его богатстве и силе.
И хоть знал Яков, что бешенством пня не выкорчуешь, его душа заметалась в страшном озлоблении.
Что делать? Куда бежать от подлых людей? Да и кто тебя ждет в другом месте?
Нет, с просеки он не спешил уходить, не дождавшись давно предопределенного конца.
Случилось неожиданное и непоправимое.
Высокая мачтовая сосна с бурым комлем и золотистым отливом тонкой, смолистой коры вдоль ствола дрогнула от последнего удара топора, чуть-чуть повела нежным зеленым опереньем веток и как будто замерла на минуту, прежде чем пойти к неумолимо зовущей ее земле.
Яков после не мог бы сказать, точно ли он видел за кустами ельника промелькнувший кожаный картуз подрядчика или ему померещилось, но по какому-то дьявольскому наущению он изо всей силы налег плечом на тронувшееся дерево.
Сосна нехотя стала поворачиваться на пне, зеленая карусель веток подняла вихрь и понеслась прямо на просеку.
А топоры продолжали усердно лаять позади Якова.
– Берегись! – запоздало и дико закричал кто-то за кустами.
Пахнуло ветром…
Прокушев оторопело глянул вверх и побежал вдоль просеки. Но воздух уже расступился от него в стороны, страх уже связал ноги паутиной дурного сна, и страшная тень возникла над головой.
Фомка! Фомка несся на него с высоты, занося страшный, остро отточенный топор…
Подрядчик не дотянул двух шагов. Сосна прихлестнула его тонкой, прогонистой вершинкой в руку толщиной…
16. Земский
хозяин
Ямщики опять летели сломя голову. Опять грохотали накатники стареньких мостов и пылила дорога под колесами брички.
Парадысский блаженно покачивался на коврике, покрывавшем сенную подстилку, щурил на солнце глаза. Почти семь тысяч лежало в его кармане – деньги, которых, по правде говоря, он еще никогда не держал в руках за один раз. Некую долю, правда, в скором времени следовало отдать косматым людишкам в рваных азямах, но главная часть тут принадлежала ему.
Он пытался задуматься о будущем, решал дать наличной сумме какой-нибудь выгодный оборот, попрочнее встать на ноги. Но странное дело – каждый раз, как только в кармане Станислава заводились деньжата, его охватывало неудержимое легкомыслие. Он просто не мог настроить себя на деловой лад, твердо зная, что любая наличность пойдет прахом и что потом, рано или поздно, он снова будет с деньгами.
В Усть-Выме стеклянный петух снова двоился в глазах Станислава и писарь опять пытался заговорить о нефтяных землях, подавая гостю благую мысль о возможности крупной спекуляции на Ухте. Но едва тарантас загремел по мосту – на выезде из села, Парадысский криво и пренебрежительно усмехнулся и до самых Половников старался ни о чем не думать.
Ямщик гнал лошадей, по сторонам поминутно сменялись живые картины, и Станислав не скучал.
Богатой кажется летом скупая северная земля!
Желтая дорога вилась меж сельских поскотин, нескошенных лугов, пестревших красным и белым клевером, желто-оранжевыми цветами льнянок, кустиками ромашек и буйными зарослями малинового иван-чая. Слева тянулся отчаянно зеленый берег Выми, а справа наступала вечно молодая и всесильная тайга, прикрыв хвоей и трепещущим березняком обглоданную старину буреломов и гарей. И даже нагота черных унылых деревушек была празднично повита густейшим кружевом недавно привившегося здесь хмеля. Все это зеленое царство шевелилось и умиротворенно лепетало под натиском речного солоноватого ветерка, приносившего запахи рыбы, кувшинок и сонного спокойствия…
Еще не одну шкуру можно было снять с этой земли, и Станислав Парадысский блаженствовал в бричке, нежась под ослепительными и нежаркими лучами полуденного солнца.
Верстах в десяти от Половников он приказал ямщику ехать тише. Потом открыл ящик, достал бутылку коньяку и, жадно запрокинув голову, отпил столько, сколько желала душа: в дом Анастасии Кирилловны надо было явиться в самом веселом, заражающем настроении. Она встретит Станислава на крылечке, истомленная тайным ожиданием, всплеснет пухлыми руками и, пока девка-прислуга будет ставить самовар, улучит минутку… В доме есть такое место – между печью-голландкой и спинкой кровати; если открыть дверь спальни, то вовсе закроешься с четырех сторон, и никто ничего не увидит.
Бричка влетела в Половники уже под вечер. Станислав еще издали заметил зашторенные окошки в поповском доме, радостно подумал: «Ждет…»
Ямщик круто вывернул лошадей к самому крылечку. Парадысский по-мальчишески, через подножку, прыгнул на целую сажень в сторону, отряхнул пыль и, покачнувшись, влетел на верхний порог.
В передней, однако же, он должен был остановиться. Девка-прислуга, скорчившись у двери в спальню и забыв обо всем на свете, подглядывала в замочную скважину…
Станислав рванул ее за волосы и отбросил в сторону, смекнув, что она и раньше пользовалась этаким способом.
– Дура! Вон отсюда!
– Гости… у нас! – испуганно пошевелила она губами, скосив глаза на дверь спальни и торопливо набрасывая платок на растрепанные волосы.
Что-то тревожно екнуло в груди Парадысского, хмель ударил в голову.
– Какие еще… гости? Я приехал!!
Коротко звякнул, старенький крючок двери. Под нажимом его не смогли бы устоять и сами притолоки – Станислав, как разъяренный тигр, рванулся вперед.
Полуголая попадья в розовом лифе и нижней сборчатой юбке сидела у кого-то на коленях, тщетно пытаясь встать, но грубая черная рука спокойно удерживала ее, покоясь на круглом плече. В память врезались это белое, пухлое плечо с розовой тесемкой лифа и облапившая его жилистая ручища мужчины.
Прямо из-за щеки Анастасии Кирилловны торчал черный, лихо закрученный ус…
– Настя! – вскричал пораженный Станислав и шагнул вперед. – Настя! Шлюха…
Попадья сомлела от стыда и страха.
Но тут усатый гость мячиком спустил ее с колен и резко вскочил со стула.
– Чем могу служить? – в великом изумлении услышал собственный и вместе с тем чужой, испуганный голос Станислав и попятился: в его глазах стояли, пьяно покачиваясь, два одинаково разгневанных отставных штабс-капитана. Оба как две капли воды были похожи на ухтинского дельца Воронова.
– А-а, не-го-дяй! – вдруг с расстановкой и тупой яростью процедили они разом сквозь зубы, и страшный, ни с чем не сравнимый удар обрушился на левую скулу Станислава. – А-а, бестия!
Бедный постоялец этого дома узнал воочию, как хватают за шиворот, а затем гвардейские штабс-капитаны дали разом такой пинок, что он вылетел из комнаты. Грубо открыл головой наружную дверь прихожей и остановился, сгорбившись, лишь на верхнем порожке невысокого крыльца.
Ранний сон деревушки спас его от посторонних глаз и неминуемого позора.
– Деньги! Деньги, негодяй, чтобы нынче же! – неслось вдогонку.
«Ничтожество! Завтра же потребую сатисфакции…» – с негодованием подумал было Парадысский, но тут же стал торопливо ощупывать внутренние карманы сюртука, в то время как ноги его весьма разумно уже уносили хозяина от поповского дома к земской избе. Деньги оказались на месте. Он облегченно вздохнул и прибавил шагу.
У ямской вытер лицо платком, обнаружив небольшую припухлость, вскипел гневом и ринулся к держателю ямщины.
– Лошадей! – взревел он, возненавидя сразу и убогую избу, и сонного ямщика, и просеку, и столь неудачно завершившийся роман.
Все полетело кувырком.
Станислав упал на кровать в тесной комнатушке для приезжих и долго лежал, закинув руки под голову, в мрачном раздумье. Нежелательная встреча разом поломала все его планы. Отдать почти тысячу рублей? Глупо. Глядеть завтра в глаза Воронову, требовать сатисфакции и получить ее? Глупо. Расплачиваться с посконной толпой за какую-то неведомую рубку, которой могло и не быть? Еще глупее… Обругать отца Лаврентия за то, что не смог уберечь матушку до возвращения постоянного жильца? Это еще что такое?..
В самом деле, женщины отвратительны и бесстыжи. Разве только Ирочка была самозабвенно предана ему когда-то… Остальные не заслуживали и крупицы уважения.
Станислав успел уже задремать, сломленный дорожной усталостью и недавним потрясением, когда в комнатушку постучали:
– Лошади готовы.
– Какие лошади? Зачем?
Тут Станислав окончательно проснулся, в голове во весь рост встали прежние вопросы и затруднения. Воронов, попадья, рубщики, шесть с лишним тысяч денег… Завтра, вдобавок ко всему, мог явиться губернский ревизор Межа-ков-Каютов, от которого и белохвостой катеринкой не отделаться. Ждать его, когда в кармане деньги, было бессмысленно.
И тут в голову пришел такой неожиданный вывод, что Парадысскому стало страшно. Надо было бросать к дьяволу и рубку и Вологду. В пути можно было обдумать дальнейшее…
Губернатор? Доверие? А, черт с ними! Таких ослов везде хватит, само общество плодит их всякими условностями, волокитой и приверженностью к форме. Завтра, может быть, общество создаст новые каноны и условности – Станислав снова врастет в них, как свежесрубленный осиновый кол, с первого дня способный пустить корни и отрастить ветки.
– Дураки, ослиное стадо!
– Лошади поданы, – опять осторожно напомнили из-за двери.
А может, и ко времени он заказал лошадей?..
Прокушев еще лежал ничком на мшистой просеке, прикрытой зеленой бахромой сосновой вершины, а рубщики уже разбежались от опасного расследования.
Остались Яков Опарин и два местных охотника, надеявшиеся с приездом властей вернуть свои ружья.
Следователь на месте происшествия установил, что от пня поверженной сосны до тела подрядчика было ровно тридцать аршин и что в момент повала рубщик не мог видеть Прокушева из-за плотных зарослей по-над бровкой просеки. Несчастный случай, как явствовал протокол, произошел из-за несоблюдения правил рубки по вине самого пострадавшего…
Рубка прекратилась. Из двадцати тысяч рублей, полученных Никит-Пашем от земства на рубку, десять тысяч остались в его кассе, пять осело в карманах Прокушева и Чудова. И только четвертую часть получили рубщики.
Выйдя к Сидоровской избе, Яков нашел прокушевскую артель почти в полном сборе. Гадали, куда идти. Никит-Паш, правда, мог прислать нового подрядчика, но комары, болота и конский овес надежно преграждали путь к возможному возвращению на просеку.
Многие уже начинали опухать от голода. Злые, заросшие диким волосом мужики гудели около запертой лавчонки – Чудов приказал навесить замок и скрылся вместе с приказчиком.
Куда теперь? Путь был немал, одежонка истрепана, харчей в дорогу не было.
И тут Яков вспомнил о своем последнем споре с Пантей. Выходило, что старый зимогор был прав. Как-никак, а в Половниках за строительством приглядывало земское начальство. Там и гнилье жрать бы не пришлось и цены за пропитание до полтинника никто не мог вздуть. Там все на бумагах записывалось – значит, по закону. Выходило, что на этот раз Яков малость промахнулся…
– В Половники надо! Там земская рубка. Там не надуют! – закричал какой-то изголодавшийся рубщик, поднимаясь утром с ночлега. – Айда скопом! По Выми вниз плыть – в два огляда минуем!..
И ватага тронулась.
Яков помалкивал, переживая смерть подрядчика, будто кающийся грешник. Время от времени на остановках отходил в лес, добывал дичь и под общий одобрительный гомон отдавал ее рубщикам.
Хотелось делать как можно больше добра этим злым, обиженным людям.
Ухту до переволока и Шом-Вукву прошли дружно на шестах, а дальше открылось вымское приволье. Лодки понеслись вниз по течению, легко прыгнули на Роч-Косе в пенную пропасть и, хранимые неким безымянным святым, покровителем бродяг и разбойников, выскочили на спокойный плес саженях в десяти ниже…
В первой же деревушке на берегу Выми рубщики разнесли винную лавчонку, наелись вволю хлеба и свежей рыбы. Всю ночь у воды полыхали костры, метались ошалелые тени пьяных, обретенная здесь же гармошка жалобно взвизгивала в чьих-то узловатых ручищах.
Яков лежал ничком на разостланном армяке. Земля плавно колыхалась под ним, но он ясно слышал кряхтенье мучившихся животами рубщиков, далекие крики гуляк в деревне, визг баб. Деревня Иодино переживала небывалое нашествие.
Когда хмель стал проходить, нестерпимо заболела голова, будто ее кололи на черепки деревянным молотком. А гармошка все визжала нутряным, резаным перебором, и кто-то орал злобное, поминая недавнего покойника. К утру многие пропились до рубах. Гармонист выспался, пересчитал остаток денег, тяжело и безнадежно вздохнул. Яков приподнял от земли голову и снова уронил на кулаки: тошнило.
На последнюю пятерку,
Д-эх, найму тройку лошадей… —
пиликал гармонист, склоняясь к голосовой коробке саратовской двухрядки.
Дам я кучеру на водку:
«Погоняй, брат, поскорей!..»
– Куда? – невпопад спросил Яков, глядя через рукав прищуренным глазом. – Куда поскорей?..
– Молчи, сволочь! – мрачно сказал музыкант.
Только к полудню тронулись в путь, оставив в деревне половину заработка и десяток выбитых окон.
Лодки грустно покачивались на воде. Было похоже, что никто ими не управлял, но течение неотвратимо несло их к Половникам.
Яков натужно вздыхал, время от времени споласкивал всклокоченную голову прохладной водой, с тоской подумывая о справедливом земстве.
Известие о смерти отца застало Ирину в одиночестве – Георг не так давно выехал в Усть-Вымь.
Отчаяние свалило ее в постель, но ненадолго. Слишком многое обрушилось на голову Ирины, чтобы до бесчувствия отдаться простому человеческому горю. Ирина не заголосила по-бабьи и не билась головой об пол. Она как-то окостенела вся.
Она встала бледная, осунувшаяся, с исступленно горящими глазами. Надела длинное черное платье и попросила Сямтомова заказать лошадей. Потом пересчитала оставшиеся деньги. Их было две тысячи. Ирина закусила губу и недвижимо простояла у окна, пока к дому не подъехал тарантас, запряженный парой вороных лошадей.
Через два дня она уже входила в усть-вымьский дом Павла Никитича Козлова.
Бросив на руки прислуге дорожную летнюю накидку и высоко подняв голову, еще более побледневшая от усталости, Ирина смело вошла в гостиную. Хозяин в доме не имел кабинета и принимал как-придется: в столовой, гостиной или во дворе – смотря по гостю и обстоятельствам.
Козлов пошел навстречу, протягивая руки.
– Искренне, искренне сожалею… – заговорил он по-русски.
И тут-то Ирина дала волю слезам. Он подхватил ее и терпеливо держал до тех пор, пока прошел первый приступ истерического плача. Потом усадил на потертый кожаный диван, приказал подать воды со льдом.
Ирина пила, зубы ее выбивали дробь о край стакана, и по щекам неудержимо катились слезы.
– Как привезти? – невнятно спросила она, поставив дрожащей рукой стакан на фарфоровую тарелочку.
Козлов почесал в лысеющем затылке, помял пальцами бороду, но ничего не ответил.
– У нас… Место на кладбище. Сам присмотрел… Надо привезти отца, – как о живом сказала Ирина.
– Никак невозможно, милая, – с хрипотцой пояснил Павел Никитич. – Подумай сама, дочка: покамест человек известие вез, неделя без малого прошла. В летнюю-то пору…
Ирина все шире раскрывала глаза, в отчаянии ломая руки.
– Теперь, надо полагать, с богом похоронили уже, – успокоил ее Павел Никитич.
– Без священника?!
Козлов сидел, понимающе потирая руками колени, ждал. Он давно приготовился к трем истерикам: одна уже совершилась в самом начале, вторую следовало ожидать при упоминании о похоронах, третья – еще впереди, когда речь пойдет об отступных деньгах…
Он подал снова воду, заворковал в самое ухо, поддерживая ее круглый локоток:
– О священнике не болей, милая. Все чин чином: иерей Серебрянников постоянно на Ухте обретается, надо полагать, прочитал что положено…
Ирина обессиленно откинулась на пухлую спинку дивана. Она уже не плакала, лишь изредка вздрагивала.
Ирина и раньше знала мрачную людскую поговорку, что беда в одиночку не ходит, но разве она могла тогда представить свое теперешнее положение?
Отец прогорел дотла, учение было оставлено, пришлось жить в чужом доме, оставить все надежды и намерения… И вот произошла последняя, неожиданная и страшная беда. Теперь отец зарыт где-то в лесу, и она – одна на всем свете. Надеяться не на кого. Даже Павел Никитич – человек, за которого, по всем приметам, и пострадал отец, – изо всех сил старается промолчать, успокоить, выпроводить потихоньку из дому.
В окно заглянуло солнце и вновь ускользнуло за огромное белое облако. Порыв ветра надул кружевную штору. Вспыхнувший было косой столб пылинок снова пропал. Было сумрачно и неуютно в этой чужой, богато обставленной комнате с низким потолком.
Она поднялась, положила руку на спинку старого кресла с витыми ножками, снова всхлипнула. Павел Никитич едва разобрал прерывистый лепет:
– Мне больше… не на кого опереться! Будьте отцом… Павел Никитич!
«Господи, кажется, дело к концу!» – обрадованно подумал Козлов и погладил руку новообретенной дочрри.
– Как можно! Как не позаботиться, милая… Свои ведь. Знал папашу-то. Как родного брата. Изволь, коли надо в чем помочь…
Хитрый был купец! Пойди разберись в его скороговорке: мало или много пообещал он на поправку дел?
Она подавила третий приступ, сунула вымокший платочек в рукав. Утопила купца в мокрой синеве своих глаз.
– Как ваши расчеты с отцом? Получил ли он хотя бы половину договорных денег от вас?
Никит-Паш подавил усмешку:
– Да нетто в том разговор? За два месяца-то ему и причиталось две сотни с хвостиком. Капля! Я ему полтысячи сунул для начала, какие уж тут расчеты! Я о другом думаю. Мне бы тебя-то довольной оставить…








