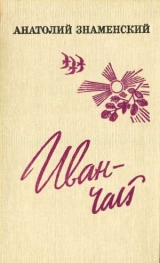
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
Золотов сидел горбясь, жадно курил. Голова его утонула в густом дымном чаду.
И вдруг он выпрямился.
– Николай! – неожиданно назвал он начальника по имени. – Выход есть. Но… против всяких правил! Тут и профсоюз и медицина будут против. Сказать?
– Говори.
– Мы, буровики, меньше работаем, чем, скажем, в лесу, в карьере. У них фронтовой день по десять часов, а у нас – восемь! Смена! У нас и войны вроде бы нет! – с каким-то внутренним ожесточением сказал Золотов. – Считается: смены, мол, нельзя ломать! А что… если на две смены перейти по двенадцать часов, а?
– Полсуток! – озабоченно воскликнул Николай.
– Если надолго не разрешат, то временно, на один месяц! Люди ведь добровольно возьмутся! Должны! Тогда у нас по одной смене освободится, соединим их в третью бригаду, а?
Николай замер, пораженный простой и верной мыслью Золотова. Как же сам-то не мог додуматься?! Ведь можно, можно все это провернуть! Дать людям особое питание, полуторный заработок против прежнего, попросить Кравченко освидетельствовать буровиков, найти замену слабым из тех, что предложил Кочергин! Выдержать месяц, выдержать до подкрепления!
– Это правильная идея, спасибо, Григорий Андреич! – сказал Горбачев. – Только приказом этого проводить нельзя, нужно снизу решить. Я не боюсь, но само дело так указывает. Не административная это мера. Завтра же мы с Ильей пишем в управление и профсоюз. С Тороповой надо потолковать, с буровиками заранее. Потом соберем открытое партсобрание. Пойдет?
– Все сделаем, – кивнул Золотов. – Но где бурмастера взять?
– Найдем! – взволнованно воскликнул Кочергин. – У меня бурильщик Лебедев – хоть сейчас бригаду давай! Выдвинем его, а Кравченку шефом, чтоб помог следить за оборудованием!
Золотов вновь потонул в облаке дыма, жадно курил, не замечая устремленного на него восторженного взгляда Кочергина. Он снова ушел в себя.
Николай отпустил Кочергина отдыхать, а сам подсел к Золотову, положил ему на плечо руку с тем виноватым видом, с каким близкие люди обычно пытаются успокоить друг друга в большом несчастье.
– Ты выговорись, Григорий Андреич, освободи хоть немного душу, – начал он доверительно. – Ведь она у тебя в страшном котле кипит… Слышишь? Пойми, что… нечем нам друг другу помочь. Надо самим крепиться, всеми силами! Надо выдержать нам, выдержать до конца, пойми! Не мы одни!
Понял ли Золотов, что Николай говорил не только о нем, Золотове, но и о себе? Слышал ли вообще что-либо в эти тягостные минуты?
Николай накинул ватник, снова тронул Золотова за плечо:
– Пойдем, Андреич, провожу…
– Так вот она какая, война-то, Николай, – тряхнув головой, невнятно, словно спросонья, сказал Золотов и встал. – Вот она какая злая, гадюка! И не отведешь ее никакими словами на легкую-то дорожку… Может, она последняя, эта война?
Они вышли. Сильный ветер налетел откуда-то сверху и так раздул огонек золотовской цигарки, что красные искры, как от огнива, брызнули в сторону, а газетная бумага вспыхнула одним зеленым огнем, багрово осветив глубокие морщины его лица.
– Ветер. Ветер в мире, – подавленно сказал Золотов и, бросив цигарку, вдавил ее каблуком в грязь.
Тайга и ранней весной не знает тонких ароматов, цветочного нежного дыхания. Вспухшие паводком болота, торфяные подушки и мокрая хвоя гуляют, словно в огромной деже, курятся синим парным теплом перебродившей к сроку брагой земли.
Но хоть и нет здесь живых весенних запахов, и ветер не разбрызгивает над землей пьянящего аромата цветущей степи, весеннее оживление заметно во всем, дышит теплом солнце, природа живет предчувствием цветения.
На пригревах, будто по команде, за одну белую ночь рассыпался коврик лютиков, в тени, у ручьев распустились глазастые венчики мать-мачехи. Целое море желтых цветов. Они без запаха, но краски их чисты, свежи и ярки.
И комары… Монотонный злой гул, нашествие истязателей. Северный комар, не в пример южному, не признает и дыма, лезет чуть не в огонь костра, лишь бы вонзить хоботок в живое тело.
З-з-з-ум… – поет воздух.
Только Шумихина вовсе не беспокоили комары. То ли он привык к укусам, а может, просто презирал накомарник, но работал с открытым лицом.
– Несъедобный я для всякой нечисти, – похвалялся он в эти дни.
У монтажной лебедки он стоял в особой командирской позе, выставив здоровую ногу, размахивал костылем. Издали посмотреть – дирижер, а не десятник.
Николай плохо спал ночью, подходя к вышке, задержался у ручья, чтобы малость прийти в себя. Сорвал несколько венчиков знакомой с детства мать-мачехи с клейкими, чешуйчатыми стебельками и, не почуяв запаха, удивленно растер податливую зелень в пальцах. Лепестки подхватило ветром. Сорвал зелень иван-чая, поднес к лицу. Все чужое, северное… и к этому еще надо привыкать!
Отсюда ему хорошо было видно двух верхолазов на расшивках недостроенной вышки. Овчаренко и Пчелкин пришивали «галифе». Это самый ответственный и опасный момент в работе плотника-верхолаза. Сумей удержаться на поясе вышки одной, согнутой в колене ногой и, изогнувшись всем телом на высоте двадцати пяти метров, еще прибивай доски и брусья!
Шумихин и подсобные плотники снизу, задрав головы, глаз не спускали с верховых.
Пчелкин работал осторожно, привычно. Тщательно проверял опору, хорошенько уравновешивался перед каждым движением. Работал молча, предохранительным поясом не пользовался из принципа, как все бывалые верхолазы. Но, издалека заметив фигуру начальника, он торопливо пристегнулся прочной петлей к укосу, чтобы не заслужить выговора.
Овчаренко не прибегнул к этой наивной хитрости: по его соображению, менять тактику на глазах начальства было унизительно.
Да и работал он отчаянно, стараясь не уступать напарнику. На лету хватал подаваемые доски и сноровисто вколачивал гвозди, требовательно и властно покрикивая на подсобников.
На Пчелкина нельзя было крикнуть, у него надобно было учиться. А низовые все стерпят. И Алешка орал:
– Каким концом?! Куда тянешь, пенек?!
– Запили «ласточкин хвост»!
– Уснул там? Не тяни мертвого!
И его терпели. Отчаянная лихость новичка была им по сердцу. И даже Шумихин его не трогал, не одергивал: как и всякий русский человек, старик любил красивую работу с разумной лихостью, особенно если ее исполнял вчерашний лодырь и бузотер.
Только дождавшись, когда Алешка забил последний гвоздь и, выпрямившись на перекладине, как всадник, победно глянул вниз, Шумихин не выдержал.
– Сукин сын! – закричал он. – Ты что же это, в котлету хочешь? Пристегнись мигом, не то назад, к Глыбину, спишу!
Алексей вытер вспотевший лоб рукавом, сорвал с головы ушанку и швырнул вниз. Она черным подбитым вороном перевернулась в воздухе, мягко упала на мокрые кусты шиповника, выпускающего первые листочки.
– Шумихин, за вышку – благодарность, за верхолазов – выговор! – сказал Николай, приблизившись к лебедке. – Почему без поясов?
– Не подчиняются, товарищ начальник! – не чувствуя вины, сказал Шумихин. – Причем у одного в исправности…
– Давно? – Николай подозрительно усмехнулся. – Смотри, Семен Захарыч, за Овчаренко ты мне головой отвечаешь. Ты понимаешь, что получится, если он полетит?
– Убьется, – глубокомысленно согласился Шумихин.
– Эк его! – досадливо покрутил головой Николай.
Алешка слышал их разговор.
– Провались земля и небо, мы на кочке проживем! – заорал он сверху.
Шумихин возмущенно затанцевал вокруг костыля:
– Хулиган первой статьи! Если и будет из него добрый верхолаз, так всю душу успеет вымотать из меня! – И снова задрал голову: – Слазь! Сегодня с тебя хватит, внизу будешь! А то придется еще акт по технике безопасности стряпать на мою голову!
– У вас там комары заживо сожрут! – отшутился Алешка.
– Слазь, коли говорят!
Алешка, как игрушечный акробат на лесенке, вдруг нырнул вниз головой, перевернулся на руках и, достигнув ногами маршевой лестницы, бросился по ней вниз, скользя локтем по перилам. Через полминуты он стоял уже на земле. Отряхнув шапку от росы, нахлобучил ее на самые глаза.
– Ну как дела, верхолаз? – с усмешкой спросил Николай.
– Учусь, – уклончиво ответил Алешка.
– Работа как?
– Люди скажут…
Шумихин делил пайковую махорку: с куревом опять стало туго, его распределяли по бригадам.
Тут-то Горбачев извлек из кармана спецовки непочатую пачку махорки «белка», той самой, от которой с двух затяжек бросало в пот, и протянул Алешке.
– Из моих сбережений, – сказал он.
И Алешка взял, все было вполне законно. Да и пачка издавала какой-то свежий, неуловимо приятный запах, и трудно было удержаться, не взять.
Николай присел к костру, поднял сетку накомарника, обмахиваясь мокрой зеленью иван-чая.
– Семен Захарыч, когда, говоришь, вышку сдаете?
– Послезавтра, думаю, можно начинать монтаж силового оборудования.
– Значит, фонарь за декаду? А помнишь, на первой – три недели требовал?
Шумихин, будто не доверяя себе, оглянулся на завершавшийся фонарь, сказал:
– Первый блин, известно. Потом, зима была, многих приучали сызнова. А теперь во всей бригаде один ученик, да и тот черту не брат!
– Вечером собрание будет, – заметил будто бы между прочим Николай. – Поговорим о фронтовых новостях, обсудим предмайские обязательства. Надо бы провести фронтовой декадник по всем участкам!
– Эта бригада целый фронтовой зимник провела, какой там декадник! – важно вставил Овчаренко.
– А ты откуда знаешь?
– По всему видно – львы, а не плотники.
– Неплохо потрудились, – согласился Николай. – Все работали как надо, и особенно бригада Тороповой.
– Это девки-то? – Алешка вытер губы тылом ладони.
– Напрасно! – перехватил его усмешку Николай. – Они за месяц расчистили пять гектаров бурелома и дорогу протянули почти на километр – ровно по сто восемьдесят процентов на каждую…
– Проценты, может, мелкие были?
– Самые настоящие, без потного лба не взять. А у вас на вышках больше ста пятидесяти еще не было. Собираются к Маю вас на соревнование…
– Что-о-о?!
Всех словно ветром к костру подвинуло. Алешку же последние слова начальника прямо-таки хлестнули по лицу.
– Нас на соревнование? Г-га-га-га!
– Ох, холера их забери, крашеных, а?
– Ха-ха-ха! Держите меня!
– Не орать! – вдруг завопил Шумихин во все горло. – Не орать, как в овечьей отаре! Вы передовые люди, дьяволы, а орете, как бараны! Говорите с умом и порядком! – И значительно вознес костыль к небу.
– Летучий митинг объявляю. Кто хочет высказаться по данному недоразумению в масштабах участка?
Воцарилось общее замешательство. Говорить «с умом и порядком» желающих что-то не находилось. «А кто его знает, как оно выйдет?»
Наконец кое-кто осмелел:
– Чего говорить-то? И так ясно!
– Высоко берут!
– Это начальник – на пушку нас!
– Он такой!..
Алешка вскочил на обрубок бревна, с сердцем ударил шапкой оземь.
– Сделаем, братва, вышку завтра к вечеру, хоть лопнуть! А потом я… Чего вздумали! Верхолазов вызывать!
– Буровики-то, слыхали? – завопил чей-то молодой голос. – Буровики по полсуток берутся трубить!
Шумихин недоверчиво оглянулся на Николая: верно ли? Кто придумал-то?
– Золотов, – ответил Николай на его немой вопрос.
* * *
Немеркнущий вечер северной весны смотрел в туманное окно. На столе в беспорядке лежали книги, которыми в последнее время пришлось очень много заниматься. Теперь они казались чужими и ненужными.
Золотов лежал на койке, сосал окурок. Крепости табака не чувствовал, была только горечь, притупляющая душевную боль.
Казалось странным, что после случившегося в его жизни вокруг все оставалось прежним, напряженным, деловым и даже целесообразным, как было вчера и неделю тому назад. Привычно рокотала за окном буровая, вахты сменялись дважды в сутки, в полдень все сильнее пригревало осмелевшее солнце. И елка в обновленной зелени скреблась мокрыми лапами в стекла. И все это, совершавшееся в определенном порядке и темпе, называлось жизнью. Ничто не могло остановить ее течения и порядка…
Эта мысль росла в сознании, исподволь вытесняя горечь потрясения, и Золотову становилось легче. Она, казалось, не только смягчила прежнюю боль, но в ней присутствовало нечто большее, огромное и всеобъемлюще важное. В ней таился скрытый приговор самой войне, нашествию чернорубашечников, идущих остановить ход жизни. Сама жизнь таила в себе победу, и потому люди, отстаивающие ее, эту горькую и сладкую жизнь, должны были победить.
Золотова потревожил неуверенный стук в дверь. Он привстал, одернул гимнастерку, включил свет.
Стук повторился, неуверенно открылась дверь, и в комнату тихо вошли трое: Катя Торопова, Шура Иванова и Алексей Овчаренко. Они смущенно остановились у порога, девушки переглянулись, Алешка молча комкал в руках шапку.
– Что же вы как побитые? – угрюмо проговорил Золотов. – Садитесь, раз пожаловали.
– Мы к вам, так… по пути, – смущенно сказала Шура. – На собрание вместе хотели…
Золотов грустно усмехнулся. Дети! Не умеют даже скрыть своих добрых намерений! Ну, пришли, чтобы избавить от одиночества, помочь участием… Разве он не понимает? Это Шура, наверное, привела их, иначе зачем бы тут оказался Алешка? Ах, девушка, девушка! Ведь когда-то он не хотел брать ее к себе на буровую!
Три месяца прожили люди рядом, а вот уже и свои, будто породнились…
Он встал, накинул на плечи заношенную куртку. Жалея ребят, сказал:
– Так что же? Пойдемте в поселок. Невесело мне одному, да и дело ждет.
Горбачева застали в одиночестве. Он сидел за столом над кипой бумаг и даже не обернулся, когда они вломились толпой в кабинет.
Разговор поначалу не клеился, потом появился Кочергин и, как всегда, взбудоражил всех новостями из бригады.
На нем была промасленная брезентовая роба и болотные сапоги с отворотами. Он походил бы на старого морского волка из какой-то забытой приключенческой книги, если бы не типично русская курносая физиономия, каленая ветрами и северной стужей.
– Вот хорошо, и Торопова здесь! Мы сейчас обсуждали с ребятами… Не укладываемся с проходкой. Золотова никак не догоним! Лебедев удумал: Первомай отработать в Фонд обороны! Чтобы двое суток-то праздничных – в копилку!
– А Золотов, по-твоему, стоять разинув рот будет? – удивился старший бурмастер. – Этого еще не было, чтоб на месяц позже забуриться и догнать. Носы у вас прямо-таки генеральские!
Николай понемногу включился в общий разговор, отлегло. Любуясь Кочергиным, обратился к Кате:
– Торопова! Удар по комсомольскому комитету. Периферия сама намечает праздничные мероприятия, без вашего идейного руководства!
Катя порозовела от счастья: Николай все же заметил ее!
– Такие дела, Николай Алексеевич, с низов и начинаются! – сказала она.
– Запишем, значит: собственными ресурсами забуриваем третью скважину – раз, неделей раньше завершаем проходку обеих скважин – два. Еще?
– Первого и второго мая работать всем, как у себя Кочергин постановил, – добавил Овчаренко, крепко держась за Шуру. – И объявить днями рекордов!
– Уж ты рекордист! – потянула она за рукав Алешку.
А Золотов подсел к Федору:
– Учителя, значит, собрался обштопать? Дело! А вот я тебе одну штуку скажу. О наращивании тремя элеваторами слыхал? Верное ускорение… Приходи, покажу!
…Расходились с собрания за полночь. Вместе со всеми вышли буровые мастера, потом Алешка с Шурой, Илья Опарин и Шумихин. Илья от порога ревниво и удрученно покосился на Катю – она дописывала решение, принятое на собрании.
В прокуренной комнате они остались вдвоем – Катя и Николай. Она старательно нажимала на перо, склонившись к столу. Николай беспокойно ходил взад-вперед, заново переживал недавний разговор с Кравченко.
Сидит рядом девчушка – красивая и влюбленная, ждет, только для вида царапая бумагу. Интересно, что она там напишет…
Она очень красива, она будет еще красивее, едва станет женщиной.
И надо что-то делать, чтобы уберечь и ее и себя… Задача.
Нарочно взял «Справочник по бурению», перелистал, нашел главу «Малая механизация в спуско-подъемных операциях». Завтра наверняка придется консультировать буровых мастеров насчет наращивания тремя элеваторами…
Катя не выдержала, положила тяжелое перо. Подперев ладошкой щеку, тихо спросила:
– Верно, что Овчаренко на фронт пойдет?
– Рано еще об этом говорить, – сухо сказал Николай, не отрываясь от книги.
– Счастливая Шура, – прошептала Катя задумчиво, погрузившись в свое, тайное. – Только тяжело ей будет…
Оттого ли, что в словах ее сквозила ставшая понятной Николаю тайна, оттого ли, что задрожали ресницы ее смущенных глаз, но Николай в эту минуту прямо-таки возненавидел себя.
«Как объясниться с нею раз и навсегда, но меньше причинить боли?» – думал он, а на язык просились самые неприемлемые, мертвые слова.
– Тяжело ей будет, – с той же задумчивостью повторила Катя. – Ведь это ж война…
Кажется, она подала ему нужную мысль.
– В этом тоже есть свое счастье: ждать, – сказал Николай, глубоко спрятав тревогу. – Это хорошая боль, Катя: ждать и надеяться. По себе знаю.
И, уже не раздумывая, не замечая даже, как насторожилась Катя, он быстро достал из ящика Валины письма и положил перед собой:
– Вот. Получишь издалека письмо – знаешь, что все в жизни не зря, знаешь, что есть и счастье в жизни!
Полуопущенные ресницы Кати чуть дрогнули, а Николай больше по движению губ уловил ее вопрос.
– Она… на фронте?
С каким облегчением он кивнул! А ведь, в сущности, как и в первый раз, он говорил Кате неправду. Все наоборот!
Катя бессознательно взяла перо и, ничего не понимая, читала слова, написанные ею же минуту назад.
Сердце захлебнулось от горечи. То, чего она так боялась, о чем отгоняла тревожные догадки, было на самом деле, существовало, вопреки ее чувствам и надеждам.
Катя нагнулась, чтобы скрыть непрошеные слезы. Слезы размывали все, что было перед нею, и Кате казалось, что этот живой и статный парень в клетчатой ковбойке, такой любимый и нужный ей, с каждым мгновением уплывал от нее, становился все более чужим и непонятным.
Она подвинула на край стола исписанный лист:
– Я все написала, Николай Алексеевич… Пойду.
Николай проводил ее на крыльцо и по-дружески, с какой-то благодарностью, пожал ее теплые руки.
Над землей властвовала неуютная, северная белая ночь…
Катя завернула за угол, слезы душили ее. Она прижала к подбородку платочек, всхлипнула. В это время незнакомый человек в белом полушубке вывернулся из-под старой пихты, торопливо взбежал на крыльцо конторы.
Катя всхлипнула еще раз и вдруг насторожилась. Ей почудилось, что внутри дома глухо звякнул дверной крючок.
«Вернуться? Может, что случилось?»
«Ни за что!» – вскричала душа.
Катя побежала от конторы к общежитию. Потом вдруг остановилась и, подумав, свернула к бараку, в котором жил Шумихин.
* * *
– Ну, так и есть!
Николай с жалостью сунул Катину грамоту в ящик стола.
В самом низу, последним пунктом было вписано только одно неровное, огромное слово: «Люблю».
– Разрешите! – неожиданно раздался за спиной Николая вкрадчивый хриплый голос. – На прием, так сказать? Хоть и в неурочное время!
Николай обернулся.
Перед ним стоял, улыбаясь, странный человек в щегольском полушубке, до зеркальности начищенных сапогах, с папироской во рту. Лицо было испитое, желчное, плутовато-наглое.
Незнакомец кокетливо вынул папироску изо рта, отставив мизинец. Улыбнулся, показывая золотой зуб.
– Надеюсь, договоримся втихую, господин начальник, – сказал он и, шагнув вперед, развалился на стуле. – Хотя толковище предстоит нелегкое!
– В чем дело? – Николай сел, машинально выдвинул ящик стола.
– Не думаю, что вы не слыхали в здешних местах о моем концерне. Преступный мир, между прочим, тоже немало наслышан о вашей героической деятельности и сугубо встревожен ею. Прибыл я, таким образом, для наведения контактов. Я – Обгон.
– Обгон? И что же?
– Ежели вы недооцениваете наши усилия, то напрасно, – терпеливо заметил Обгон. – Кругом темный лес, милиции на сто верст ни души, и все может, как говорят, случиться… – Тут он снова показал мокро блеснувший золотой зуб. – С другой стороны, мы гарантируем поддержку, в том числе и мобилизацию части населения – я имею в виду жулье – на титанический труд в пользу социалистического строительства. Будут пахать как гады.
– Что надо-то, не пойму я? – спокойно сказал Николай. Ему уже надоела цветистая болтовня гостя. Впечатления, на которое тот рассчитывал, не получилось: Николай был сильнее его и при нужде мог управиться без милиции. – Что надо? И без выкрутасов! – повторил Николай.
– Вот и портятся отношения, горят связи! – притворно огорчился Обгон. – А ведь все наши просьбы ломаного гроша не стоят в рамках вселенной!
И вдруг, сгорбив спину, неприметно шевельнув рукой, с силой вонзил перед собой в край стола огромный нож.
– Этак будет понятнее, – спокойно пояснил он. – Теперь поговорим всурьез.
В третий раз сверкнула коронка.
– Просьба такая, – сказал Обгон, – вернуть бывшего завхоза на старое место, не мараться об это дело. Повод у вас есть, поскольку высшее начальство против! Высшее! Понятно?! И все. И полная неприкосновенность вашей светлой личности. Иначе… – Обгон выразительно повернул ножом, выщербнул из стола щепку. И так умело, что она отлетела Николаю в лицо.
Николай взорвался. Все накипевшее за последние дни: боль утраты, разделенное несчастье Золотова, жалость к Кате, тоска по безмолвствующей Вале, – все разом нашло выход. Да можно ли было терпеть, чтобы на этой измученной, распятой невиданной болью земле ползали гады, сосущие силы и кровь честных людей?
– Св-волочь! – страшно и тягуче выругался он и выхватил из ящика револьвер. Сухо щелкнул взвод.
Обгон мгновенно убрал нож, по-звериному отскочил к двери.
– Бадягу имеешь?! – заорал он. – Бадя…
Николай застрелил бы его на месте. Но в этот миг дверь рванули, звякнул сорванный крючок, и огромная палица с зарубками обрушилась на голову бандита. Тот вскинул руку для защиты и сполз на пол. Шумихин схватил его за шиворот, потянул через порог.
– Постой, погоди, Семен Захарыч! – кричал Николай, спуская взвод, засовывая револьвер в карман. – Погоди, обыскать надо!
Шумихин был уже на крыльце.
Когда втащили Обгона обратно, у него не оказалось ножа. Не было у него и документов.
– Нож гони, гнида! – нервничал Николай. – Слышишь? Убью!
Обгон понемногу приходил в себя. Ощупав голову, волком посмотрел на Шумихина, потом процедил Николаю:
– Не было ножа, это тебе привиделось со страху, падло! А бадягу ты имеешь, значит? Та-ак… Не ждал. Не знал, что ваш брат обороняется от трудящих… Ну да ничего, три дня тебе жить и с бадягой…
Обгона заперли под замок в пустой склад дефицитных продуктов, в котором еще недавно обитал Ухов. Николай вызвал по телефону милиционера. Шумихин написал акт и ушел, налегая на хромую ногу.
– Может, хоть один мой акт в дело пойдет за это время, – с упреком сказал он Николаю. – Стрелять надо эту сволочь, а с ней все цацкаются.
– Надо, – согласился наконец Николай.
* * *
На первой буровой, при кернохранилище у старшего коллектора Шуры Ивановой была своя комнатка – два с половиной шага в глубину – с чугунной «буржуйкой».
Теперь в эту комнату Алешка получил негласный допуск. Вот уже второй раз глубокой ночью приходил он сюда, к Шуре. И она безбоязненно впускала его и даже сама запирала изнутри двери.
Его парализовала доверчивость девушки, и он от необычности ситуации рассматривал толстые книжки на косоногом столике у окна, в которых ни черта не понимал. Там были замысловатые схемы земных пластов, глубокомысленные слова: археозой, палеолит, девон, продуктивные толщи…
Они целовались, и, чтобы не ошалеть вовсе, Алешка вел совсем неподходящие рабочие разговоры.
– А эти, деше… марьянки-то, – известил он Шуру на этот раз, – чего вздумали? Вызвали нас на соревнование! Слыхала?
Когда он сказал это, то вовсе не ждал, что она обиженно и грустно глянет ему в глаза:
– Алешка, зачем ты только приходишь? Я тоже, значит… марьянка?
– Ну… – растерянно возражал он, – при чем тут ты?
Ее пальцы ласково перебирали его вьющиеся, жесткие на ощупь вихры. В словах Шуры была просьба, ласка и обида – три вещи, которые сроду не встречались ему в жизни. Ее дружба и недосягаемая близость подчиняли Алешку и сбивали с толку. Все это было так странно, непривычно и, главное, дорого, что он терялся и не знал, как вести себя.
Шура поняла его, а понять поступки Алешки значило – простить. Любовь непримирима и зла, но она всепрощающа и великодушна. Алешкино сердце достучалось до Шуры, – может, поэтому кроме обиды в ее душе прижилась жалость к его судьбе (только к судьбе, сам он не нуждался в жалости!), желание уберечь его от прежних дрянных поступков.
Нет, не житейское «доброе дело» хотелось сделать Шуре. Она, кажется, любила его и отнимала у прошлого для себя. Для себя одной хотелось ей сделать из Алешки достойного человека, которого давно создало воображение. А он никак не хотел принимать идеальной формы. Он приходил к ней и хвастался. Успехами и… очередными грубостями.
– Леша, я тоже, значит?..
– Нет… Ты – моя Шура. Ты – всё!
Алешка прижимался обветренной щекой к ее плечу, смирялся и вдруг начинал орать почти со злостью:
– Ты – беда на мою голову! Отрава! Хорошо, что никто не видит, как я раскис! Пропал бы ни за грош! Съели б живьем!
Потом задумывался, уставив куда-то в темный угол успокоенные, уже не бегающие глаза, рассуждал:
– Только они тоже… рано или поздно! В этот вагон некурящих! У каждого в жизни, наверное, бывает такая беда? – И сжимал ее руки. Сжимал робко и бережно. А взгляд просил прощения за то, что, может быть, сказал не все, не так, как хотелось… Да мало ли за что. За все, что произошло между ними в эти три месяца…
– Я, Леша, знаешь, что хочу тебя попросить? – встала Шура перед ним, не отнимая рук. – Когда ты научишься наконец человеческим языком разговаривать! Девчат разными грубыми кличками… Думаешь – ой как хорошо? Никого ты не уважаешь, ни меня, ни себя! Противно! Я и говорить с тобой не буду!
И хотя Алексей отлично сознавал детскую наивность угрозы, предчувствовал длительную учебу нормальному человеческому языку, он все же был готов подчиниться. Лишь бы ей было лучше с ним, лишь бы сильнее привязать ее к себе, не упустить. Без нее терялся всякий смысл в жизни, казалось Лешке.
Ведь как хорошо пошла вдруг жизнь! Он пойдет в армию (теперь он не сомневался, что заработает эту честь!), будет писать ей, и она будет ждать его с фронта. Эта девушка не изменит, она дождется!
Фантазия его не пыталась даже рисовать иных картин. В их далекой встрече и заключается смысл происходящего, потому что, в сущности, одному ему в жизни требовалось очень мало…
Глаза Шуры ждали ответа. Он не мог не подчиниться ее ждущему взгляду и кивнул в знак согласия своим спутанным золотистым чубом.
И снова – какой уже по счету и все же первый – поцелуй Шуры!
Что скрывать, знал Алешка раньше и женщин и безотказных девчонок, и они любили его за отходчивую, веселую душу, за крепкие бицепсы и крутую, ладную шею, избалованную лаской смыкающихся женских рук. Но все, что было, было не так!
Нынче его навсегда заграбастала любовь, он узнал тихую нежность. Он был счастлив.
…Алешка вышел в белую ночь словно хмельной и плелся к поселку по лужам, брызгая сапогами, низко склонив свою пьяную голову.
Ночь была непривычно теплая, вовсе не северная. Дорогу пересекали ясные полосы света из окон. А совсем рядом, рукой подать, властвовали ночные шорохи леса, и все это одевало странной таинственностью и нынешнюю ночь и огромное счастье Алешкиной жизни.
У самого крыльца его окликнули.
Овчаренко не сразу понял, кому и что от него нужно. Из-за тамбура вышла черная фигура, преградила путь.
– Заснул на ходу, что ли? Или бухой?
Перед Алешкой стоял Иван Обгон, похудевший и злой. Рукав полушубка у него был разорван от самого плеча. Из прорехи клочьями лезла белая шерсть.
– Спать иду, – мирно промямлил Алексей и, шагнув в сторону, попал в полосу света. Обгон мог хорошо разглядеть его блаженно сонные глаза и всклокоченные волосы.
– Втюрился, что ль?
Алексей очнулся. Он был так занят собой, что его почти невозможно было обидеть.
– Не твое дело, – с прежним добродушием сказал он.
– Понятно. Одно беспокоит: деятельности твоей не чувствую, милорд. Поступлений в общую кассу с прошлого года не было.
– Знаешь, маркиз, воровать в окрестностях совершенно нечего, – весело объяснил Алешка. – Вшивая телогрейка вряд ли устроит ваше величество. Паек трудяги для меня свят. Если вас эти козыри не устраивают, сэр, то моя шпага к вашим услугам!
Обгон не давал проходу Алешке. Злился:
– Не брыкайся, когда с тобой человек толкует! Забыл права, рогатик колхозный!
Вот этого Алешка не мог простить. Никаких обидных кличек он не выносил.
– А хочешь? Без отрыва от производства расквашу твой бацильный умывальник? Хошь?! – перед носом Обгона дважды, как напоказ, повернулся граненый, каменно твердый кулак. В глубоком разрезе ворота широко, без волнения, вздымалась высокая грудь Алешки. Под загорелой, похожей на светлую замшу кожей выпирала мощная ключица.
«Вырос, гадюка!» – сообразил Обгон.
– Гляди, не пришлось бы!..
Он пугал не зря, Алешка знал, о чем шла речь. Но и это не удержало его.
– Отхожу! – заорал он. – Отхожу, понял? Надоела вся эта муть!
И шагнул на порог. В тот же миг что-то со свистом прорезало воздух, с хрустом вонзилось в дверной косяк.
Алешка отшатнулся. Прямо перед ним, на уровне шеи, дрожал в косяке нож. Волнистая медная рукоять…
– А-а-а! – как от зубной боли застонал Алешка, чувствуя, что заново валится в темную, безвозвратную пропасть беды. – А-а-ах! Н-ну, держись, г-гадюка!
Обгон шарахнулся от крыльца, побежал.
Он промахнулся. Так промахиваются только раз, последний раз в жизни.
Утром приехал милиционер, прошел с Горбачевым к складу. Отперли дверь. Склад оказался пустым. В перекрытии чердака зиял пролом, посреди пола в беспорядке валялись пустые ящики – развалившиеся подмости, по которым Обгон поднялся к потолку.
Милиционер собирался уже уезжать, когда вышедшие на работу лесорубы обнаружили за поселком Обгона. Бандит лежал ничком в талой луже, меж лопаток торчал нож с волнистой медной рукоятью.
При осмотре Горбачев и Глыбин опознали в нем собственность самого убитого.
Дознание, проведенное милиционером, не дало результатов. Дело поступило в архив, а на языке юриста – в длительное производство.
18. Белые ночи
Первомай 1942 года по всей родной земле люди отмечали необычно. Они работали не покладая рук в поле, на лесных делянках, в забоях, цехах и на буровых, копали окопы. В эти дни буровики Кочергина и Золотова выполнили полуторный график, землекопы Глыбина дали по триста процентов вкруговую, девчата Катиной бригады – по две нормы на каждую.
Катя была рада, что в эти дни некогда было задумываться. Она с ужасом представляла себя в безделье, в одиночестве, наедине со своим сердцем, переполненным тоской и раскаянием…








