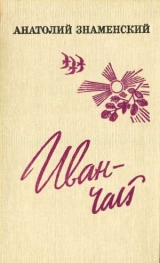
Текст книги "Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва"
Автор книги: Анатолий Знаменский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
– А что ж они здесь, у Шумихина, другие?
– Меньше кричать надо, больше заботиться о людях, да не ради сводки или будущего доклада, а так, ради добра, по-человечески… А если уж нельзя ничего сделать сегодня, так надо прямо сказать им: ребята, привал не скоро, мол! Они поймут…
– Но ведь это не сразу, – возразил Николай. – Как-то надо прийти к такому взаимопониманию с людьми.
– Не сразу, конечно… Однако народ у нас понятливый. Заметит, что руководитель не бюрократ, не собирается в рай на чужом иждивении, – будет у него авторитет и успех.
– И все?
– Нет, – не согласился Илья. – Условия жизни, само собой. У Шумихина, к примеру, оседлый народ. Вот они и ждут от него хорошего жилья, бани с ванной, может, асфальтовый тротуар и каменные вазы с цветами кто ждет. А у меня – легкая кавалерия. Три дня проходит, снимаем палатку и – дальше! Мои ничего не ждут, пока дорогу не построят. Кончим, заявимся в поселок, тогда попробуй не воздай по заслугам! Вдвое работать хуже будут, к бутылке потянутся… У Шумихина людям надоело уж в этих бараках бедовать, а он думает, что криком поможет.
«У Шумихина – это значит, что и у меня, – подумал с горечью Николай. – Как-то нужно выходить из положения…»
Не успели отъехать километра – догнала Катя.
– Николай Алексеич! Я – с вами… Можно? – задыхаясь от быстрого бега, крикнула она.
– Мы до темноты, – предупредил ее Николай.
– Я выносливая! – простодушно похвасталась девушка и наддала шагу.
Когда она поравнялась с Николаем, он сошел с лыжни и пропустил вслед Илье, а сам двинулся целиной. Набитый, зализанный ветром наст держал хорошо.
Разговор как-то сам собой прекратился. Илья больше не оборачивался, сосредоточенно работал палками, ускорял шаг. Николаю было трудно поспевать за ним, а Катя скользила по проторенному следу легко, будто играючи.
Он видел, что Катя искренне, до восторга, довольна и легким морозцем, и обступившей их посеребренной чащобой, и мертвой тишиной, и даже теми голыми стояками берез, которые лишь наводили уныние на Николая. Что ж, ее душа была переполнена глубочайшей любовью к суровой и неуютной парме, точно так же, как душа всякого русского человека к родному краю, запомнившимся с детства развесистой вербочкой над тихой водой, покосившимся плетнем у глухого оврага.
Горько, свежо пахла сосна. Она вдруг напомнила Николаю степь, густой и томящий залах июньского сена в валках, огуречное лето на огородах…
– Красота какая! – воскликнула Катя, подняв лыжную палку и указывая на другую сторону пади, убранную зеленым бархатом кедров, серебряным чеканом заиндевелых берез.
Илья растерянно обернулся и, обломав на ходу вымерзшую, покрытую бисерными слезинками сосновую ветку, вопросительно и строго заглянул Кате в лицо. Взгляд его был слишком выразителен: он говорил о давней дружбе, может быть о чем-то большем, но Катя никак не ответила на него, прошла мимо.
– Сильно любишь тайгу, Катя? – спросил ее Николай, чтобы как-то рассеять молчание.
– Очень! – с горячей радостью воскликнула она. – Мне кажется, нет ничего лучше нашей северной тайги! Многие говорят, что здесь дико, холодно… Как это – дико? А какие у нас зори! И тишина… А северное сияние? Вы видали?!
Николай как раз обходил сторонкой огромную, вывороченную бурей ель. Из снежного сугроба торчал поставленный на ребро пласт дернины, сорванный с земли во всю ширь разлапистого корневища, метров на пять в высоту. Из мерзлой земли выступали обломанные клыкастые корни, свисали длинные волосатые щупальца. Под ними, в темной парной яме, могло без труда устроиться на зиму многочисленное медвежье семейство. Летом из-за бурелома здесь, конечно, не было хода ни пешему, ни конному. Да и сейчас лыжи то и дело задевали за сучья, путались в хвойном подлеске.
– Нет, северного сияния еще не удостоился! – засмеялся Николай. – Сколько у нас на пути болот, бурелома, пней, всяческой непролази! И все это тайга…
Катя нахмурилась. А Илья размашисто шагнул вперед, оттолкнулся и нырнул под береговой откос. За ним съехала Катя. Николай спустился последним и пошел по лыжне, вдоль речного русла, внимательно осматривая берега слева и справа.
Шагах в тридцати от места спуска он заметил на высоком откосе грубо стесанный, почерневший столб. Сверху на нем криво торчала дощечка.
– Примечай лес, Илья, а я сейчас! – крикнул Николай, с трудом взбираясь на откос, к столбу.
Без палок подниматься было довольно трудно. Николай напряженно переставлял лыжи, нарезая елкой плотный наст.
Катя отстала от Ильи. Легко и быстро управившись на крутом подъеме, она поспешила вслед Горбачеву. Пока он доставал из нагрудного кармана записную книжку, она уже стояла рядом с ним, с любопытством поглядывая то на столб, то на руки Николая с записной книжкой.
– Что это, Николай Алексеич? – махнула Катя пестрой варежкой в сторону столба с табличкой.
– Заявочный столб, знак частной собственности, – отвечал Николай. Дощечка с надписью приходилась в уровень с его глазами, но прочитать что-либо на ней было невозможно. Время смыло и выветрило старую надпись.
– Я не понимаю… – созналась Катя.
– Землю столбили нефтепромышленники старых времен, – стало быть, была где-то поблизости нефть…
– Наверное, об этом рассказывали у нас в деревне? Старики… – смущенно проговорила Катя.
– Что рассказывали? – Николай сразу остановился.
– Давным-давно будто приезжали сюда русские купцы, скупали дорогую пушнину и бродили по тайге – все что-то искали… Потом два человека пошли по речке, поднялись до этого ручья и потерялись. Здесь болото рядом, – может, в топи попали. Из-за этого отец Ильи на каторгу попал, говорили. А потом в этих местах медведь помял охотника, с тех пор никто сюда не ходил, места эти гиблые…
– Когда были эти люди?
– Говорят, лет сорок тому… В точности никто не помнит.
Выше по ручью столбы стали попадаться чаще. Кое-где на табличках сохранились остатки надписей. На двух стоящих по соседству столбах Николай, к своему удивлению, разобрал совершенно разные названия промышленных фирм: «Комп. Вел. Кн. Марии Павловны участок № 7» и «Гарин – 28». Такая стесненность участков казалась странной.
Николаю все это было важно не из простого любопытства. Следы дореволюционных промышленников не могли быть случайными. Риск бурения сокращался против геофизических обоснований еще вдвое, а выбор места под скважину можно было уточнить с учетом этих дополнительных сведений.
Нефть!
Было бы куда лучше побывать самолично в экспедициях геофизиков либо поработать над их материалами в отделе главного геолога. Тогда он имел бы свое собственное мнение по каждой плановой скважине, по каждой точке в отдельности. А от этого зависело многое. Ему были нужны не пробуренные метры скважины (по которым где-то в управлении судили, впрочем, о его работе), не перевыполнение плановых скоростей проходки, – ему нужна была нефть. Нефть и газ – и с первой же скважины!
Конечно, после первой забурятся последующие, но потеря скважины значила бы слишком много для настроения людей, вкладывающих в нее свой труд и драгоценное время военной поры.
«Держись, Горбачев!» – в который раз с беспокойством подумал Николай, стараясь не отставать от быстрого на ногу Ильи.
…Возвращались вечером, усталые и голодные. День прошел не зря: Илья успел определить места порубки, Николай твердо решил побывать в деревне, навести справки о старине, Катя, утомленная и молчаливая, двигалась меж ними.
Ощетинилась вечерняя тайга. Мглистое, темное небо повисало на острых штыках леса, увенчанных черными лохмотьями хвори. Пробирала дрожь – то ли от вечернего морозца, то ли от сильной усталости. Хотелось отдыха. Но в поселке, у конторы, Николай натолкнулся во тьме на Аню Кравченко. Еще не видя в сумраке лица, только по скрипу шагов на снегу, по резкому полету ее тени он почувствовал ее смятение.
– У него кризис… Это – впервые в моей практике, и ничего не могу!.. Ничего нет под руками!
– Канев?! – спросил Николай.
– Я выбежала к вам! Не могу найти себе места…
* * *
Аня Кравченко, хотя и не так давно начала самостоятельную практику, была достаточно уверена в своих врачебных познаниях, выписывала периодическую литературу по специальности, следила за новинками науки и хотела работать так, чтобы не отставать от жизни. Но для Пожмы, как оказалось, ее знаний было явно недостаточно. Она столкнулась с непонятным явлением, которое не могла объяснить, так как причины его, по всей видимости, крылись не в медицине.
Здесь почти никто ничем не болел в обычном, общепринятом смысле слова. Люди либо вовсе не обращались к врачу, либо приходилось иметь дело с отдельным, труднейшим, даже безнадежным случаем.
Судя по медицинскому журналу, за месяц, до болезни Канева, не было ни одной серьезной жалобы. Последняя запись свидетельствовала о зубной боли Алешки Овчаренко.
Эти железные люди три дня трудились при сорока шести градусах мороза, несмотря на запрещение Ани, и тем не менее она после не установила ни одного серьезного обморожения.
Профилактическая работа оказалась неблагодарной. Она каждый день регулярно обходила общежития, придирчиво следила за чистотой, запрещала держать в питьевых баках сырую воду – и видела, что возбуждает к себе не благодарное чувство, а снисходительную жалость к своей молодости. То было вынужденное внимание людей, уважающих в ней не врача, до поры не очень нужного им, а именно ее искреннее желание быть им полезной. Ей казалось, что люди знают что-то такое важное и простое о себе и своей жизни, что начисто отметало все ее специальные знания и требования.
Ее встречали в бараках шутками, грубоватой лаской:
– А-а, докторша!.. Здравствуйте, здравствуйте, садитесь. Сегодня у нас порядок. Паутины нет, вода кипяченая!
– Чистота в желудке – залог здоровья!
– Нынче утром сообща обнаружили клопа! Убили, кровищи вышло море. Из нас, сволочь, пил!
– Овчаренко сапогом в стену бросил, сразу прибил…
Овчаренко был тут же. В присутствии врача он хранил молчание. Только что умылся снегом и, стоя без рубахи, растирал грудь и плечи застиранным вафельным полотенцем. Он явно старался гипнотизировать молоденькую врачиху. Тело его упруго вздрагивало, под эластичной, глянцевитой кожей резко перекатывались тугие мускулы, на них трепетали золотистые блики от лампы. Из-под всклокоченных волос на Аню смотрели дерзкие глаза. Во взгляде можно прочесть одновременно озорство и самодовольство.
– Это вы, Овчаренко? Как ваши зубы? – спросила она.
Алешка хитро подмигнул окружающим:
– Зубы – ничего, спасибо. Мне их заговорили.
– Как это?
– Ну, есть такой заговор. Его на ухо надо шептать и зубками ухо прикусить для верности. Комсомолки-доброволки у нас за бабок пришептывают…
Пополз сдержанный смешок. Аня беспомощно оглянулась вокруг, теребя концы накинутого на плечи пухового платка. Ей было неловко.
Степан Глыбин осадил Алешку:
– Ты полегче, жеребчик! Знай, где и как трепаться! Герой! А вы, товарищ докторша, гоните его в три шеи, если опять с зубами придет. Ни черта они у него не болят, так, баклуши трелевать захотел! А болезнь он найдет, если захочет, – он все умеет. У него по заказу может и флюс проявиться, и вывих мозгов, и лихорадка. Девчонки приехали – для него гололедица, как бык на льду, не знает, в какую сторону двигать…
Так обычно попусту заканчивался врачебный обход. Люди всем своим видом и словом выказывали презрение к какой-либо телесной немочи. На фронте, говорят, солдаты тоже никогда не хворают, там солдату нельзя, нет времени болеть. Все жили на каком-то пределе сил – это было ясно, это тревожило Аню.
Однажды в медпункт зашел Костя Ухов. Аня обрадовалась: первый больной!
Он опытным взглядом оглядел обстановку, довольно скудную, высказал сожаление и свою готовность помочь в смысле меблировки. Аня пригласила его сесть.
– Скучно вам здесь? – задал он безжалостный вопрос. – Тайга, лес! Друзей, как я вижу, нет. Один и есть культурный человек – Горбачев, и тот на своих разнарядках помешан…
Костя что-то не договаривал, и Аня это почувствовала. Это была какая-то провокация, но она честно созналась:
– Скучно. Только не потому, что лес кругом и люди здесь простые, – это неплохо. Но я им не очень нужна, и это тяготит… Тем более что где-то, возможно, нужна моя помощь!
– Э-э… ерунда! – убежденно возразил Ухов. – Это все слова! Из передовой статьи. Труд – почетная обязанность, и все в этом роде. Разве смысл жизни в этом? Простите меня, но это все-таки довольно неприятная необходимость…
– А работа по призванию? Как же так?
– Мечта! Кто и когда работал по призванию? Поэты, художники? Но то и называется творчество. Таких людей – раз, два и обчелся, а скоро, надо полагать, и совсем не будет, поскольку все это ин-ди-ви-ду-ализм. А мы живем в материальный век, без соловьев! Есть, к примеру, такой Канев – он «по призванию» лес ворочает, бревна таскает. Он и сам убежден, что ишачит по призванию. А разве он лесорубом родился? Может, родился-то он… Ломоносовым?
Аня только пожала плечами.
– То-то и оно, Анна Федоровна! – продолжал Ухов. – Да и нельзя, чтобы все работали там, где желается. Тогда, извините, кушать нечего будет… Вот я. Я, может, чувствую, что мне по внешней торговле надо бы. Наша советская, новейшая система представляет неограниченную практику в крупной коммерции. Мы все, советские люди, на голову выше любого крохобора буржуазного мира. Знаете, какое было бы наслаждение – малость вытряхнуть им карманы на общее благо… – Он засмеялся. – Это называлось бы действительно творчество!
– От слова «натворить»?
– Не обманешь – не продашь… А тут что? Слезы. Овсянку доставляю широким массам! Сечкой кормлю… та-а-ку-ю девушку! И ничего изменить не могу, инициатива пропадает! – Костя откровенно, голодно глянул ей в глаза.
– А вы ее на что-нибудь более путное направьте, – заметила Аня. – В настоящей работе можно найти удовлетворение. Иначе – для чего жить?
Ухов уныло склонил голову: ему стало скучно с нею. Лениво отвернул обложку книги, лежавшей на столе, – это был терапевтический справочник. На глаза попался заголовок: «Болезни обмена, базедова болезнь, кретинизм…» Костя уныло закрыл страницу.
– Для чего, в самом деле, жить?.. Да просто жить для жизни! Рвать цветы, любить женщин, кататься на лодке и, может быть, немного работать… Для чего растет трава? Я сомневаюсь, чтобы трава думала, что она растет с единственной целью – для потравы коровам, которые потом дадут кому-то молоко… по карточкам.
Ане цинизм Ухова был неприятен, но желание понять человека до конца заставляло продолжать разговор.
– И всё? – подчеркнуто удивленно спросила она.
– Всё… Это устроит и меня и, думаю, вас…
– А общество? Как другие в это время?
– При чем тут другие? Человек, только родившись, вырывает чужую игрушку и тянет ее в беззубый рот. Но потом у него прорезаются зубки! Если я отдам ненароком богу душу, а другие останутся рвать на земле не сорванные мною цветы, так это будет довольно грустно, дорогая Анна Федоровна. Впрочем, это слишком сложные вопросы. Давайте говорить проще… о другом.
Аня молча отошла к окну и, сдвинув шторку, загляделась в черную невидь за стеклом. Где-то за дорогой трепыхался костер, и красный свет его дробился в изморози, покрывающей стекла ослепительными кроваво-красными брызгами. У костра слышался стук топоров, оживленный человеческий гомон.
Ночь. А там работают. Дом строят…
Ей стало до боли обидно за простых, работающих людей с лицами, прокаленными дьявольской стужей и нещадным солнцем, людей, в мороз и летнюю погоду терпеливо делающих большое, невыносимо трудное дело. Они работали из последних сил, а на плечах у них как-то очень уж безопасно и удобно сидели мудрецы, вроде этого гостя, рассуждающие о смысле жизни как о браконьерском набеге на благодатный сад-заповедник…
Аня обернулась. Костя не отвел взгляда, ждал.
– Нам, как мне кажется, не о чем говорить, – жестко сказала Аня. – У меня совсем другие воззрения. Я не одобряю психологию первобытных людей, которые не жили, а паслись. Плоды земли, кстати, были в их полном распоряжении…
Костя был чуток, но постарался на этот раз не заметить оскорбления.
– Конечно… в такой дыре – почти полгода! Огрубел… До того иной раз болит от чего-то душа – не понимаю сам. Дай, думаю, зайду, попрошу веселых капель грамм двести, отвести душу. Вчера по городу бегал – ни черта нет нигде…
– И этого, к сожалению, я не могу вам устроить, – едва сдерживаясь, отвечала Аня.
– Я понимаю, понимаю… Это же в шутку…
Костя ушел, а она долго и нервно ходила по комнате из угла в угол, ожидая отца с разнарядки.
До чего уверен в собственной силе этот человек! И такие выползни иногда держатся на общественно важных постах. Почему? Ведь один такой делец столько принесет вреда обществу, что потом десять пропагандистов вместе с прокурором за год не выправят…
Она хотела бы рассказать об этом разговоре Опарину либо Горбачеву, но обстоятельства помешали ей сделать это. Поздно вечером вместе с отцом пришел встревоженный Шумихин и попросил Аню к заболевшему Каневу.
Канев напугал ее. Был он худ, костист, немощен, будто пролежал в хвори не меньше месяца. Говорили, что он творил чудеса на лесоповале. Чем? Этими длинными иссушенными руками, с этой сквозной, ребристой грудью?
Когда Канева поднимали, чтобы Аня могла ослушать его, простучать грудную клетку и под лопатками, он сидел с закрытыми глазами, немощно положив локоть на плечо жены. И колыхался, как иссушенная травина.
Болезнь была излечима, но больной был слишком слаб. И у нее не было нужных лекарств.
Аня переживала невероятный страх. Это был первый серьезный больной на Пожме, и он мог не выдержать…
* * *
Трое суток Назар Канев пробирался диким лесом, погруженным в кромешную тьму, – не пил, не ел, не останавливался, а все шел и шел напролом, без отдыха, не жалея сил. Ветки больно охлестывали его лицо, под ногой ломались коряги и пучилась торфяная подушка, а впереди все не было просвета, и он наддавал шагу. Надеяться было не на кого: он остался один, лицом к лицу с зимней тайгой… Временами брезжил далекий свет, словно луч месяца на замороженном стекле; Назар порывался вперед, но силы ему сразу же изменяли, он валился навзничь, летел в пропасть, зажмурившись от страха, ожидая смертельного удара о землю. Холодело под ложечкой, как в детстве на качелях. Но сосны, кедры и старухи ели в червленом лишайнике протягивали ему навстречу разом тысячи своих мягких веток, косматых лап, принимали его в свои объятия, как в прутяную корзину, и несли над землей. Весь мир пьяно покачивался вокруг, от зеленой качки тошнило, болела голова.
– Воды! – хрипел Назар.
Из хвойной гущи протягивалась знакомая, узкая и жилистая, с мозольными бугорками на пальцах рука, рука жены, с мокрой жестяной кружкой. Он в страхе стискивал ее в руке и, расплескивая воду, кричал изо всех сил:
– Не отдавайте! Не отдавайте меня лесу!!
Но жена не слышала, не понимала его страха. Жена видела только, как беззвучно шевелятся его потрескавшиеся от жара, обескровленные губы, и молчала, крестясь украдкой.
– Домой, наз-за-ад… ч-черт возьми этакую… езду! – ругался Назар, пытаясь вырваться из прутяной корзины. Ноги и руки не слушались его, были словно бы ватными.
На исходе третьих суток он осилил окаянную прутяную зыбку и, не боясь поднебесной высоты, сидя опустил ноги. Земля оказалась до удивления близко, он уже коснулся ее ногами…
Назар попробовал встать, но не смог. Неизвестно откуда появился Шумихин с огромной, иссеченной зарубками палицей в руках. Назар хотел попросить его, чтобы он помог по старой дружбе, но Шумихин налетел на него словно коршун:
– А ты, Канев, почему до сих пор не на делянке?! – заорал он. – Бригада баклуши бьет, а ты валяешься без толку, как гнилая валежина! А ну, вставай!
Назар никогда не боялся Шумихина, не испугался и на этот раз. Он только подался чуть назад и неторопливо лег на спину, сложив руки на груди крест-накрест. «Шиш теперь ты меня возьмешь…» – с грустной хитринкой подумал Назар, а вслух сказал:
– Прощай, Семен Захарыч, не поминай лихом…
Он сказал это жалобно, тяжко, поразившись собственному притворству: он сроду не страдал этим подхалимским недугом. Отчего слова вышли жалобными – он не понимал, потому что в это же самое время хотел обложить старшего десятника забористой бранью, а вышло что-то вовсе пакостное… От удивления и жалости к себе Назар вовсе растерялся.
– Прощай, Захарыч, теперь я тебе не помощник. Отработался, значит… Старуху мою не забудь, пригрей по такому случаю… – повторил он тихо, умиротворенно.
И странное дело – Шумихин вдруг опустил голову, прижался своим узким морщинистым лбом к коричневым сухим кулачкам, сжимавшим конец знакомой палицы, задергал плечами.
– Не оставляй, Назарушка, пропаду! – зарыдал он.
А Назар растроганно смаргивал мокрыми веками слезы, в глубине души радуясь тому, что вот Шумихин испугался, боится остаться в одиночестве, а Назар все равно больше не уступит ему, не вернется под его жесткую руку, уйдет…
«Куда уйду?!» – вдруг осенила его до ужаса проясненная мысль. Он схватил Шумихина за полу и просил помощи жалко и униженно, как не случалось за всю его долгую жизнь.
Шумихин, как видно, только и ждал этой минуты. Он любил эту хлопотливую обязанность: помочь в чужой беде, указать заплутавшему единственно верную дорогу, по которой сроду никто не ходил… Он сразу же стер слезы и ткнул своей прямой палицей перед собой, в темную чащу.
– Иди, Назар! Иди вперед, никуда не сворачивая! – сказал он и тотчас исчез, будто провалился в зеленый бурелом.
Темный лес расступился перед Каневым, и он вдруг пораженно замер перед невиданной картиной.
Прямо у его ног начинался огромный, ни с чем не сравнимый штабель золотистых обхватных бревен, сложенных внакатку, без маркировки, прокладок и учета сортимента. Лежали строевые сосны-красавицы; мачтовые подтоварники и первосортный баланс – от земли и до неба, косо, уступами, поднимаясь от Назаровых сапог до легкого перистого облачка в перламутровой вышине – словно мелкие ступени бесконечной заоблачной лестницы.
– Иди! – услышал за своей спиной знакомый окрик Назар и ступил на нижнее круглое бревно.
Это был крутой, невиданно трудный подъем.
Бревна заиграли под ногами, словно клавиши, странная подземная музыка оглушила и подчинила Назара, он двинулся вперед. К вершинам штабеля.
Каждое бревно – ступень бесконечной лестницы. Каждая ступень – нелегкий шаг вверх. Каждый шаг – потеря сил…
Кое-где бревна вовсе были спутаны навалом, как рассыпанные спички. Назар оправлял их и двигался дальше.
У него слабели ноги, становилось труднее и труднее идти. Назар останавливался, ловил распяленным от удушья ртом резкий воздух поднебесья и, собравшись с силами, подвигался дальше. Все выше и выше поднимались ступени, все толще, неохватнее становились бревна, вот он уже с трудом взбирался на каждую ступень.
Облака уже плыли внизу, холодный туман стал забивать дыхание, а бревнам все не было конца, и не было конца пути…
Внезапно одно из бревен шевельнулось, подалось под каблуком Канева. Назар замер на огромной высоте, боясь оглянуться, боясь потревожить проклятое бревно.
Он еще не успел сделать нового шага, как почувствовал, что скользкий кругляк неловко повернулся, а вслед за первым бревном зашатался и заиграл весь огромный штабель, вся поднебесная выкладка.
– Прокладки! Почему не положили вовремя прокладки!! – дико, потрясенно закричал Канев, падая на колени и хватаясь руками за ближнее бревно. Круглая сосна уже катилась на него…
Все сдвинулось, поползло, затрещало – вниз!
– Прокладки-и-и!! – запоздало, беспомощно и неслышно закричал Канев, падая вместе с бревнами, переламываясь, схлестываясь с круглыми мертвыми деревьями.
Падение было мгновенным. Назар ударился о каменно-твердую, схваченную морозами землю всем телом, плашмя, но, на удивление, не потерял памяти, даже не ушибся. Собрался уже вздохнуть с облегчением, отбежать подальше от опасного бревнопада, но тут одно из них вдруг накатилось ему на грудь, затормозило падение штабеля…
Канев напряг последние силы, но его еще крепче прижало к земле. Сверху падали и падали новые бревна – сотни, тысячи, десятки тысяч. Они кружились в воздухе, будто захваченные невидимым потоком, и все опускались в одно место. Залом давил, мял, стискивал ему грудь.
Потом он услышал плач жены – она спрашивала, как он будет жить теперь с раздавленной грудью. Канев закричал, губы его чуть шевельнулись:
– Прок… лад… ки!
– Прок… лять… е…
– Прощай… те…
И сразу наступила ночь.
Все смешалось. Аня Кравченко еще не успела выпустить из своей руки похолодевшую кисть Назара, как старуха завыла высоким, отчаянным голосом. Шумихин побежал делать распоряжения. Горбачев сидел несколько минут без движения, уставясь на сухой, в седой редкой щетине кадык Канева, потом вызвал к себе Опарина и Ухова. Сам, покачиваясь, вышел на мороз и, не покрывая головы, побрел к конторе.
* * *
Когда Илья вошел, Горбачев распекал завхоза, сидевшего в углу. Дня три назад он выколотил в ОРСе две тонны квашеной капусты, чем весьма обрадовал тогда начальника. Но сейчас оказалось, что в общепит капуста не поступила, поскольку у большинства столующихся не оказалось в карточках талонов на овощи.
– Куда делись талоны? – стучал кулаком по столу Горбачев.
Завхоз ничего не мог сказать, твердил, что воры устроили какое-то самообложение в бараках, а у кого нет денег, берут неликвидные талоны…
– Что говорят по поводу нашего акта по делу Самары в ОРСе?
Завхоз только рукой махнул:
– Ясно, замазали дело, связи у него!
Опарин в душе усмехнулся. Очень скоро рассыпалась дружба завхоза и повара… Впрочем, если Ухов не пытается попросту испугать Горбачева сложностями снабженческих отношений… Нет, кажется, не испугал – Горбачев заскрипел зубами, гаркнул:
– Связи? Илья, зови сюда Сомову из тороповской бригады! И Самару живо! Примет у жулика кухню!
Илья и завхоз не успели выйти.
У распахнувшейся двери, качнувшись у порога, стояла бледная, испуганная Катя.
– Николай… Алексеич! Илья!.. Воронков упал… с вышки! С «галифе», насмерть!..
10. Медвежатина
Кто такой Воронков?
Странное дело: с вышки упал и разбился насмерть человек, а Николая всю дорогу до буровой мучило как будто лишь то, что он не знал пострадавшего.
Илья едва не загнал старого мерина, на котором приехала в поселок Катя. Сани на широких полозьях, без подрезов носило из стороны в сторону, в лица седоков летели комья снега, ледяные осколки. Головка буровой вышки плясала за черной пилой еловых верхушек. Когда Илья осадил взмыленного мерина, Николай боком вывалился из саней, не оглядываясь зашагал к вышечному трапу. На мостках его ждал Золотов.
– Где? – спросил Николай.
Золотов молча кивнул на трап, в тылы буровой, где нестройно и озабоченно гомонили люди, колыхались в ранних сумерках отсветы фонарей.
– Просто удивительное дело, – придержав Николая, глухо сказал Золотов. – Работал целую смену, пояс предохранительный отцеплял наверху – и ничего. А едва ступил на трап, чтобы спускаться, руку уже к перилам протянул – словно в спину человека толкнули. Устал, что ли?..
Они обошли вышку, люди расступились, дали бурмастеру и начальнику подойти ближе.
На утоптанном снегу, в световом зыбком кругу от десятка тусклых фонарей, лежало черное, плоское, будто расплющенное, тело в ватной спецовке. Широкий предохранительный пояс верхолаза был плотно застегнут, страховые цепки с исправными крючьями разметались по сторонам, одну из них чей-то каблук втоптал в снег. Человек лежал, запрокинув голову, туловище неестественно изогнулось на бревне, будто у человека не было позвоночника. Николай увидел посиневший, еще не знавший бритвы подбородок и толстые, обметанные простудными болячками губы.
Так вот кто такой Воронков!
«Ч-черт, какой нынче мороз…» – поежился Николай, сгоняя мурашки, побежавшие между лопатками.
Сразу припомнился в подробностях недавний разговор у костра.
Это Воронков не верил, что против немцев когда-нибудь откроется второй фронт. Что ж, при его жизни никакого второго фронта не открылось. Потом он отказывался лезть на сорокаметровую вышку, но уступил просьбе начальника. Боялся лезть, как будто предчувствовал нынешнее…
«А мне это будет уж вовсе без интересу: родных не увидать, толстую девку не полапать в жизни…» И еще: «Вопрос так раздваивается: либо вышки строить, либо копыта на сторону откинуть!..»
И вот человека уже нет…
Золотов махнул фонарем в сторону, осветил пепельно-синий скат высоченного сугроба, насыпанного строителями еще во время расчистки площадки под буровую.
– Три метра всего до сугроба, а попал бы к сторонке – и жив был… Судьба!
Николай морщился, терпеливо ждал, что скажет склонившаяся над телом Воронкова Аня.
Не вставая с колен, она подняла к Николаю темные глаза, сказала негромко и слишком бесстрастно, как приговор:
– Авитаминоз. Голодный обморок.
Да. Падая с «галифе» – с двадцатипятиметровой высоты, человек мог, конечно, угодить в сугроб. Но только в одном случае – он должен был знать и чувствовать, что падает. Кроме того, он должен быть истым верхолазом, ни в коем случае не растеряться. Успеть чуть-чуть оттолкнуться в сторону с обманувшей его опоры… Такие случаи действительно бывали.
Воронков не мог ничего подобного сделать, ибо он потерял сознание до своего падения, там, наверху. Он упал не в силу нарушения правил техники безопасности…
В голове Николая путались какие-то мелкие, ненужные мысли. Потом он снова увидел простуженные губы Воронкова, уже покрывшиеся серой оловянной пленкой, и вздрогнул.
За один только день – два человека!
Здесь, на твоем участке, Горбачев… Не много ли! Как воспримут люди смерть Канева, несчастный случай с Воронковым? Как посылать теперь их на сооружение новой буровой?
Аня Кравченко поднялась с колен, отряхнула полы шубенки от снега и пошла к розвальням, устало горбясь.
– Ну что ж, берите, надо везти, нечего больше… – сдавленно сказала Аня.
Тело увезли в поселок. Николай, Илья и Шумихин с Катей шли пешком в густых сумерках, скованные трудным, затяжным молчанием. Во тьме, осыпая искры по ветру, часто, раз за разом, вспыхивали концы самокруток.
Когда вошли в поселок, Николай прервал затянувшееся молчание:
– Илья, задержись малость. Будем думать. А ты, Семен Захарыч, веди ко мне завхоза со всей его бражкой! Катя, ты можешь отдыхать, только пошли ко мне Евдокию Сомову, да поскорее.
Когда шли к Горбачеву, у порога конторы встретили Смирнова и бригадира монтажников Байдака.
– Разнарядка отменяется, девчата! Идите отсыпаться в счет будущих трудовых подвигов, – сказал Кате Смирнов и кивнул на дощатый тамбур: – Там сейчас битва с печенегами идет, еще неизвестно, чья возьмет…








