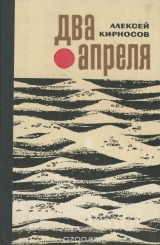
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
– Я капитан Овцын, – сказал Овцын. – Что вам угодно?
– Нет, мне ничего не угодно. Наверное, я должен поблагодарить вас. Я не смог бы жить, если бы она погибла.
Овцын насмешливо поклонился.
– Я вижу, вы не верите?
– Мне нет дела до этого, – сказал Овцын. – Я забуду о вас через минуту. Как только вы вернетесь к своим бутылкам.
– Вряд ли, – сказал он и снова сжал челюсти так, что выступили желваки.
– Любопытно, почему?
– Когда вам придет время уходить, капитан порта не выпустит Ксению Михайловну в море.
– Как так?
– Просто так. Без объяснения причин. У него есть такое право.
– Не перевелись еще негодяи, – произнес Борис Архипов.
– Попридержите язык, – буркнул человек.
– Капитан порта приходится вам родственником ? – спросил Овцын.
– Существуют связи прочнее родственных.
– Он крупная шишка, – брезгливо сказала Ксения.– Он здесь все может. Нехорошо, что мы его встретили, да кто мог подумать, что он выезжает за город пьянствовать? Теперь он устроит пакость.
«Такое вполне может произойти, – подумал Овцын. А неприятности мне ни к чему. Надо придумать что-нибудь мудрое. А что? Бороться с открытым забралом – это долго. Пока докажешь свою правоту, на Финском заливе снова лед станет. На устройство пакости он имеет сутки времени. Для крупной шишки вполне достаточно. Надеюсь, что он еще не знает, когда отход, и не будет торопиться...»
– Не надо так резко, Ксения Михайловна, – сказал Овцын.
– Я устала, – произнесла Ксении.
– Все равно сердиться не надо, – мягко сказал Овцын.
Человек в черном костюме, еще сильнее сжимая пальцами спинку стула, стал говорить тихо:
– Ксения, все будет по-другому. Не думай, что я ничего не понял. Я многое понял. Вернись. Вот сейчас. Встань, попрощайся со своими друзьями...
Она вздрогнула, обхватила руками плечи.
– Нет, – сказала она. – Тысячу раз нет.
– Ты еще плохо знаешь жизнь. Никогда ни у кого не бывает все гладко. Даже самые лучшие и добрые люди, соединяясь вместе, не во всем соглашаются друг с другом. Нужна терпимость.
– Нет, – повторила Ксения. – Уходи.
Он выпрямился, отпустил стул, сунул руки в карманы. Лицо его покраснело и набухло.
– В таком случае мне придется принять меры, – сказал он. – Не надейся, что я спокойно оставлю тебя в объятиях любовника.
– Мерзавец! – сказала Ксения. – Убирайся! Если ты еще раз подойдешь, я позову милицию.
– Милиция – это как раз то, что мне нужно,– криво усмехнулся он и пошел к своему столику.
Ксения вытерла глаза и положила платок в сумочку.
– Все равно я никуда не уйду с «Кутузова», – сказала она. Пусть, делает, что хочет.
«Ох, как просто!» – подумал Овцын, покачал головой, но ничего не сказал.
9
На набережной он высадил из машины Ксению с Борисом, а сам поехал в порт. Рассыпаясь перед начальством мелким бесом, приводя десятки самых убедительных доводов, он добился того, что выход переиграли и дали лоцмана на десять часов утра.
Вернувшись на судно, он впервые за много дней застал каюту неприбранной. Грязная посуда и остатки завтрака так и стояли на столе. Это неприятно поразило его. Конечно, повар не обязан прибирать в его каюте, но мог бы. Грязный стол раздражал Овцына. Он позвонил в каюту буфетчицы. Трубку не брали.
– Позабыт, позаброшен... – проговорил Овцын, нахлобучил фуражку и пошел на «Шальной» к Борису Архипову.
В капитанской каюте «Шального» сидела на диване Ксения и с удовольствием пила кошмарный архиповский кофе. Этот сюрприз тоже почему-то огорчил его. Овцын придвинул к столу тяжелое кресло, уселся в него, отказался от кофе и сообщил, что выход в море перенесен на десять часов утра.
– Для чего это ты намудрил? – спросил Борис Архипов.
– Мне так выгоднее, – ответил Овцын.
– А что скажем команде?
– Команде скажем: по местам стоять, со швартовых сниматься.
– Это из-за меня, – смутилась Ксения.
– В общем – да, – кивнул Овцын. – Взять другую буфетчицу я уже не успею, а преодолевать препятствия, которые может мне наставить ваш приятель, у меня нет никакой охоты.
Ксения поднялась.
– Я пойду, – сказала она.
– Куда вы, Ксюшенька? – всполошился Борис Архипов. – Сейчас будем слушать магнитофон. У меня есть прекрасные записи.
– Уже поздно, – сказала Ксения и ушла.
– Обидел женщину, деревянная твоя душа, – вздохнул Борис Архипов. – Разве можно говорить такие вещи нежному и трепетному созданию ?
– Трепетным созданиям в море делать нечего,– сказал Овцын. – Не та стихия, отец.
– Потому-то одно лишь в море и утешение – это трепетные создания, -улыбнулся Борис Архипов.– Надоедают насупленные брови и волевые подбородки. На кого ни глянешь, все суровость, мужественность, матерность... Это я и в зеркале могу увидать. Отдай мне Ксению.
– А ты мне Марию Федоровну и бочку белил в придачу? – прищурился Овцын. – Может, у тебя дед не поп, а вовсе даже помещик?
– Я пошутил, – грустно сказал Борис Архипов.– Не пойдет женщина. Влюблена она в тебя, сынок. Мы тут поговорили. Не про любовь, конечно, а так, вообще... Она, сынок, в тебе такое видит, о чем ты и сам не подозреваешь.
– Заблуждается, – сказал Овцын. – Молодо-зелено, дурь в голове. Пройдет со временем.
Возвращаясь домой, Овцын думал о словах Бориса и не мог понять, приятно ли ему чувство Ксении: если это так, а не та блажь о служении и долге, которую она произносила в первую встречу. Он все еще относился к ней с высоты возраста и капитанства, намеренно не разрешая себе разглядеть в ней человека, но сегодня в Ясногорске в этом его отношении к ней была пробита некоторая брешь. И конечно, он не стал бы искать другую буфетчицу, даже будь у него на это время. Он боролся бы за Ксению. А сказал он так потому, что был раздражен и надо было как-то это раздражение избыть. Совесть слегка покусывала Овцына, когда он зашел в каюту. Ксения уже успела прибрать стол и подмести, она меняла белье на постели, когда появился Овцын.
– Простите меня, Ксения Михайловна, – сказал он. – Бывают в жизни минуты, когда раздражение души прорывается не по тому каналу. Я сказал не то, что думал,
– Это неважно, – сказала Ксения.
– Но вы обиделись?
– Нет, огорчилась. Хочется, чтобы вы были добрее к людям. Не лично ко мне, а ко всем людям. Неужели вы не понимаете, что людям нужно ,доброе слово, а не только указания и деловые советы?
– Я нахожу доброе слово для того, кто его заслужил, – сказал он.
– Этого мало, – возразила Ксения. – Каждому нужно доброе слово. И тому, кто заслужил, и тому, кто не успел заслужить, и тому, кто не смог.
– И тому, кто не хочет заслуживать? – улыбнулся Овцын.
– Таких не бывает.
– Ох, сколько таких бывает! – покачал он головой. – Я рад, что вы на судне. Мне неловко принимать ваши заботы, но... все равно это приятно.
– Я знаю, – сказала она. – Разве я делала бы то, что вам неприятно?
– Почему вы знаете, что это мне приятно? – спросил Овцын.
– Хотя бы потому, что, вы мне еще не говорили грубостей по этому поводу! – дерзко сказала Ксения, собрала снятое с постели белье и, подняв голову, вышла из каюты.
– Ну, вот мы и квиты, – улыбнулся вслед ей Овцын.
Он вызвал Соломона, старпома и старшего механика, объявил, что выход в десять утра. Соломон и стармех приняли известие спокойно, им нечего терять в этом порту, а Марат Петрович завздыхал. Вероятно, и на завтра у него назначено свидание.
– С восьми утра морские вахты, – сказал Овцын. – На берег никого не пускать. Кончилась гулянка.
Выход и море всегда праздник. Куда бы ни шли вы: с грузом .леса в Антверпен, за селедкой в Северную Атлантику или на промер глубин в недальнюю бухточку, – все равно кажется, что именно и этом рейсе откроются вам не открытые таинственные острова... Заботы остаются на берегу, обиды и печали перечеркиваются и уходят в прошлое. Моряк чувствует, как напрягаются мышцы, как обновляются и организм его, и дух, и мысли. К этому чувству не привыкнешь, оно всегда внове.
Судно, намытое и начищенное, как примерный ефрейтор перед парадом, вздрагивает от работы главной машины. Матросы затаскивают на борт трап. Праздные прохожие на набережной останавливаются и смотрят. Старпом в рубке еще раз проверяет связь с машинным отделением. Увидев капитана, старпом подает команду, и матросы разбегаются по местам. Капитан, пропуская вперед старичка лоцмана, поднимается в рубку. На штурманском столе разложена свежая карта. Напустив на себя невозмутимость, стоит у штурвала рулевой.
– А часики-то у вас, извините, год рождения святой богоматери показывают, – ухмыляется лоцман, окинув рубку быстрым, все подмечающим взглядом.
– В суматохе самые простые вещи... – извиняется старпом, заводит часы и ставит время: девять часов пятьдесят семь минут.
Часы – забота второго штурмана. С ним поговорят позже.
Три минуты капитан и лоцман безмятежно беседуют об общих знакомых. (Все, что касается предстоящей проводки судна, подробно обговорено в каюте капитана, после чего лоцман отведал традиционного коньяку, окончательно расположился душой к молодцу-капитану и возжелал обеспечить ему проводку быструю, безопасную и дешевую, то есть без расходов на буксиры, которые он вправе был потребовать, ибо канал узкий, а маневренные элементы судна еще не известны. Но ради симпатичного капитана можно потрудиться и больше положенного, поволноваться сильнее, чем допустимо в таком возрасте...)
Оборвав разговор на полуслове, лоцман щелкает крышкой своего карманного хронометра, поворачивается к старпому:
– Ну, поехали встречать Первое мая...
С плеском летят в воду канаты. Винты устраивают за кормой пенное озеро. Судно медленно отходит от причала, а зеваки на набережной машут руками вслед.
Тянутся вдоль бортов низкие, поросшие чахлым леском берега канала. Тихо в рубке. Берег близко, доплюнуть можно. Каждый сосредоточен и внимателен, как человек, идущий через пропасть по узкой дощечке. Сами собой исчезают из головы посторонние мысли.
Лоцман подходит к капитану, спрашивает тихо:
– Капитан, у вас есть рулевой поопытнее?
– А этот?
– Слишком старается.
– Поищем.
Капитан включает трансляцию и вызывает в рубку другого рулевого, юношу меланхолического, с созерцательными наклонностями. Он принимает штурвал и глядит не на картушку компаса, а вперед, будто дорога судна нарисована на воде красной линией. Порой позволяет себе скосить глаза на берега.
– Этот годится, – одобряет лоцман по прошествии некоторого времени.
Навстречу, с моря, тоже идут суда. Приходится сбавлять ход и
прижиматься к самой бровке канала. На малом ходу рулевое управление работает скверно, капитан чувствует, что необъезженному судну хочется пошататься от бровки к бровке, но меланхолический юноша творит чудо и заставляет три тысячи двести тонн плыть по ниточке, одному ему видимой на воде.
– Этот годится, – повторяет лоцман, ласково глядя на рулевого.
Канал расширяется, впереди показывается приподнятое над молами
море. Оно темно-синее, с серебряной каемкой, отделяющей его от неба. Судно выходит за молы и становится на якорь против белоснежного домика лоцманской станции. Сейчас оттуда придет катер. Капитан с лоцманом спускаются в каюту. Старик взмок от трехчасового внутреннего напряжения, он коричнево-бледен и глубоко дышит. Капитан ставит на стол коньяк и неведомо откуда взявшиеся в каюте апельсины (впрочем, капитан догадывается откуда). Он предлагает лоцману подкрепиться.
– Где-то я вас видел, капитан, – произносит лоцман, подкрепившись. -Очень знакомо ваше лицо.
Капитан заполняет параграфы лоцманской квитанции. В параграфе девятнадцатом благодарит за отличную проводку, расписывается.
– В пятьдесят четвертом году я на «Вулкане» под вашими знаменами плавал, Митрофан Саввич, – говорит капитан.
– Да, да, да... – вспоминает лоцман. Пальцы его, разламывающие апельсин, начинают дрожать.
Заходит матрос и докладывает, что подан лоцманский катер.
– Строптивым были матросом, помню, как же...– бормочет старик, пряча квитанцию во внутренний карман кителя. – Помнится, я вас даже списать хотел. Да пожалел. Лихость ваша мне импонировала... Помню, как же...
– Истинно так, – улыбается капитан и берет лоцмана под руку.
Уже болтаясь за бортом на штормтрапе, старик спрашивает:
– Какой черт занес вас в перегонную контору? Моряцкая ли это работа?
– Судьба, – улыбается капитан. – Я и в штурманах оказался строптивым. Счастливо оставаться, Митрофан Саввич. Спасибо за проводку!
Улыбаясь, он поднимается в рубку, командует сниматься с якоря.
10
Южнее Гогланда образовалась ледовая перемычка, и Овцын решил отстояться на Таллинском рейде. Когда закончили постановку на якорь, до конца Первого мая оставалось еще два часа. Кок Алексей Гаврилы успел покормить команду праздничным ужином – с салатами, пирожными и всем, что полагается, кроме вина. Вместо него была газированная вода с вареньем. Радист наладил музыку, ужин прошел весело, настроение было бодрое и приподнятое. По очереди танцевали с Ксенией, пока в полночь не пришел старпом с вахты. Марат Петрович узурпировал буфетчицу и танцевал с ней все танцы подряд, позабыв о стоящей на столе вкусной еде, о приличиях и о том, что в восемь утра ему опять на вахту. Овцын время от времени выходил наверх. Чувствовалась близость льда. С норд-оста наплывал холодный туман.
Утром к борту подбежал юркий портовый буксирчик с репортером Эстонского радио. На репортере висел магнитофон, который он потом долго налаживал в рубке. Скучающий старпом дал интервью. Он наплел небылиц про штормы на Южной Балтике, досочинил к проделанной работе пару ярких, мужественных поступков и рассказал, какие кошмарные трудности ожидают «Кутузова» в арктических морях. Довольный репортер, смотав свой магнитофон, долго жал старпому руку.
Передача прошла во время ужина. Радист включил Эстонское радио в трансляцию, и салон подрагивал от дружного хохота.
– Вы мелкий шкодник, старпом, – сказал Овцын. – В двадцать семь лет пора стать серьезнее.
– Пустяки, – сказал Марат Петрович. – Кому от этого худо? Мы повеселились. А слушателям приятно и радостно, что по родной Балтике плавают такие мужественные и умелые люди.
– Ложь всегда безнравственна, – сказал Овцын.
– А вы забыли, как сами в Прегеле «преодолевали силу течения»? Я
понимаю, что вы так не говорили, но могли бы дать опровержение.
– Уел, змей... – усмехнулся Овцын.
Утром радист опять, принял неблагоприятную ледовую сводку. Погода совсем скисла. Плотный сырой туман висел на верхушках мачт. Скрипучими голосами жаловались на судьбу невидимые чайки. Пришел на своей шлюпчонке Борис Архипов.
– У меня поговаривают, что не слишком умно было торопиться с выходом, – сказал он.
– У меня тоже.
– Что будем делать? – спросил Борис Архипов, как будто можно было что-нибудь сделать.
– Ждать благоприятной сводки. Впрочем, ты можешь идти в порт. Твоей скорлупке там место найдут.
– Страдать, так уж вместе, – сказал Борис Архипов.
Борис нервничал. Он притопывал ногой, стучал пальцами по столу, рассматривал углы каюты.
– Долго эта перемычка не простоит, – сказал Овцын. – Сутки, двое. А там восемнадцать часов – и в Питере. Здравствуйте, дорогие жены и дети. Принимайте гостинцы. Так, что ли, отец?
– Да, да, – сказал Борис Архипов. – Я ведь еще не завтракал.
– Сейчас спрошу у Гаврилыча, что там осталось, – сказал Овцын и стал набирать номер салона. – Пусть принесет.
– Не надо, – остановил его Борис Архипов и нажал пальцем рычаг. – Не тревожь старика, у себя поем. – Он поднялся.
– Приходи завтра, – сказал Овцын. – Только не завтракать.
– Посмеиваешься... – вздохнул Борис Архипов.
– Пока посмеиваюсь... Бросил бы ты эту затею, отец. Возьми себя в руки, укрепись духом. Не ищи себе лишних приключений, без них забот достаточно.
– Чепуху мелешь, – тихо сказал Борис Архипов, снял фуражку и стал мять толстый кожаный козырек. Какие затеи, какие приключения! Ты меришь всех на свой плотницкий аршин...
– Слушай, отец, мне становится скучно, – перебил его Овцын. – Вечно я у тебя бревно, деревянная душа, кнехт причальный, сработан топором, без микрометра. А ты человек тонкий, изысканный, как жираф. Зачем нам в таком случае топтать ковры друг у друга в каютах? Тебе от меня скука, мне от тебя одна брань. Может, ограничимся официальными отношениями?
– Пусть так, товарищ командир отряда, – сказал Борис Архипов. -Обещаю впредь не переступать границ.
– Ну вот, понес... – вздохнул Овцын. – То бревном обзовет, то командиром отряда.
– Ты ждал, я буду извиняться? – Он нахлобучил фуражку. – Не считаю себя провинившимся.
– Никто не виноват, все правы, – сказал Овцын. – Что-то нас не туда занесло. Приходи завтракать, отец.
Но утром Борис Архипов не пришел. «Хрен с тобой, думал Овцын, сиди на своей лоханке. Надулся, старая перечница, как еж на сапожную щетку. Слова ему не скажи...»
Туман разошелся, выглянуло солнышко. «Шальной» с одним лишь вахтенным матросом на крыле мостика покачивался метрах в ста пятидесяти от «Кутузова». Шлюпка поднята и зачехлена. Яркий белый брезент выглядел очень официально.
Овцын перестал ждать и пошел в салон. Пока он завтракал, Ксения успела прибрать в каюте, переменить цветы (он удивился: откуда они среди моря?), вымыть ванну и натянуть на фуражку накрахмаленный чехол. Овцын взял фуражку, повертел ее на пальце, подсел к столу... Он спрашивал себя, глядя на белый диск, почему два умных и искренних человека, Ксения и Борис Архипов, упрекают его в одном и том же, говорят обидные слова, отстраняются. Кому другому можно было не поверить, а эти зря не скажут. Вспомнилась Марина. Она ни в чем его не упрекала, иногда только сердилась, что он не так себя ведет, как ей хотелось бы. А что у него в душе, сокровища Эльдорадо или дохлый дромадер... это ее не интересовало. Ее интересовали поступки. А эти двое тычут прямо пальцем в душу: злой, безжалостный, черствый, деревянный... не тонкий!
«Им легко быть тонкими, – думал Овцын, – особенно Ксении. У девицы нежная конституция, пожалуй, она воспитана на стихах и симфонической музыке, а мама до десятого класса заставляла ее ходить в белом переднике, выбирала литературу для чтения и не позволяла возвращаться домой позже семи часов вечера. У нее были благонравные знакомые, которые рассуждали о добром и прекрасном, говорили складно и никогда не клали локти на стол. И я хотел бы так. Но я с пятнадцати лет на палубе. Единственный мой благонравный знакомый, который водил меня на выставки и в симфонические концерты, оказался гомосексуалистом и получил от меня на прощание самую увесистую оплеуху, на которую я способен. Остальным моим знакомым не было дела до музеев и красивых стихов, им нравились душещипательные стихи, спорт и три простонародных удовольствия. К более высоким предметам они относились иронически, скептически, недоуменно и взирали на них, не придерживая фуражку за козырек. И все же они были очень неплохими людьми, несравненно лучшими, чем тот эстет, которому я выбил зубы. Хорошо, что я пристрастился читать книги. Но книги могут научить понимать, они не могут научить чувствовать. Они не могут научить захватить в море запас цветов, чтобы в каюте дорогого человека всегда стояли свежие цветы. Откуда она узнала, что именно с Первого мая моряки носят на фуражках белые чехлы ? Где, черт побери, добыла она этот чехол среди моря? Я бы до такого не додумался. Высшим проявлением моей заботы о дорогом человеке был подарок к празднику. Купленное наспех что-нибудь поувесистее да подороже. Я считаю себя добрым потому, что мало делаю для себя. А много ли я делаю для других?»
Овцын вдруг очнулся, тряхнул головой и бросил гипнотизирующую
его фуражку на кровать.
– Тоже мне Марк Аврелий нашелся, – сказал он, скривив губы, стряхнул с кителя пепел и пошел в радиорубку.
До очередного сеанса связи он беседовал с радистом о черноморских курортах, красоте грузинских женщин, преимуществах грузинского коньяка перед прочими и других волнующих вещах, имевших отношение к происхождению радиста. Потом радист принял сводку.
– Вот это дело, – сказал Овцын, прочитав, что перемычку отогнало к южному берегу залива. – Свяжитесь с Архиповым и передайте, что в пятнадцать часов снимаемся.
Когда снялись с якоря и вышли из Таллиннской бухты, он спустился в каюту поспать немного, чтобы все темное время суток пробыть на мостике. Соломона нельзя было оставлять одного. Старпому Овцын тоже пока не доверял, хоть тот и убеждал его, что ориентируется в Финском заливе лучше, чем в Летнем саду. У Овцына было правило: чем больше человек сам в себе уверен, тем больше следует в нем сомневаться. Дабы не нарушался баланс. В юности он был куда более уверен в себе, чем сейчас, достигнув капитанского чина...
Когда он снова вышел на мостик, было еще светло. Справа проплывали грязные и корявые льдины, солнце, все больше краснея и расплющиваясь, опускалось в лежащую за горизонтом Финляндию. Хотя была вахта Соломона, Марат Петрович тоже стоял в рубке, и Овцын понял почему. Сперва удивился, потом подумал, что так оно и должно быть и что, кажется, старпом – настоящий .моряк. Увидев капитана, Марат Петрович пошевелил плечами, зевнул, произнес деликатное:
– Хотел Гогланда дождаться, да, видно, не судьба. Пойду вниз, с вашего разрешения.
– А что вам Гогланд? – спросил Овцын.
– Что Гогланд? Знаком я там с одним синоптиком. Сильфида! -причмокнул старпом и побежал вниз по трапу, стуча каблуками.
В полночь – гогландские маяки уже едва проблескивали за кормой -старпом пришел в рубку и принял у Соломона вахту. Он определил место по трем пеленгам и нанес его на карту. Убедившись, что все благополучно, старпом закурил и удобно, но не садясь, устроил свое тело на теплой батарее отопления.
– Давно это было, – сказал он вдруг. – Лет пять тому. Даже с половиной. Плавал в балтийской гидрографии самым младшим штурманом. Все эти островки, все шхеры исползал. Как-то осенью зашли мы на Гогланд, на ночь отстояться. Командир наш не любил ночью плавать. Да и штормило. Вы, может, не знаете – там подход к гавани тяжелый, ворота узкие и причальный мол каменный. При норд-остах заходить – это акробатика. Каждый раз бога благодаришь, что на скалах не оказался. Завели мы дополнительные швартовы, поужинали. Я вышел на мол, глянул на море – у меня берет приподнялся: парус мчится. Яхта под стакселем. За мачтой что-то скрюченное, на человека не похожее, однако правит. Проскочила эта комбинация ворота, влетела в бухту и, не спуская паруса, развернулась и в дальний угол, где пятачок песчаного берега. Я туда бегом. Прыгнул на яхту, гляжу – дева. Сидит, зубы лязгают, вся мокрее воды.
«Спустите, пожалуйста, стаксель», – говорит.
Я парус смайнал, пихнул его в форпик, закрепил, что надо, стал ругаться: «Какой тебя леший в море понес на эту погоду?»
«Днем, – говорит, – не было этой погоды. И прогноз был хороший».
Это она верно сказала, я прогноз сам видел. Нежданно-негаданно заштормило.
«Да, – говорю ей. – Подвели тебя синоптики, чуть не утопили. Ни фига они в погоде не понимают. Даром пайки лопают».
«Может быть, – говорит. – Помогите мне выбраться. Я сама, между прочим, синоптик».
«Тогда, – говорю, – простите. Я про других синоптиков».
Вытащил я это сокровище из яхты, повел на горку к метеостанции. Там у нее в домике комнатка. Приличная комнатка – кровать, полка с книгами, стол, шкаф. И плита. На окне занавесочка. Чисто и пахнет очень нежно, по-девически пахнет, понимаешь, что в этой комнатке никто ни разу не закурил. Но холод антарктический. Я мигом притащил с улицы дров сосновых, растопил плиту, а она сидит на стуле скрюченная, зубы развод караулов выбивают, под стулом лужа натекла. И ничего не говорит. Подошел я к ней, задумался, потом махнул рукой и стянул с нее обмундирование.
Она говорит «Ах», но я на это «ах» так цыкнул, что она зжмурилась. Уложил на постель, растер докрасна полотенцем, потом закутал. Стал пищу готовить. Еды в шкафу много нашлось. И мясо, и варенье, и грибы соленые, и сала чуть не пол свиньи. Жарю яичницу на сале. Она смотрит на мои старания, улыбнулась. Зубы уже не стучат, лицо розовое. Тут только у меня отлегло от сердца. Перестал вспоминать, как этот парус летел на мол, а сзади выше него волны вставали... Зато другое перед глазами неотвязно стоит. Гляжу я на яичницу, а вижу, какую я красоту растирал полотенцем. И странное какое-то было чувство, нелогичное. Хотелось усадить эту деву в поле среди цветов, примоститься у ног – и смотреть. Вы не смейтесь.
– Вам показалось, – сказал Овцын.
Марат Петрович опять закурил, переместился на батарее, спросил:
– Может, определиться еще разок, чтобы для полной гарантии?
– Рановато, – сказал Овцын. – Рассказывайте.
– Рассказывать-то нечего, – произнес старпом и помолчал. – Ничего захватывающе интересного не случилось... Подвинул я стол к кровати, расставил еду, посуду. Она приподнялась на локте, плечико прикрыла. Смотреть на нее – и ничего больше не надо. Обхватило это чудо ладонями стакан, дует, отхлебывает, обжигается. На меня умиление накатило. Бывают же, думаю, такие девы на свете. Таким, наверное, стихи посвящают. Я помню чудное мгновенье... Она наелась, повеселела. Спрашивает:
«Вы будете мне писать?»
«Буду», – говорю.
Она смеется:
«Как же вы будете? Вы же не знаете ни адреса, ни имени!»
«Дойдет, – говорю. – Гогланд не велик».
Она все улыбается, спрашивает:
«Почему вы не интересуетесь, как меня зовут? Вам безразлично?»
«А зачем? – говорю. – Ты одна. Такой больше нет. Тебе не надо имени. Не перепутаю».
Не знаю, как она меня поняла, только замолчала, нахмурилась. И я молчу, смотрю на нее. Долго смотрел, голова закружилась. Времени не ощущаю. Она закрыла глаза, сказала:
«Не обижайтесь, милый. Я очень намучилась в море. Не обижайтесь, если я сейчас засну».
«Спи, – говорю. – Ты еще лучше с закрытыми глазами».
Она чуть улыбнулась, глаза не раскрыла, спрашивает:
«А вы здесь будете, когда я проснусь?»
«Нет, – говорю, – не будет меня. С четырех моя вахта. А в шесть выход. Пойдем на Большой Тютерс, потом в базу. А если я не вернусь на судно, все равно найдут. На Г отланде не спрячешься».
Она повернулась ко мне, глаза широко раскрыты:
«А ты хотел бы спрятаться?»
«Смешно, – говорю. – Разве будет счастье, если прятаться?»
Смотрю – она уже спит. Я долго еще сидел. Плиту протопил, чтобы ей было тепло утром. Три, полчетвертого, а мне никак не уйти. Без четверти оторвал себя от стула, поцеловал ее губы в отчаянии... Она не пошевелилась, прошептала: «Иди, милый...»
Добежал до судна точно к четырем. А когда отходили, на молу под фонарем она появилась... Такая история. С тех пор как прохожу мимо Гогланда – в душе демисезон.
Старпом внезапно расхохотался, добавил громко:
– Скорее всего, не могу себе простить, что только одни раз поцеловал ее.
– Писал ей? – спросил Овцын.
Старпом опять закурил.
– Пробовал, – сказал он. – Много раз пробовал. Не получалось. Слова в русском языке для такого дела простоваты... Вот если б по-итальянски!.. Пора определить местечко, а то за разговорчиками и в Финляндию уплыть недолго.
Старпом запахнул куртку и ушел пеленговаться.
– А я думал, Марат Петрович бабник, – сказал рулевой Федоров.
– Думать будете после вахты, – обрезал Овцын. Он очень не любил, когда человек, стоящий за штурвалом, раскрывает рот. – Кстати, не пересказывайте этого своим приятелям.
– Что вы, Иван Андреевич, разве можно! – сказал Федоров.
Вернулся старпом, нанес на карту пеленги маяков.
– Идем как; по рельсам, – сказал он. – При таких компасах да при такой погоде капитану можно и поспать.
– Капитан выспался, – сказал Овцын.
Спать и вправду не хотелось. Он подумал, что неплохо было бы сейчас выпить чаю, да устраивать в такое время чай хлопотно. И кок и буфетчица спят, плита холодная. Он вышел на мостик, поглядел на маяки, на близкие огни «Шального». Вспомнил вчерашнюю ссору. «Надо помириться, -подумал он.– Борис прав, поносил за дело». Озябнув на майском ночном ветерке, вернулся в теплую рубку.
– Что там в мироздании? – спросил старпом.
– Порядок, тишь и благолепие, – сказал Овцын и устроился в правом углу у машинного телеграфа.
С шорохом раскрылась дверь, зашла нагруженная Ксения.
– Куда это поставить? – спросила она. – Темно, я не вижу.
Старпом метнулся, отодвинул карту, принял у Ксении поднос и чайник, поставил на стол. Он включил щелевую лампу, освещавшую только поверхность стола, сказал восторженно:
– Вы сама доброта, Ксения Михайловна. Вы угадали мою сокровенную мечту. – Он уже наливал чай. – Я мечтал именно о чае с теплым пирожком! Иван Андреевич, вам сколько ложек?
«И мне дадут», – про себя усмехнулся Овцын,
– Я не хочу чаю, – сказал он.
Вдруг он увидел себя со стороны, будто другого человека, и стало мерзко за эту мелкую, никчемную, обидную для Ксении ложь. Но никак было не заставить себя сказать, что он хочет чаю, что думал об этом, и рад, что Ксения принесла чай, и понимает, что она принесла чай ему, а не старпому.
Он подошел к ней, взял ее за плечи. Было темно, и он позволил себе прижать ее, почувствовал податливое сопротивление ее груди.
– Ну, разве можно в такой холод в одном платьице, Ксения Михайловна! – сказал он совсем не своим голосом. – Как нам жить, если вы заболеете?
Старпом громко отхлебнул чай.
– Я не заболею, – сказала Ксения, – не беспокойтесь.







