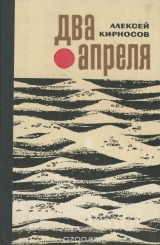
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
16
В вестибюле министерства он глянул на себя в зеркало – и отшатнулся. Кроличьи глазки смотрели на него из середины чужой, опухшей
физиономии. Раздувшийся нос придавал лицу идиотическое выражение. Он оделся и выбежал на улицу. Никакой речи о поступлении на работу с такой вывеской быть не могло. Кому покажешься с такой вывеской...
Мучила жажда. Он зашел в чистенький и тихий молочный магазин, купил бутылку молока и не отрываясь выпил ее в уголке. Стало легче. Потом он шел наобум и заходил по пути во все молочные магазины и пил молоко. Он сбился со счета, сколько выпил за этот день молока. И не пропускал ни одного зеркала. Только к середине дня стал замечать на маске природного кретина следы работы человеческого сознания. Никогда в жизни он не пил столько молока и столько не смотрелся в зеркала. На улице совсем стемнело, и он, вконец изможденный хождением, последний раз оглядел себя в зеркале спортивного магазина, глухо прорычал: «Ну и рожа...» – решил, что выглядит терпимо, и поехал домой.
– Только что ушла Ксана, – сказала Эра.
– Долго она сидела?
– Долго. Я вернулась из редакции, и сразу пришла она. Тебя кормить?
– Не за что, друг мой, – усмехнулся он.
– Я могу и авансом, я добрая, – сказала Эра.– Мой руки.
Он отказался:
– Я не хочу есть. В самом деле не хочу. Ешь сама. Я буду сидеть рядом и пить кофе.
– Я уже забыла, когда ты ел дома, – упрекнула его Эра.
Она сварила крепкий кофе, и он пил его чашка за чашкой, и после каждого глотка жажда проступала опять, как кровь на золотом ключе Синей бороды. С усилием он оторвался от кофейника, сходил в ванную и попил воды из крана. Взял с полки первую попавшуюся книгу, прилег па диван.
Управившись с посудой. Эра пришла к нему, приласкалась, шепнула на
ухо:
– Сегодня ты хороший.
– Сегодня я никакой, – сказал он, захлопнул книгу и спустил ее на пол. – Я ничто. Нуль. Звено цепи без контрфорса. Исходная точка для отсчета в любую сторону. Дырка. Можешь в меня плюнуть, и плевок окажется на стене.
–А каким ты будешь завтра?– спросила она.
– Не знаю, – сказал он. – У меня нет такого опыта. Постараюсь чем-нибудь стать... Как твои делишки?
– Давно ты не задавал мне такого вопроса, – улыбнулась Эра. -Приятно его слышать. Делишки мои идут бодрым спортивным шагом. Очерк о театре уже в наборе. В перспективе эссе о любви и дружбе для апрельского номера. «Полярный день» посылают в Европу на фестиваль.
– Широко шагаешь, девочка, – сказал он. – Значит, газеты совсем забросила?
– Газеты... – Она улыбнулась и прикрыла глаза. – Моя девическая, первая и чистая любовь... Вчера я заходила в «Трибуну», там у меня все приятели. Умоляют дать очерк на арктическую тему. Это сейчас в большой
моде. А они не могут добыть очевидца.
– Ты согласилась?
– У меня нет ни времени, ни сил, – сказала Эра. – Да и что я могу? Все, что видела, я всадила в картину. Очень жаль ребят. В свое время они мне здорово помогали. Я была совсем глупенькой и неопытной, а они тянули меня за уши. Так хочется сделать им что-то полезное... Иван, скажи, только серьезно, без твоего обычного соленого словца: ты не согласился бы для них написать? Ведь это для ребят будет такая удача. Материал за подписью: «Иван Овцын, полярный капитан».
– Подписывать я умею. В этом у меня громадный опыт, – сказал он. -Не хмурься, я ведь не отказываюсь. Я бы с радостью сердца помог твоим ребятам. Написал бы для них роман с продолжениями, если б умел.
– Значит, ты не отказываешься? – весело спросила Эра.
– Но и не соглашаюсь, – произнес он. – Ничего определенного не могу сказать.
– Это естественно, – согласилась она. – Ведь сегодня ты ничто, нуль, дырка, звено без контрфорса. Как же ты можешь сказать что-нибудь определенное!
– Поносить меня имею право только я, – сказал он.
– Вот новости, – сказала она обиженно. – А я – это разве не ты?
Он опустил голову, улыбнулся невесело.
– Сейчас, к сожалению, нет. Сейчас ты возвышаешься надо мной, как сияющая вершина коммунизма над проклятым болотом эксплуататорского строя...
– Завтра утром мы поговорим всерьез, и ты сядешь писать. Честное слово, у тебя получится. Я не вышла бы за тебя замуж, если бы думала, что ты не сможешь написать простого очерка.
– Надо было в Тикси и проверить, – сказал он. – Нет ли у нас молочка? Сатанински хочется пить.
– Я схожу.
– Ладно, схожу я, – сказал он и поднялся.
Он оделся, вышел на улицу, медленно дошел до «Гастронома» и вдруг поймал себя на том, что думает об очерке. Арктический рейс распался в сознании на цепочку эпизодов, как на картинке, иллюстрирующей гипотезу Джинса, вырванная из Солнца струя материи расчленилась на капли будущих планет.
Утром был длинный «серьезный разговор», после которого Эра усадила его за стол и ушла по своим делам.
– Ну-с, поглядим, каков из меня Мартин Идеи... – проговорил он, опасливо взял в пальцы авторучку и снял колпачок.
Написал страницу, перечитал и взъерошил волосы на затылке. Сказал бронзовому Будде, сложившему ручки на брюхе:
– Почти как в судовом журнале, только меньше цифровых данных. Как
ты думаешь, толстяк, не плеснуть ли нам на это дело красок?
Будда не стал возражать, и он переписал страницу, добавив эпитетов и придаточных предложений.
Прочитал вслух, спросил у Будды:
– Не кажется ли тебе, что теперь глуповато? А что делать, мудрейший? Улыбнуться? Ты прав, о светоч мудрости. Человек должен улыбаться, иначе как отличишь его от моржа? Кстати, о моржах. Помню, однажды резвился в водичке морж со своей подругой, а шалунишка-рулевой направил судно прямо на него. Морж рассердился и так трахнул ластом по борту, что Георгий Сергеевич Левченко выскочил на мостик в полосатой пижаме, подумав, что сели на риф. А эпитеты придется убрать, потому что снег и без меня белый, лед и без меня твердый, а борт и без меня железный.
Снова переписал начало, и теперь оно понравилось ему.
– Не кажется ли тебе, толстяк, что от этой печки уже можно танцевать? – спросил он Будду. Идол, прикрыв глаза, мудро ухмылялся. – Ну, раз ты одобряешь...
Он писал, перечеркивал, рвал листы и переписывал три дня, не выходя из дому. Раскрывал на пять минут окна и дверь, чтобы вынесло сигаретный дым, и снова садился к столу. На четвертое утро опять переписал все шестнадцать страниц, понял, что ничего больше не сможет сделать, хоть вывернется наизнанку, сложил странички стойкой и надел на авторучку колпачок.
– Читай, – кивнул он Эре и пошел одеваться.
– Куда ты? – спросила она.
– Занимать очередь на развод.
– Не спеши, – сказала Эра. – А вдруг что-нибудь получилось?
– Вряд ли, – отозвался он, хоть и надеялся, что написал не совсем плохо. – Когда вернусь, скажешь мне правду. Я умею смотреть в ее холодные глаза.
Он не торопился. Сходил в кино, потом пообедал в вокзальном ресторане (про «Флоренцию» вспоминалось с содроганием плеч), купил у носатой бабки пучок колких веток с красными ягодками и пошел домой, размышляя о том, что завтра, в пятницу, пойдет, наконец, в министерство начинать свое великое терпение...
Эра сидела за машинкой.
– Побудь минутку на кухне, – сказала она. – Как раз успеешь съесть апельсин.
Он не стал есть апельсин. Налил воды в глиняный кувшин и поместил туда веточки. Заметил, что красные ягоды пришиты нитками. «Аферистка цыганская!» – подумал он про носатую бабку.
Эра крикнула ему. «Можешь идти!» – и он вернулся в комнату, присел на стол, спросил, закуривая:
– Ну, и?..
Она подала ему перепечатанный очерк.
– Самобытно.
Он взял рукопись, перелистнул ее.
– Очень плохо?
– Мне понравилось, – сказала Эра. – Я кое-что почистила по мелочам. Так, некоторые неизбежные вещи.
Он читал, спотыкаясь на не своих словах, даже фразах. Сперва ревниво возмущался. Потом, остыв, признал, что Эра исправила его ляпсусы справедливо. Вычеркнутое из очерка – не нужно. Теперь он получился крепким, вещью со смыслом, а не просто описанием того, как люди не дали утонуть разбитому волнами судну.
– Получается не совсем моя работа, – сказал он. – Надо бы и тебе подписаться.
– Какая чушь! – засмеялась Эра. – Я сделала меньше, чем любой редактор. Знаешь, как редакторы правят рукописи? Родной автор не узнает.
– Я думал, редакторы исправляют грамматические ошибки. Что же тогда значит «авторское право»?
– Редакторы исправляют все – от темы до идеи. Авторское право в данном случае значит, что все это делается с согласия автора. Одевайся и иди в редакцию. Нечего тянуть. Найдешь там Юру Фролова, дашь ему рукопись и потребуешь, чтобы он прочитал при тебе. Держись просто, независимо и капельку свысока. В общем будь собой. Впрочем, как бы ты ни держался, за этот материал схватятся. Это не то, что токарь Пеночкин перевыполнил план на три с половиной болванки...
Она подала ему пальто.
В просторной и прокуренной комнате стояли шесть столов. Он спросил Фролова, и его направили в угол. Там за столом сидел сухощавый молодой человек с необычайно яркими глазами на смуглом лице. На столе сидел другой молодой человек, белобрысый и пухлый.
– Семьсот граммов чистого алкоголя без дачи сена убивают лошадь. Ты понимаешь – лошадь! – настаивал белобрысый.
– Без дачи сена лошадь и так сдохнет,– спокойно ответил яркоглазый. Он спросил Овцына: – Вы по мою душу?
– Если вы Фролов, – сказал Овцын.
– Я Фролов. А вы?
Он не успел ответить. Грузный мужчина с мясистым, без признаков интеллигентности лицом подвел к столу заплаканную девушку.
– Помогите барышне, Юрий Владимирович.
Пухлый тихо сполз со стола и исчез. Фролов посмотрел па Овцына, пожал плечами:
– Возьмите пепельницу, посидите в том кресле. Приказ шефа – закон для литсотрудника.
Овцын поместился в низкое кресло и закурил, глядя, как колыхающаяся спина шефа удаляется в сторону обшитой дерматином двери. Потом стал смотреть на девушку, орудовавшую платочком.
– Ну, что стряслось? – спросил ее Фролов, придав улыбке оттенок печали и сострадания.
Она сжала платочек в костлявом кулачке и заговорила громко и требовательно. Она настаивала, чтобы печать разоблачила ее отсталую, эгоистичную маму, которая не велит ей выйти замуж за солдата Колю; и Овцын слушал, прилагая усилие, чтобы не рассмеяться. А Фролов кивал, соглашался, что это консервативная мама, даже вредная мама, но писать фельетон про маму отказался. Маму не надо разоблачать, маму надо убеждать, говорил он; и вообще любовь – это могучая сила, и нет преград, которые она не могла бы преодолеть.
– Вы не знаете мою маму, – всхлипнула девушка. – Из-за нее Колю уже сажали на гауптвахту. С моей мамой можно бороться только при помощи печати. Она не разрешит мне выйти замуж за солдата. Чем я могу ее убедить?
– Фактом, – сказал Фролов. – По-моему, в загсах не спрашивают записку от родителей.
Девушка опустила глаза.
– Я не могу так. Что это будет за жизнь, если мама не согласна?
– Это будет нервная жизнь, – согласился Фролов.
– Что же мне делать? – Она снова принялась орудовать платочком.
– Подрасти, – серьезно сказал Фролов.
– Все так говорят. – Она горько вздохнула и спрятала платочек. -Ничего вы все не понимаете в любви!
– Куда уж нам, старым перечницам! – сочувственно кивая головой, согласился Фролов.
Когда девушка, не простившись, ушла, он подозвал Овцына, сказал, посмеиваясь уголками глаз:
– Парадоксальная статистика. Наибольшее количество браков приходится на зимние месяцы. Где ты, весна, пора любви?
– Браки заключаются па небесах, – сказал Овцын. – В тех краях, где климат не подвержен сезонным изменениям.
– Да? – сказал Фролов. – Надо будет уточнить в отделе науки. Однако давайте рукопись, вон она торчит из левого кармана вашего заграничную пиджака.
Овцын успел выкурить две сигареты. Наконец Фролов дочитал, свернул листки трубочкой, поднялся со стула.
– Есть смысл сходить к шефу, товарищ Овцын, – сказал он.
Редактор сдул с лежавшей перед ним тетради пепел, предложил сесть.
У него были напухшие, иссеченные морщинами веки и нездоровые, в красных жилках глаза. Он спросил:
– Что у вас вышло с девушкой, Юрий Владимирович?
– Душеспасительная беседа. Не писать же хлесткий фельетон под названием «Мать ее так!».
Редактор поморщился и вдруг с любопытством, сверляще уставился на Овцына.
– Полярный капитан Овцын, – сказал Фролов.
– Бывалый человек – это хорошо, – сказал редактор.
Фролов положил на стол рукопись.
– Вот очерк. Я уже прочел.
– Интересно... – произнес редактор, надел очки, прикурил от окурка другую папиросу и склонился над рукописью.
Он прочитал быстро и опять сверляще уставился на Овцына.
– Что вы скажете? – не стерпел Фролов.
– Заметно, что не наш брат по верхушкам скачет, – ответил редактор. -Поставьте в воскресный номер па третью полосу.
– Обсудить не успеем, – усомнился Фролов. – Нынче четверг.
– В понедельник обсудите... Иван Андреевич, вы мобильный человек? – спросил редактор.
– В каком смысле? – не понял Овцын.
– В смысле выехать по заданию редакции. Очерк ваш неплох, но это прошлое. Потому и ставлю в воскресный номер, для чтива. А вот Север сегодняшнего дня меня глубочайше интересует. Если вы не против, зайдите в понедельник поближе к вечеру.
Редактор вынул из кармана патрон, отвинтил крышку, сунул под язык широкую таблетку. Нездоровые глаза совсем закрылись. Фролов мотнул головой в сторону двери. Они бесшумно поднялись с кресел и вышли.
17
Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Эру, он оделся и вышел из дому. Снег несло вдоль улицы вверх от вокзала. Редкие прохожие шли торопливо, сунув руки в карманы и низко пригибая головы. Он миновал несколько закрытых еще газетных ларьков, испытывая облегчение души. Опасался, что, купив газету, не найдет там своего очерка. И когда попался освещенный ларек, Овцын купил «Трибуну», спрятался под стеночкой от ветра и развернул газету, ощущая горячую спазму в горле и предательскую ватность в коленках. Очерк был на месте. Подпись «Иван Овцын» тоже была на месте. Ноги сразу окрепли, но в горле еще долго было горячо, и Овцын подумал, что быть писателем совсем не скучно, коли испытываешь такие ощущения. Он купил еще три номера и пошел домой, и метель уже не мешала смотреть и дышать – может быть, и потому, что шел он по ветру. Все газетные киоски на его пути были уже открыты, и в каждом он покупал по номеру «Трибуны». Последний номер купил на вокзале, потом выпил газированной воды из автомата и отправился домой.
Эра протянула руку и включила лампу. Она лежала на спине, повернув голову к нему, и Овцыну стало вдруг неловко за свое улыбающееся лицо, за то, что он ввалился в комнату, не сняв пальто, облепленное снегом; он почувствовал себя уличенным в мелком грешке, остановился в двери, смотрел на обрисовывавшийся под одеялом выпуклый живот Эры и думал, что совершенно напрасно сорвался с постели в такую рань, что стоило потерпеть, проявить элегантное равнодушие, сходить за газетой после
завтрака, как бы между прочим.
– На улице отчаянная пурга, – сказал он.
Она протянула руку.
– Не кокетничай, давай газету.
– Ах, газету, – сказал он, достал из кармана номер и небрежно кинул его на одеяло.
Он ушел на кухню и, пока грелся кофейник, точил ножи, потом выпил чашку кофе и пошел бриться. Он вернулся в комнату бритый и благоухающий «Шипром», и Эра сказала:
– Очень хорошо. Это можно послать маме. Она обрадуется.
– Пошлю, – сказал он. – Она давно на меня не радовалась.
– Теперь расскажи наконец, что тебе сказал Юра Фролов, когда прочел? Честно, у меня было опасение, что он отошлет тебя с ним в какой-нибудь журнал.
– Юра смолчал. Отвел к шефу. Тот без особых размышлений сказал, что даст очерк в воскресенье в качестве чтива для выходной публики, А вообще-то его глубочайше интересует сегодняшний Север. Предложил командировку.
– И этот злодей до сих пор молчал, – сказала она и улыбнулась. – Иди сюда, я надеру тебе уши! Он сел рядом, сказал:
– Дери.
– Пойми, – сказала она, обняв его и притянув к себе. – У редактора совершенно больное сердце и совершенно безошибочное чутье. Он славен тем, что принимает решения быстро и никогда не ошибается.
– Меня поразил его взгляд, – вспомнил Овцын. – Я чувствовал себя под ним машинкой, которую развинчивают на детали.
– Некоторые чувствуют себя еще более скверно, – сказала Эра. – Я чувствовала себя машинкой, которую не сегодня-завтра сдадут в металлолом.
– Он с тобой плохо обращался?
– Он со всеми обращается одинаково... Понимаешь, один человек показывает тебе, чего он стоит. А другой показывает, чего ты стоишь. Это две основные манеры в отношении высшего к низшему. Редактор очень точно дает тебе понять, чего ты стоишь. И это не радует, если ты стоишь дешево... Только не делай вид, будто ты выше этого, и не смей отказываться от командировки.
– Ты не будешь скучать? – спросил он.
– Конечно, буду, – сказала Эра. – Но ты не будешь скучать.
– Я уже как-то настроился стать на зимний отстой в министерстве.
Эра посмотрела на него, покачала головой:
– Долго ли ты там простоишь? Месяц? Полтора? А потом снова душевная депрессия, волчий взгляд и эта мерзкая «Флоренция»?
Вспомнив засыпанную пеплом скатерть, пустые графины, услужливого Степочку и часы, останавливающиеся в полночь, он вздрогнул, произнес:
– Вечная память...
– Тебе надо двигаться, – сказала Эра.
– Значит, мне надо двигаться, – повторил он.
В понедельник вечером он сидел в кабинете шефа и временами ежился под его препарирующим взглядом.
– Ехать в какую-нибудь тундру – это долго, дорого, да и вам не с руки, – говорил шеф. – Раз уж вы моряк, поезжайте к морю. Будете в родной стихии, все увидите, все поймете и не ошибетесь.
– Сейчас на Севере не замерзло только одно море, – сказал Овцын.
– На Баренцево море и поедете, раз оно одно в рабочем состоянии, -кивнул шеф. – Адрес в командировочной бумаге я напишу так, чтобы он не стеснял ваши передвижения. Например: Мурманская область. А там сами выберете тему. Условие одно: тема должна быть связана с производством материальных благ.
– Транспортировка угля со Шпицбергена – это производство материальных благ? – спросил Овцын.
– Уголь, как писали в годы моей молодости, – сказал шеф, – это есть хлеб промышленности. Если вам все понятно, Иван Андреевич, приходите утром в бухгалтерию и оформляйтесь.
Редактор достал из кармана металлический патрон с сине-белой этикеткой, положил под язык широкую лепешку.
– Мне понятно, – сказал Овцын и встал.
Пожимая ему на прощанье руку, редактор сказал:
– Передайте привет Эре Николаевне. Я слежу за ее успехами. Она -моя воспитанница... Это приятно... – Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. – И о вас я слышу уже давно... Поэтому не изумляйтесь, что альянс совершился столь быстро и гладко.
– Может быть, вам помочь? – спросил Овцын, с тревогой глядя на серое лицо редактора.
– Ничего страшного, – тихо ответил шеф. – Идите, капитан...
Овцын вышел и беззвучно прикрыл за собой дверь.
Фролов еще не ушел, он стоял у стола и перетряхивал свой портфель.
– Чищу эту авгиеву конюшню по понедельникам, – сказал он сердито. -Ну, и как ваши успехи?
– Командировка в Мурманскую область, – ответил Овцын. – Не знаю, успех ли это.
– Не помню случая, чтобы шеф после первого материала посылал в дальнюю командировку человека со стороны, – сказал Фролов. – Это начало карьеры, Иван Андреевич.
– На тридцать втором году жизни поздно начинать новую карьеру, -отозвался Овцын. – Не погубить бы старую.
– Эти две карьеры совмещаются. Еще Паустовский говорил, что самое лучшее – это совместить две карьеры: морскую и писательскую. Черт его знает, сколько хламу скопляется в портфеле за шесть рабочих дней... Хотите почитать завтрашнюю газету?
– Давайте, – сказал Овцын. – Никогда в жизни не читал завтрашних
газет.
Фролов перегнулся через стол, достал из ящика верстку, испещренную карандашными пометками.
Бегло просмотрев, Овцын сказал:
– Ваши заголовки могут вселить оптимизм в душу самого закоренелого меланхолика. Это же ода! «На новую ступень», «Триста видов добрых услуг», «Забота о красоте», «Хороший старт», «Плюс триста тысяч киловатт», и так далее, и так далее.
– Вы заскучали по пессимизму? – Фролов вскинул брови. – Тогда почитайте сообщения из-за границы.
– М-да... Англию ожидают неприятности... Причина трудностей -господство монополий...
Овцын прочитал газету до конца, снова стал смотреть первую страницу, потому что Фролов еще копался в своем портфеле. Взгляд его остановился на знакомой фамилии. «Указ Президиума Верховного Совета СССР, – прочел он, – о награждении лейтенанта Левченко Владимира Георгиевича орденом Красного Знамени... За мужество и отвагу, проявленные при охране государственной границы СССР, наградить лейтенанта Левченко Владимира Георгиевича орденом Красного Знамени посмертно...»
У него передернулись плечи, он стал читать снова, отчаянно и наивно надеясь, что теперь не будет последнего слова «посмертно», но слово никуда не исчезло, так и осталось стоять в конце фразы. Его пальцы сжались, скомкав лист верстки.
– Что это вы обнаружили? – удивился Фролов, подошел и забрал у него верстку.
– Вы не знаете подробностей этого Указа? – спросил Овцын.
– Указа? – Фролов покачал головой. – Нет, ничего не поступало. Дело касается охраны границ, а там сплошь секреты. Вы знали этого человека? Да ведь в вашем очерке встречается фамилия Левченко...
– Это его отец, – сказал Овцын. – Впрочем, сына я тоже знал, он был командиром пограничного катера.
– Был... Можно себе представить, что произошло, – печально проговорил Фролов. – Но если погиб катер, почему наградили только командира?
– Значит, катер не погиб. Погиб только командир, – сказал Овцын.
– Он единственный сын?
– Как будто.
– Трудно вам будет утешить отца, – сказал Фролов, и Овцын удивился, откуда тот знает, что он только что подумал о том, что по пути в Мурманск надо задержаться в Ленинграде.
– Я был несправедлив к этому пареньку, – медленно произнес Овцын. -Катерок у него чуть покрупнее мотобота, несолидная с виду посудинка. Удивляло, как он не тонет под грузом пулеметной установки. Носится вдоль кавказских пляжей... Понимаете, все это не кажется серьезным стороннему наблюдателю... Я сказал однажды: «Кончай кататься на своем катере, найди
порядочную службу...»
– Это всегда так, – согласился Фролов, – Ушел человек, и тут-то нас охватывает раскаяние за все недоброе, что мы ему сделали. Теперь не исправишь, не извинишься. Поэт сказал: спешите делать добрые дела. Спешите, люди, спешите, не откладывайте до удобного случая, ибо она на страже. Придет – и никакого доброго дела уже не сделаешь. Не успокоишь совесть цветочком на могилку. Не исправишь причиненного покойнику зла, придавив его гранитом с золотой насечкой. Спешите делать добрые дела... Когда шеф дуба даст, а этого ждать недолго, много народу в редакции потеряют покой и сон, ибо мотали мы его нервы совершенно беспощадно, а радовать не торопимся...
Фролов машинально сгреб все бумаги со стола в свой портфель, поняв, что сделал не то, удивленно поднял брови, потом, махнув рукой, сказал:
– Завтра разберу. Пошли, Иван Андреевич.
Овцын пришел домой печальный. Хоть и старался бодриться, Эра почувствовала неладное.
– Нет, нет, всё в порядке, – успокаивал он ее.
Никак не мог найти слов, которыми нужно сказать о том, что Володи Левченко уже нет. Утром поднялся первый, вынул из почтового ящика газеты, скомкал и спустил в лестничную шахту.
«Зачем так делаю? – подумал он. – Все равно узнает. Рано или поздно. Но лучше поздно...»
– Странно, что нет почты, – сказала Эра, заглянув в ящик.
– Будем завтракать без газет, – отозвался он.– Говорят, что так пища даже лучше усваивается.
– Пища хорошо усваивается, когда человек принимает ее в привычной обстановке, – улыбнулась она, выпивавшая утром порцию газетного чтива, как хронический алкоголик рюмку. – Когда ты поедешь?
– Нынче. Зачем тянуть?
– Значит, в новогоднюю ночь я буду одна.
– У тебя много приятелей.
– Кому в новогоднюю ночь нужна дама на седьмом месяце?
– Пожалуй... Тебе привет от шефа. Он следит за твоими успехами и радуется.
– Как он узнал, что ты имеешь ко мне отношение? – удивилась Эра.
– Я хотел спросить, но у него начался приступ.
– Впрочем, это пустой вопрос, – сообразила она. – Раз он следит за моим творчеством, значит понимает, что капитан Овцын, про которого писала Эра, знает Эру, которая писала про капитана Овцына.
– Юре Фролову моя фамилия тоже не в новость, но подобная мысль ему в голову, кажется, не пришла.
– Юре редко приходят в голову мысли, не имеющие прямого отношения к работе. Он не особенно талантлив и не может позволить себе такой роскоши... Хочешь, я пойду с тобой в редакцию? – предложила она.
– Не надо. Один я быстрее управлюсь.
Он опасался, что, выйдя на улицу, она прочитает газету.
– Знаю, чего ты боишься, – нахмурилась Эра, – Увидят тебя со мной и подумают, что я устроила тебе протекцию. Верно?
– Может быть, – сказал он, не думая об этом. – Да и вообще лучше собери мне чемоданчик.
– Пожалуйста, не думай, что ты мне чем-нибудь обязан, – сказала она, продолжая хмуриться. – Ты все сделал сам.
– Я и не думаю, – сказал он.
– О чем же ты думаешь?
– Надо заехать в Ленинград, – сказал он первое, что пришло в голову.
– Я это знала, – согласилась Эра. – Конечно, заезжай. Ничто тебе не мешает. Повидаешь маму, приятелей. Не забудь газету.
– Какую газету? – вздрогнул он. Слово «газета» вертелось в голове с той секунды, как он проснулся.
– Как какую? – изумилась Эра. – С очерком.
– Захвачу, – сказал он. – Но не думаю, что это обрадует ее так же, как
тебя.
– Неплохо бы и вполовину. Кстати, мои родители обрадовались.
– Ты успела там побывать?
– Мне нельзя там бывать, – сказала она и опустила глаза. – Мы говорили по телефону... Отец впервые назвал тебя не матросом, а капитаном. Кажется, в его голосе промелькнуло почтение.
– Может быть, пора их еще больше обрадовать? – спросил он.
– Не знаю... Глупо, конечно, но я страшно смущаюсь, когда думаю об этом. Постараюсь еще потянуть...
– Ты что, школьница, согрешившая со студентом?
– Если бы я тогда грешила, то не смущалась бы сейчас...
Он быстро получил командировочное удостоверение с очень солидными штампами и печатями, немножко медленнее получил деньги и, сопровожденный отечески-строгим редакторским напутствием, отправился в Аэрофлот и взял билет на ленинградский самолет. Опять впереди была дорога, и он чувствовал прилив сил, душа расправилась, как поднявшийся ввысь баллон аэростата, и весь он стал легче, освобождённее, будто невидимые, но прочные цепи вдруг упали с него. Придя домой, он не мог скрыть радости, как вчера не смог скрыть печали, и подумал, что здорово развинтился за последнее время – раньше он умел не выдавать чувств.
– Смотри не останься там плавать на каком-нибудь дурацком пароходе, – сказала Эра вроде бы в шутку, но в голосе ее слышалась обида.
– Чушь, – сказал он. – Завтра же я смертельно затоскую по тебе. Днем я буду сжимать зубы и гнать тоску работой, а по ночам стану заливать слезами подушку, сунув в рот ее угол, чтобы заглушить рыдания и не беспокоить соседа по каюте.
Он смеялся, и она потребовала:
Терпеть не могу, когда ты паясничаешь.
Хорошо, – сказал он. – И верно, не время паясничать...
Они собрались уходить, когда до вылета осталось два часа. Эра заглянула в почтовый ящик, вынула конверт, разглядела штемпель, произнесла тихо и печально:
– Из Сухуми. Странно. Он обещал не писать мне.
«Он не нарушил обещания, – подумал Овцын, – это письмо написал не
он».
– Я была уверена, что все копчено, – сказала Эра.
«Да, все кончено... – подумал Овцын. – Но не для тебя».
Она заглянула ему в глаза, спросила:
– Ты станешь читать?
– Нет, – сказал он.
– Я тоже не стану.
«Не потому, что тебе не хочется, а потому, что ты не могла бы прочесть его письмо равнодушно», – подумал Овцын.
Эра захотела разорвать письмо, он удержал ее руку.
– Это нельзя рвать, – сказал он.
– Почему? – Она взглянула на него с недоумением.
– Эра, малыш, я поеду в аэропорт один. Ты иди домой и прочти письмо. Написал его не Володя. Володя погиб.
– Что за бред, откуда ты знаешь? – вскрикнула она и схватила его руки.
– Об этом написано в газетах, которые ты сегодня не получила, -сказал он. – Иди домой.
Руки ее упали, она медленно повернулась, дошла до двери, отперла ее, не отпуская ключа, обернулась к нему, сказала:
– Хорошо, что ты улетаешь. Я наговорила бы лишнего... Может быть, я напишу тебе в Мурманск.
Когда дверь защелкнулась, он пошел вниз, стараясь не думать об этом, но думал об этом, потому что слишком резко запечатлелись в глазах мертвенно-бледное лицо жены и большие, немигающие глаза на нем. И горечь, и обида, и злость смешались в душе, и хорошо было понятно ему, почему когда-то грозный царь персидский приказал высечь море, – да что с того толку, все равно пришлось ему беситься па берегу, дожидаясь спокойной погоды... Морозный ветер улицы остудил лицо. Он поднял голову, посмотрел на окно. Штора была плотно закрыта.







