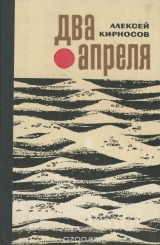
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
23
Утром снова было яркое солнце. Даже мрачную башню похожего на турецкую крепость вокзала оно высветлило, смягчило, чтобы она не слишком удручала человечество. Овцын настежь раскрыл окно и, вдыхая морозный воздух, почувствовал острый, мучительно знакомый запах. Закрыл глаза, стал вспоминать, откуда этот запах, в какой дали жизни был он связан с громадной, недоступной рассудку радостью. И вспомнил. Тогда было море и сваи разрушенного причала, обросшие темно-зелеными, колышущимися в воде бородами тины, а он только что вылез из окна дедова дома, пока все спали. Он барахтался в море, прыгая в прозрачную глубь со свай, вылавливал из тины рачков, ракушек и прочих смирных жителей, потом побежал вперед по песчаному берегу, потому что впереди за каждым утесом была тайна; а когда изможденный и счастливый вернулся обратно к разрушенному причалу, откуда уже виден маячивший на горушке дедов дом, солнце стояло высоко – возможно, было за полдень.
На свае сидел пятилетний Сашко, который приходился ему, шестилетнему, троюродным дядей.
– Мамка тоби шукала, – сообщил троюродный дядя на очаковском диалекте русского языка.
Мамка есть мамка.
– С ремнем? – спросил он.
Радость ушла, стало жарко, потно, заболели ноги. Отчаянно захотелось
пить.
– До ремня недалеко ходыти, – философски произнес Сашко, поглядев на дом деда. Ему троюродным дядей доводился именно Ванин дедушка, что уже никак не укладывалось в голове.
– Сашко, давай сховаемся,– сказал он.
– От ремня ховаться, тильки бильше нарываться,– произнес мудрый и часто поротый Сашко. Но, отчетливо представляя себе последствия, все же прыгнул со сваи и поплыл вслед за троюродным племянником к рыбацкой пристани.
Рыбаки напоили холодной водой из дубового анкерка, дали хлеба с арбузом. Снова была радость; и только когда вспоминалась мама, вздрагивало сердце и хотелось забраться в отходящий баркас под настил, и чтобы этот баркас многие дни не подходил к желтому берегу, где, как маяк, торчал на горушке дедов дом. К вечеру дед нашел их, вытащил из-под опрокинутой лодки, куда они забились, издали увидав высокого сутулого старика, широкими шагами шествующего к пристани. Дед крепко взял за уши обоих и на таком оригинальном буксире привел домой. Было страшно, пока не выпороли. Тогда снова стало хорошо и весело. Перебивая друг друга, дядя и племянник рассказали свои приключения, до отвала наелись ухи, картошки с курятиной и абрикосов, получили разрешение надеть штаны и убежали в клуб шестой раз смотреть кино про Александра Невского.
– Ты выморозил всю квартиру, – сказала Эра. – Иди лучше закаляться под холодный душ.
«Но почему запах? – думал он. – Откуда в Москве этот запах? Или у меня безумие уже не только в глазах?»
Он закрыл окно и ушел в ванную, подавленный видением невозвратимого. Нет теперь ни деда, ни Сашка, ни разноликих дядей и теток, сестер и братьев разной степени родства. Война разметала и погубила непокорный клан. Стоит на Одесском кладбище памятник одному из братьев. На Очаковском угомонился под четырехгранным обелиском девятилетний партизан Сашко, не боявшийся порки, не испугавшийся и пуль. Деда расстреляли на том самом острове, где когда-то был казнен лейтенант Шмидт... Только дом остался, все так же маячит на горушке и виден с моря. Но живет в нем другая семья, которой больше повезло в те грозные годы.
Эра кормила его завтраком. Он молчал, жевал нехотя, не разглядывая, что жует, и она несколько раз спрашивала:
– Где твои мысли?
– В прошлом, – отвечал он, потом сказал сердито: – Перестань. Нет у меня никаких мыслей.
– Что же тогда у тебя? – спросила она.
– У меня ничего, – сказал он и вздрогнул так, что звякнула ложка в стакане. Страшный смысл слова дошел до глубины сознания.
Хорошо, что раздался звонок. Он пошел открыть дверь.
– Извините, Иван Андреевич, – сказала Ирина Михайловна.
– Что случилось? – спросил он, глядя в ее растерянное лицо.
Она сказала:
– Леня не ночевал двое суток. И не выходил на работу. Думала, может, он заходил к вам.
– Должен был зайти, – сказал Овцын. – Странно, что не зашел.
– Извините, я пойду, – проговорила она, запинаясь. – Каждый год это повторяется, и каждый раз я теряю голову.
– Обождите, – Ирина Михайловна, – удержал он. – Пойдем вместе. Наверное, я смогу вам помочь.
– Помогите, – сказала она. – У меня уже нет сил.
В конце дня, когда уже обошли всех знакомых и множество ресторанов, Ирина Михайловна присела на гранитный цоколь колонны у станции метро, сказала:
– Не могу больше. Я сейчас упаду. Никуда не надо ходить, никуда не надо звонить, пропал – и бог с ним! Даже если вернется, я не обрадуюсь. Она заплакала.
Овцын проводил женщину домой, потом объехал вокзалы. Повара не было ни у касс, ни на перронах, ни в залах ожидания. В ресторанах его тоже не было. Может быть, он уже уехал. Во всяком случае, искать его уже негде.
– День прошел – и слава богу, – издевался над собой Овцын. – Может, и завтра найдется занятьице бывшему капитану...
Он поехал домой, матеря взбалмошного повара, который на шестом десятке не может унять инстинкт дальних странствий. У двери дома оглянулся. На глаза попалась квадратная башня. Это ведь тоже вокзал, и, чтобы совесть совершенно успокоилась, он пошел туда.
«Вот растыка!» – выбранился он, увидев Алексея Гавриловича в громадном зале ресторана, склоненного над столиком. Два человека мотались весь день по городу, а он, нате вам, вот где, под носом! Но злость прошла, когда он увидел большие, тоскливые, совсем не пьяные глаза Алексея Гавриловича.
– Стремление к странствию свойственно славянской нации, – сказал ему повар, будто продолжая давно начатый разговор. – Думаете, почему у нас дольше всех держалось крепостное право? В государствах, где мужик смирный и с интересом сидит на своем месте, крепостное право ни к чему. А русский мужик убежит, если его к сохе не привяжешь. Разве покорный народ Сибирь, такую громадину, завоевал бы? Только упрямый, несмирный, своевольный русский народ, у которого от рождения гвоздик в заднице расположен, мог такое дело сломать...
– Ирина Михайловна плачет, – сказал Овцын.
Повар со стоном вздохнул и махнул рукой.
– Тысячи русских женщин в подобном положении. Плачут, страдают, ломают руки в горе своем... И никакая наша любовь их от этого не спасет. Другая любовь влечет нас с неодолимой силой!
– Хватит деклараций, Гаврилыч, – сказал Овцын.– Еще не апрель.
Повар поднял глаза к высокому расписному потолку.
– Апрель души, Андреич, – это совсем даже не начало второго квартала. В душе уже апрель, и пташки-чижики поют на разные голоса.
– Это можно понять, – сказал Овцын в сторону.
– И зря вы меня обижаете, товарищ капитан, напрасно. Декларации! -выговорил он с отвращением. – Декларации – это когда один другого надуть должен для своей выгоды.
– Простите, – сказал Овцын. – Ирину Михайловну жалко... Может, все-таки подождете меня?
– Не имею возможности, – помотал головой повар.
– А куда?..
– А куда, а докуда... – Алексей Гаврилович пожал плечами. – Где она кончается, человеческая дорога?.. Сперва в Рязань заеду, Ксюшу повидаю. Она мне как дочка... К вам хотел зайти попрощаться. Потому и сижу здесь у вашего дома. Да неловко как-то стало. Вы ко мне не ходите, вроде обиделись.
Овцын почувствовал, что краснеет. Как только повар стал ему не нужен, он не сделал шага, чтобы его повидать. Не подлость ли?
– Чушь это, Гаврилыч, – сказал он.
– Конечно, чушь, Андреич, – подтвердил повар и засмеялся невесело. -Какие же мы с вами дружки...
– Сегодня поедете? – спросил Овцын.
– Кто знает... Может, сегодня.
– Есть где ночевать?
– Вы за меня не волнуйтесь, – сказал Алексей Гаврилович. – У меня теперь все есть. Потому что я человек свободный.
– Свобода духа, – произнес Овцын. Он хотел вернуться к своей иронии, оградиться ею. Издевайся над тем, что тебе недоступно, чтобы не завыть. -Великолепный алмаз, украшающий личность.
Повар понял и усмехнулся в ответ.
– Этому алмазу не всякий позавидует, – сказал он. – За него большим лишением плачено. Иной плюнет и скажет: «На кой мне хрен это украшение за такую цену? Украшу свою личность чем подешевле».
– Странно вспомнить, что недавно вы учили меня смирению, – сказал Овцын.
– И это верно, – кивнул повар. – Пока можешь смиряться, смиряйся. Не мути воду, не волнуй людей. Если можешь смиряться – значит, бунтовать тебе нельзя. Нет, значит, у тебя непререкаемого основания бунтовать.
Вернувшись домой, он сел к столу и написал письмо матери. Раскрыл ящик, стал искать конверт и увидел среди бумаг пожелтевшую уже телеграмму от второго января: «Дорогая Эра Николаевна сообщите когда я могу приехать Овцына».
– Почему она не приехала? – спросил он.
– Меня не было в Москве, – сказала Эра.
Он продолжал в упор смотреть на нее.
– Я вернулась только шестого и послала телеграмму, что когда угодно, и я очень жду и буду рада. Она не приехала.
Он все смотрел.
– Неужели необходимо вслух произносить, что я была в Сухуми? -сказала она. – Я надеялась, ты не потребуешь этого.
Он разорвал свое письмо, написал другое:
«...Эра просит меня передать тебе глубочайшее сожаление, что ее не было в Москве, когда пришла твоя телеграмма. Она просит тебя приехать. Я тоже... Не удивляйся, если не застанешь меня, и не осуждай. Я скомкал календарь, и у меня уже апрель. Эра расскажет тебе почему. Она все понимает...»
– Если что-нибудь случится, ты никогда себе этого не простишь, -сказала Эра. – Хорошо подумай.
Он заклеил конверт, аккуратно вывел адрес. Писал он довольно коряво, но адрес всегда выводил красиво.
– Еще ночь впереди, – сказал он.
– Только одна ночь?.. Ну пусть! Я была готова к этому, не думай, что я ничего не видела... Сварить тебе кофе?
– Я сам. Ложись спать, малыш.
– Я лягу, – сказала она.
Он сходил на улицу бросить в почтовый ящик письмо; а когда вернулся, в комнате было темно, и он не зашел туда. Сварил кофе и пил, глядя на стены, которые недавно покрасил, на пеструю на окне занавесочку, глядя на плиту, раковину, белый шкафчик, глядя пустыми, равнодушными ко всему этому глазами. Он был как бы в каюте, которая стала чужой и чуждой, потому что закончился рейс. Осталось последний раз помыться, подписать акты, собрать вещички, которых у него никогда не бывало больше чемодана, и выйти, посвистывая, размышляя о том, где же пристроит теперь забавница-судьба.
...Из этого дома не выйдешь посвистывая. Отсюда выйдешь медленной поступью, оглянешься на окошко. Будешь считать недели, сколько их осталось до возвращения сюда. Почтальон спокойно уронит в ящик письмо, над которым склонялся ночью, отрываясь, чтобы прислушаться к глубинному рокоту двигателя, к вою ветра, скрежету льда, перезвону машинного телеграфа.
Он чувствовал, как в густой тишине ночи существо его сплачивается в
тяжелый и плотный комок. Тяжесть эта была приятна, потому что он сам был этой тяжестью и этой плотностью, и скапливалась сила, и она не придавливала, она влекла вверх, а легковесные мелочишки, отваливаясь, устремлялись вниз, исчезали и забывались. Он вспомнил рассуждение инженера Постникова о точке, самой совершенной из фигур.
Когда он под утро пришел к жене, она лежала навзничь, и глаза были раскрыты, поблескивали в темноте. Она протянула руку, коснулась его, спросила:
– Что ты решил?
– То, что решил, – сказал он.
– Я знала. Мне казалось, я слушаю твои мысли. А я дура.
– Ты помнишь, когда мы признались друг другу в любви? – спросил он.
– Мы не признавались друг другу в любви, – сказала Эра. – Мы оставили это для сегодня. Я люблю тебя.
– Я люблю тебя, глупая девчонка, – сказал он, нашел ее руку и прижал к губам.
Не двигаясь, она прошептала:
– Обними меня. До рассвета еще есть время...
Утро пришло раньше, чем хотелось бы, и день промелькнул стремительно и до обидного незаметно. Овцын только и сделал, что купил билет и прочитал в библиотеке подшивку газеты «Водный транспорт» за последние два месяца, но чемодан пришлось собирать второпях, перед самым выходом из дому.
У вокзала он не выпускал Эру из машины, хотел, чтобы она в этой машине уехала домой, но она сильно оттолкнула его и вышла.
– Не такая уж я беспомощная, – сказала она. – Наверное, я даже могла бы нести чемодан.
– Героическая девчонка, – улыбнулся он.
– Ты же меня бросаешь, – сказала она. – Теперь мне не на кого надеяться, только на свои силы... Представляю, как ужаснутся родители, когда узнают.
– Может быть, тебе лучше пожить у них?
Эра посмотрела на него укоризненно и свысока:
– Я самостоятельный человек и буду жить в своем доме.
У вагона она не выдержала и расплакалась.
– Зачем плакать? – говорил он, неумело утешая.– Ты же понимаешь, что все к лучшему.
– Я понимаю, – сказала она, – но никогда еще мне не было так горько.
– Нет, было, – улыбнулся он и вытер платком ее лицо. – Помнишь, ты так же ревела, когда прощалась с собакой Розой.
– Даже в такую минуту ты шутишь, – сказала Эра. – Хорошо, я постараюсь не реветь. Чтобы ты не говорил, что собаку Розу и тебя мне терять одинаково горько.
– Ты не теряешь меня...
– Тебя завтра не будет со мной.
– А ты и завтра будешь со мной.
– Правда? – спросила она жалобным голосом. – Ты не совсем бросаешь меня? Ты не забудешь меня в этом гадком море?
– Ох!.. – покачал он головой.
– Да, – сказала она. – Хоть бы оно высохло! И немедленно пришли .мне адрес, куда писать.
Кончилась и эта минута. Поезд тронулся. Овцын последний раз прижал к себе жену, шепнул на ухо:
– Береги себя.
Догнал вагон, впрыгнул, сказал проводнице, взглянувшей на него неодобрительно:
– Все в порядке.
Проводница проворчала:
– Я же за вас за всех отвечаю. Если что случится, с кого спросят?
Он прошел в вагон, нашел свое купе, раскрыл дверь и увидел даму, снявшую платье, но еще не успевшую надеть халат.
– Надо стучаться, молодой человек, – сказала дама, глядя на него приветливо.
«Надо закрываться на задвижку», – подумал он, сказал «простите» и закрыл дверь. Вспомнил, почувствовав голод, что в поезде есть буфет, пошел через гремящие площадки к шестому вагону.
У двери буфета толпились мужчины, утолявшие не столько голод, сколько жажду. На многих в поезде накатывает мучительная жажда, не позволяющая заснуть, пока не утолят ее у буфета. Овцын стал ждать очереди, прислушиваясь к беспорядочным разговорам веселых командированных, освободившихся на краткий миг времени от строгой опеки жен и начальства.
Внезапно что-то стало мешать ему. Это необъяснимое внушило тревогу. Он подумал, что намерение выпить к бутерброду рюмку коньяку разворошило загнанные в глубинные тайники воспоминания о «Флоренции». Обычно у него проходила тревога, когда он понимал, отчего она, но тут беспокойство нарастало.
Когда пришла очередь, он взял свою тарелку, выбрался из тесного буфета, сделал шаг и застыл в растерянности, увидев стоящую у окна Ксению.
– Ну, не железный ли ты человек, – сказала Ксения. – Я гляжу тебе в затылок уже двадцать минут.
– Я не железный человек, – сказал он и подал ей тарелку.
– Разделим по-братски? – спросила она, смеясь.
– Разделим, – сказал он. – Ты знаешь, какой вопрос вертится у меня на языке?
– Знаю. – Она все смеялась. – Пусть вертится!
Вопрос показался ему жалким, и он был рад, что не задал его.
Не все ли равно, как попала она в этот поезд, не надо тратить силы, стараясь понять то, что все равно не понять. Она посмела попасть в этот поезд. И поэтому он не смеет пожелать ей спокойной ночи и отойти.
Что-то вторглось в его судьбу, и высокий смысл жизни открылся ему на мгновение, и он не стал с любопытством бессилия выяснять, к добру это или к худу, да и есть ли в самом деле разница, да и откуда же ей взяться, когда все на свете так неразрывно сплетено, так проникло одно в другое, что никто, кроме тебя самого, не сотворит из хаоса добра или худа. И он удивился, как долго зрела в его сознании эта такая простая мысль.







