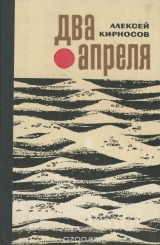
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
– Вы меня убиваете, – сказал Филин, приложив руку к сердцу.
– У вас, как всегда, свидание?
– А что, нельзя? – косо посмотрел старпом.
– Отчего же... Можно, – сказал Овцын. – Если в меру. Подумайте о мере и посидите сегодня дома.
– Раз вы приказываете...
Марат Петрович Филин засопел, надулся и стал есть суп, внимательно оглядывая каждую ложку. Овцын мог бы сказать ему, что никогда еще не обременял помощника службой, что сам чуть не все вечера провел на судне, отпуская его после работы на все четыре главных румба. Но он промолчал, потому что говорить о том, что и так известно, – это плохая манера, а поминать при этом свои заслуги или благодеяния тем более.
Допив компот, Овцын пошел на почту и заказал разговор с Ленинградом. Сомнения, которые заронил в душу старый скептик Борис Архипов, уже исчезли, он опять любил Марину, к горлу подкатывала теплая волна, и сердце билось чаще, когда он представлял, как через час услышит ее голос. Он ругал себя бесчувственным поленом за то, что не сообразил раньше позвонить ей, и все выбирал среди приличных для телефонного разговора слов самые нежные и ласковые. Но задуманные слова потерялись, когда он взял трубку и после многих «алло» услышал, на конец, голос Марины.
– Я сразу угадала, что это ты, – сказала Марина.
«Кто же еще мог быть? – подумал он язвительно. – Тоже мне цыганка». Он сказал:
– У нас тут, знаешь, весна.
Марина воскликнула радостно:
– У нас тоже! Такое солнце, что окна раскрыли в лаборатории.
– Это ничего, что я тебе позвонил на работу? – спросил он.
Марина ответила приглушенным голосом:
– Ты хороший. Я рада. Как твои дела? Когда в море?
Он почувствовал облегчение. Простые вопросы, простые ответы. Так и надо. Сказал:
– Дела благополучно. В начале мая думаю выйти... А ты как живешь?
Раздался вздох, потом обиженный голос:
– Ты еще спрашиваешь... Как я живу? Днем работаю. Вечером гибну от скуки и ожидания. Скорее приплывай, слышишь?
«И что будет? – подумал он вдруг уныло и трезво. – Будет неделя отчаянной любви. Может, больше, если продлится стоянка в Ленинграде. Будет неприбранный стол. Постель, забрызганная вином и духами. Пустая и звонкая голова по утрам. Разговоры, для которых хватает дюжины слов. Будут неутолимые восторги, воспоминание о которых потом гонишь от себя...»
Марина еще что-то говорила, но он не слушал и, когда кончилось время, равнодушно повесил трубку. Вышел из душной кабины, и тут вспомнились ласковые и нежные слова, которые он придумал, ожидая. «Хорошо, что у меня вылетело из головы это сюсюканье», – сказал себе Овцын. Он пошел к выходу и в двери столкнулся с Борисом Архиповым.
– Звонил? – поинтересовался Борис Архипов.
Овцын кивнул.
– В контору?
– Не в контору, – сказал Овцын.
– И как? – прищурился Борис Архипов.
– Да так, – сказал Овцын. – Не умею говорить по телефону. Теряюсь, когда не вижу лица собеседника. Ну и говорю всякие «бе» и «ме». Даже неловко.
– Естественно, – усмехнулся Борис Архипов. – В ином собеседнике главное – это лицо. Проверим, нет ли чего до востребования?
– Посмотрим.
Совершенно неожиданно он получил письмо от Соломона.
«...Днями толкусь в конторе, – писал Соломон.– Каждый раз обещают отправить завтра-послезавтра, а завтра снова обещают отправить завтра-послезавтра. Думаю, что к двадцатому твоя команда все-таки приедет. Куда ж дальше тянуть? На Ладоге лед еще не сошел. Какой-то умница догадался его бомбить с самолетов для ускорения начала навигации, но ты ж понимаешь, что из этого получается. Уж так, как немцы долбили Ладогу в сорок втором, никто не сумеет. Но от этого лед раньше не сошел. Звонила Марина, спрашивала, не пишешь ли ты мне. Я сказал, что твои письма затерялись на почте. Мы оба вздохнули и повесили трубку одновременно. Отчего вы не поженитесь по закону, сволочи? Ну, будь, здоров. Надеюсь на скорую встречу.
Иван! Начальник, узнав, что я пишу тебе (пишу тут же, на краешке стола), велел вложить в конверт его записку...»
На оборотной стороне листка настольного календаря с датой 13 апреля было написано:
«Уважаемый Иван Андреевич, привет вам и наилучшие пожелания. Мы тут подумали и решили повара и буфетчицу не присылать. Финансовые дела наши не блестящи, хоть немножко сэкономим. Надеюсь, вам нетрудно будет нанять там повара и буфетчицу. На обычных условиях экспедиции. Желаю успехов.
Крутицкий».
– Еще забота, – сказал Овцын и сунул письмо в карман.
– Худые новости? – спросил Борис Архипов,
– Нет, все в порядке. Только придется искать повара и буфетчицу. Это несложно.
– Контора решила сэкономить на проездных и командировочных? – с усмешкой спросил Борис Архипов.
– На спичках, – сказал Овцын. – Впрочем, мне и лучше. Найду кока, получу продукты и буду питать народ на судне.
– Где ты его будешь искать?
– В отделе кадров пароходства. Там не то что кока, там астроботаника найти можно... Ты сейчас домой?
– Попробую позвонить в Питер. Вот тебе билет на всякий случай, если разойдемся. Ужинать все же приходи, если успеешь.
В коридоре отдела кадров было накурено, тесно и грязновато. Люди всех возрастов, одетые во всевозможные одежды разной степени сохранности, мужчины и женщины и совсем еще безусые подростки, веселые и хмурые, розовощекие и со следами жестокого похмелья, любопытные и мрачно разглядывающие заплеванный пол у себя под ногами, разные люди сидели на деревянных скамьях, слонялись вдоль коридора и подпирали крашеные стены. Овцын стал у стены и некоторое время разглядывал портретную галерею.
Женщины исключались. Он ничего не имел против женщин, но на судне без них проще. Гривастые юнцы в немыслимых куртках тоже отпадали – они пришли наниматься матросами. Злодейские физиономии с клеймом многодневного злоупотребления сивухой он тоже исключил. Не подходили и мужчины в фуражках с командирскими эмблемами. Изучив руки оставшихся и сделав еще несколько исключений, Овцы направился к скамье, где с краю сидел человек лет под шестьдесят, одетый в хорошего покроя, но довольно уже потрепанное пальто. Человек теребил длинными, чисто мытыми пальцами пушистую кепку, лежащую на коленях. Выражение его смуглого выбритого лица было чуть удивленным и в то же время насмешливым. Понятно было, что на этом отделе кадров свет не сошелся для него клином, что он знает себе цепу, и немалую, и вообще делает этому помещению честь своим присутствием.
– Нанимаетесь? – поинтересовался Овцын.
– Здесь у всех одна забота, – сказал человек с пушистой кепкой. -Последние в конце коридора.
– Это понятно, – кивнул Овцын. – Вы, наверное, повар?
– Как вы это определили? – оживился человек с кепкой и перестал теребить ее.
– Методом дедукции, – улыбнулся Овцын.
– Простите, вы сыщик?
– Зачем же так... Я капитан теплохода «Кутузов». Иван Андреевич Овцын.
– Трофимов Алексей Гаврилович, – сказал повар и протянул руку. Пожатие его руки было в самую меру крепким.
– Я так понял, что вам нужен повар, – сказал Трофимов, когда они вышли из коридора и закурили.
– Ну, конечно, – сказал Овцын. – Чего ж тут не понять...
– А что за корабль? Куда он ходит?
– Отличный. И даже оригинальный, – улыбнулся Овцын. – Весь белый и затейливый, как шкатулка. Трехпалубный пассажир. Ходить будет по реке Енисею. Наша задача – довести его дотуда.
– И много это займет времени? – спросил Трофимов.
– Порядочно, – сказал Овцын. – Судя по опыту прошлых лет, до конца августа. Кроме того, никто не будет препятствовать вам на нем остаться.
– Спасибо, капитан, – сказал Трофимов. – Зиму я хочу провести дома. Такая у меня привычка.
– Где это географически?
– В Москве.
– Знаменитый город.. .Как вы сюда попали?
– Длинно рассказывать, – вздохнул Трофимов.
– Если мы столкуемся, Иван Андреевич, у нас будет время поговорить о жизни.
«Если мы столкуемся, вот тогда-то у нас и не будет разговоров о жизни, – подумал Овцын. – Не положено капитану толковать с поваром о жизни. Никаких указов на этот счет, конечно, нет, да просто этого не случается...»
– Вы плавали? – спросил он.
– По Волге-матушке. До Астрахани и обратно.
– А теперь захотелось в море?
– Может быть, может быть... – проговорил Трофимов загадочно. – Где же ваш корабль, капитан?
– Дойдем своевременно. Вы где-нибудь живете?
– Нет, – покачал головой Трофимов. – Только сегодня прибыл.
Он достал из кармана железнодорожный билет и показал Овцыну.
– Отважный поступок. Так и прибыли ни к кому? Приятелей здесь не имеете?
– Так и прибыл ни к кому. В ту пору, когда я заводил себе приятелей, этот город был не нашим.
– Мне показали карту Германии, изданную в прошлом году в Мюнхене, – сказал Овцын. – На ней нет никаких зон, и Германия изображена в границах тридцать седьмого года. На Западе считают, что мы с вами сейчас шагаем по Германии.
– Мне все равно, – сказал повар. – По Германии или по Турции. Лишь бы люди вокруг были русские. Земля – она везде одинаковая.
– А люди, вы считаете, разные?
– Люди... Если правду сказать, Иван Андреевич, для моей души, кроме русского народа, никаких других людей на свете не существует. Кто на свете за меня? Только русские. Они помогут, поддержат, похвалят. Простят, если набедокурю. А другие... Что ж вы не говорите, что пришли? Красавец ваш «Кутузов».
– Это не морская красота, – покачал головой Овцы. – Впрочем, и судно не морское.
– Как же оно через море пойдет?
– С известной долей риска.
Роскошь просторной каюты, гостиной, спальни, ванной, кабинета, да еще и палубной веранды, пушистость ковров, блеск стекла и полированного дерева благородных сортов повергали в трепет и умиление любого гостя. Слабодушные сразу начинали щупать занавеси, стены и мебель. Гости посильнее духом только вращали глазами и некоторое время невпопад отвечали на вопросы. Самые стойкие, похваляющиеся равнодушием к бытовой роскоши, начинали грустить, впервые попав в капитанскую каюту «Кутузова». Алексей Гаврилович Трофимов, оглядев каюту, не переменился в лице, только заметил:
– Вот как теперь лелеют капитанов.
– А отчего бы их не лелеять?
Овцын придвинул к столу два кресла, усадил Трофимова и сел сам.
– Поговорим о делах, – сказал он.
– Поговорим.
Повар достал из внутреннего кармана пиджака свои документы, подал капитану. Овцын внимательно просмотрел бумаги, сказал:
– Вашу трудовую книжку, Алексей Гаврилыч, надо читать для возбуждения аппетита. Что ни запись – первоклассный ресторан. Кое в каких я даже бывал... Однако отчего вы так часто меняли работу?
– Натура непоседливая, Иван Андреевич. Надоедает на одном месте. И люди тускнеют, и стены давить, начинают, да и сам видишь, что весь выложился, Ни крошечки в тебе интересного для окружающих не осталось. Каждая сковородка противеет. На другое место перейдешь – и вроде интереснее жить становится. Порядки особые, свои. В окне другой вид, люди иные, яркие. А пройдет время, привыкнешь – и обратно скука и равнодушие сердца. Каждая кастрюля как личный враг на тебя смотрит. И главное, что люди уже не разевают на тебя рты. Привыкли. Это противно, когда к тебе привыкают. Чувствуешь себя вещью. Поношенной.
– Запивали? – спросил Овцын, представив себе состояние человека, почувствовавшего себя поношен ной вещью.
– Случалось, – кивнул Трофимов.
– А в рейсе случится?
– Летом не пью.
«Прощай вино в начале мая...» – усмехнулся про себя Овцын. Он еще раз прочел последнюю запись в трудовой книжке: «2 апреля. Уволен по собственному желанию. Директор ресторана «Флоренция»...»
«Все ясно, шеф, – думал Овцын, глядя на худое и смуглое лицо повара. – Десять дней завивал горе веревочкой, потом взял билет и поехал куда глаза глядят. Как это у одного американца?.. «Подари на прощанье мне билет на поезд куда-нибудь...» Но, судя по названиям ресторанов, специалист ты, шеф, блестящий. Такие повара на дороге не валяются».
– Семья у вас есть? – спросил он.
– Со старушкой живем, Ириной Михайловной. Два сына, так те на своих ногах.
Овцын сложил документы стопочкой, прикрыл их ладонью.
– Мне эта картина нравится, – сказал он. – Ваши претензии, Алексей
Гаврилыч?
– Каюта будет отдельная?
– Могу дать две.
– Жалованье для моей квалификации не обидное?
– Жалованье большое. Из Диксона в Москву отправим бесплатно.
– А как народ?
Овцын засмеялся. Всякого вопроса он ожидал, а этого – нет.
– Народ отличный, – сказал он. – Добрый, веселый, интеллигентный и не очень привередливый.
– Тогда почему бы и не согласиться? – улыбнулся в ответ ему Трофимов. – Почему бы мне и не согласиться на хорошую работу.
– Вот именно, – сказал Овцын. – Почему бы и не согласиться? – Он подвинул стопку документов к повару. – Завтра с утра пройдете медицинскую комиссию, и я вас оформлю по всем правилам бюрократии.
С палубы послышался бой судового колокола и зычный, протяжный крик старпома:
– Баста, моряк!!! Кончай дневные труды, приступай к вечерним!
Трофимов прислушался, взглянул на часы.
– Ваши вещи в камере хранения? – спросил Овцын.
– Считайте, что так, – кивнул Трофимов.
Овцын покачал головой. Этот старик вызвал в нем симпатию.
– Отчаянный вы мужчина, Алексей Гаврилыч. Деньги у вас тоже, наверное, не при себе, а в сберкассе?
– Естественно, – сказал Трофимов.
Овцын достал бумажник.
– Возьмите десятку. На разное мыло, одеколон и прочее.
Постучавшись, зашел старпом. Оглядел незнакомого человека, потом
сказал:
– Рабочий день окончен, Иван Андреевич. Какие будут указания по вахте?
– Это наш новый повар Алексей Гаврилыч Трофимов, – сказал Овцын. – Завтра с утра спустите катер, возьмете двух матросов и получите в порту продукты. Будем питаться на судне.
Марат Петрович пожал руку Трофимова, сказал:
– Оглашаю окрестность криком «ура». Совсем разорились на этих столовых. Давно бы так.
– Все происходит в свое время. Откройте Алексею Гаврилычу его каюту. Пусть боцман выдаст белье, пока не сбежал на берег. В общем позаботьтесь о человеке. Покажите ему камбуз и прочее.
Овцын поднялся с кресла. Трофимов тоже встал, сказал:
– Спасибо, Иван Андреевич. Все будет первого сорта.
– Какие могут быть сомнения... – улыбнулся Овцын. – Устраивайтесь, Гаврилыч.
Оставшись один, он задернул занавески и включил свет. В батарее отопления забулькала вода, механики сегодня почему-то зажгли котел раньше, чем обычно. Это было очень кстати. Работающий котел – горячая вода в магистрали. Он вымылся под душем и побрился особенно тщательно. Бритва шла легко, а это всегда приятно, когда бритва идет легко. Порой он даже загадывал: если бритва пойдет легко, значит, дела будут ладиться, а если станет скрежетать и драть шкуру, тогда наоборот.
Побрившись, он долго рассматривал лицо в зеркале. Молодое, свежее, мужественное, ясноглазое, не то чтобы красивое, но со смыслом. Не просто так – физиономия. После долгого разглядывания ему даже показалось, что есть в его лице нечто. Какая-то лежит на нем особая печать, знак необыкновенного призвания... Но в душе своей он не находил призвания к какой-либо необыкновенной деятельности, и каких-либо талантов, кроме как побренчать на фортепьяно, у него не было. Когда-то давно это обстоятельство служило поводом для печали. Но прошли годы. Жизнь, сама по себе прекрасная, увлекла его. Овцын перестал жалеть о том, что он не гений, что не дано ему сочинять могучую музыку, потрясать людские сердца страстными стихами, открывать неведомые миры и заседать в Совете Министров. Время жизни было до краев наполнено обыкновенными радостями и печалями. Он был такой же, как все. Каждый мог понять в нем все, и в каждом он мог все понять. Да и не все ли равно, написать поэму или прочитать ее, говорил он себе. Хорошие стихи, как парус, колесо или иголка, принадлежат всем одинаково. Только то, что принадлежит всем одинаково, заслуживает вечности, а оно не имеет автора.
– Мои поэмы работают, – гордо говорил один добросовестный и безвестный конструктор. И это правда.
Одевшись, во все свежее и глаженое, Овцын сидел у стола и тянул время. Идти ужинать к Борису Архипову не хотелось. Да и прилично ли идти в театр с набитым, сытым брюхом?.. Он перебирал бумаги, рисовал на покрывающем стол листе светлого картона кошек с задранными хвостами и вихрастые рожицы. Вспомнил, что не переложил нужные вещи из кителя в тужурку, стал перекладывать, нашел письмо Соломона, о котором успел уже позабыть, и перечитал его.
4
В тот октябрьский пасмурный день он довез так и не выспавшуюся Марину до завода, – чтобы оформить отпуск, – потом поехал в свою контору. У лифта нервно вышагивал Соломон – подтянутый, похорошевший от надежд и высоких мечтаний, в фуражке чуть набекрень и без очков. Они молча поднялись наверх, и там Овцын сказал:
– Жди в коридоре.
Он зашел в отдел кадров, по-дружески поздоровался с Лисопадом, стариком капитаном, так изломанным астмой и ревматизмами, что пришлось ему ошвартоваться у ненавистного канцелярского стола.
Весной это помещение бывает тесно набито нанимающимся народом, к столу Лисопада не протолкнуться, а прокуренный, сине-коричневый воздух становится плотным, как желе. А сейчас в комнате тихо и пусто и воздух свеж, как на бульваре. В это время года моряки редко заглядывают в контору. После полугодового рейса длинный отпуск, карманы полны денег, душа полна забот, и вообще человек весь разбух от нерастраченных страстей. Где уж тут вспомнить о конторе ? Овцын и сам ни за что не пошел бы, кабы не надобность поговорить о судьбе Соломона.
– Баатюшки! Тебя мне бог послал, Иван Андреич, – сказал Лисопад.
– Возможно, – согласился Овцын.
– Пригнали вчера из Тампере последнюю самоходку. Надо отвести ее в Архангельск, чтоб не мозолила глаза целую зиму.
– Ну и отведи ее в Архангельск, – сказал Овцын. – Я не препятствую.
– Штурманов нет.
– Черт меня сюда занес, – выразился Овцын.– Неужто ты думаешь, что я, два дня назад прилетев с Чукотки, поведу в Архангельск твою паршивую лохань?
– Догадлив ты, капитан, – сказал Лисопад. – Именно так я и думаю.
– Скажу честно: у меня чувства.
– Ах, чувства... – закивал Лисопад. – Памятное дело. Исходя из опыта, заявляю, что разлука укрепляет любовь. Да и разлуки-то всего неделя. О чем говорить? Денег подработаешь – заплачу по полярным ставкам. Когда чувства, карманы пустеют быстро.
– А кто пойдет помощником? – спросил Овцын.
– Есть у меня один старикашка нетрезвый. Сгодится на крайний случай. Но лучше ты среди своих ребят поищи.
– Уже нашел. Пойдет Двоскин, – произнес он твердо, глядя прямо в глаза Лисопаду.
– С ума сошел! Он же слепой.
– Он плохо видит.
– Нет у меня права его брать, – сказал Листопад. И больше не предлагай. Это же нарушение всех законов, и наших и международных. Кто узнает, с меня шкуру спустят. А если авария?
– До сведения инспекции Ллойда это, пожалуй, не дойдет. Ну, а отечественное начальство всегда простит, – сказал Овцын и улыбнулся, вспомнив праздничное, одухотворенное лицо Соломона, ожидающего в коридоре решения своей судьбы.
– Не имею права, – повторил Лисопад.
– Все мы довольно часто делаем то, на что якобы не имеем права, а потом оказывается, что это хорошо, – сказал Овцын.
– Ты на что-нибудь намекаешь? – Лисопад глянул на него из-под густо лохматых седых бровей.
– Ни на что не намекаю, – улыбнулся Овцын, сразу припомнивший то, на что можно было бы намекнуть. Но и не из пальца высасываю свои выводы. Короче говоря, без Двоскина я не пойду. У меня отпуск, а я не
добрый дядя.
– нет, милый мой, ты именно добрый дядя! – в сердцах крикнул Лисопад, ткнул в тетрадь карандашом и сломал его. – Ты хоть раздумывал о том, что не сможешь оставить его одного на мостике ? А ведь другого помощника не будет.
– Какое тебе до этого дело? Самоходка придет в Архангельск вовремя и в лучшем виде, – пожал Овцын плечами. – Ты обедал?
– Обедал, – буркнул Лисопад. – И чего тебе дался этот Двоскин?
– Так надо, – серьезно сказал Овцын. – Оформляй его, записывай в судовую роль... Потом спустимся в «Маленькую полундру» – со свиданьицем...
Скромный, мало кому известный кабачок без выписки, где буфетчица Тамара, постреливая порочными глазками, наливала коньяк и сухие вина, моряки называли «Маленькая полундра». Туда заходили с маленькими деньгами, пили понемножку, только для просветления души, и если случались там какие-нибудь неприятности, то маленькие. Потому и назвали кабачок «Маленькая полундра».
Через полчаса они пили коньяк в «Маленькой полундре», и Соломон, обалдевший от жданного и в то же время невероятного счастья, после каждого глотка снова чокался с Лисопадом, говорил о том, как будет разбиваться в лепешку на работе, и угощал шоколадными конфетами худосочную Тамару. Всего навидавшаяся буфетчица не удивлялась, благодарила и, когда Соломон отворачивался, клала конфеты обратно в вазу.
Попрощавшись с Лисопадом, они пешком пошли к набережной, где стояла новенькая и слишком даже изящная для своего названия самоходная баржа.
– А как же ты теперь с Мариной? – вспомнил вдруг Соломон.
– Разлука укрепляет любовь, – повторил Овцын слова Лисопада и улыбнулся.
– Но она берет отпуск?
– На неделю.
– Как неудачно получается! – сказал Соломон.
Он все еще не догадался, что Овцын согласился на этот рейс ради него, что нет для него ничего такого интересного в том, чтобы перегнать в Архангельск самоходную баржу, и не слишком ему нужны деньги, которые он за это получит.
– Все очень удачно, – сказал Овцын и потрепал заросший загривок Соломона. Высокая радость Соломона передалась и ему. А это ведь самое прекрасное в жизни, думал он, оставить одну радость, приобрести другую и знать, что первая ждет тебя. Все очень удачно, сказал он себе, все прекрасно, так редко бывает.
– Послушай, Иван! Ведь можно взять ее с собой. – Соломон остановился и стал трясти его за локоть. – Ты будешь первым олухом на свете, если этого не сделаешь.
– Не сделаю, – сказал Овцын.
– Почему?
– Ни к чему этот салат. Не уважаю.
– Принципы имеешь, – вздохнул Соломон, отпустил его локоть и побрел дальше.
Потом, уже в свеженькой, пахнущей нагретой краской каюте, он продолжил:
– Иметь принципы – это роскошь, не каждому доступная. Когда твердо знаешь, что справишься со всеми обстоятельствами жизни, что нет такой силы, которая собьет тебя, свихнет с пути, тогда можно завести себе принципы. Заводи принципы, поступай в соответствии с ними и чванься...
– А может, наоборот? – спросил Овцын. – Может быть, принципы помогают человеку справиться с обстоятельствами жизни?
– Ерунда, – печально сказал Соломон. – Какой же принцип поможет мне плавать? Нет такого принципа. А извернулся, нашел блат – вот я и на судне.
Он нежно погладил бронзовый обод иллюминаторного стекла.
– В очках ты прилично видишь? – спросил Овцы.
Соломон покачал головой.
– Не очень. Я и цвета не различаю. Весь мир как черно-белое кино. Но ты не беспокойся, Иван. Я всю работу по судну буду делать. Ты только будешь стоять в крахмальном воротничке на мостике – и никаких других забот... – Вдруг он осекся, переменился в лице. Помолчав, он тихо произнес: – Дурак я цельносваренный... Еще и Марину советовал взять... Скажи честно, ты из-за меня на этот рейс согласился?
– Чушь, – сказал Овцын. – Чего это тебе и голову взбрело? Давай заниматься судном. Завтра надо выйти. Тянуть незачем.
Назавтра, с первой разводкой мостов, в неподсильной человеку прекрасности ясной петербургской ночи, оглушенные безумной гармонией прощания, черной невской воды – бегущей, уходящей и нескончаемой, -колдовства огней, выхватывающих из тьмы драгоценное, возвышенные соитием красоты и силы созданного человеком мира, управляя частью этого мира, они ушли в рейс. С плеском падали тросы. На набережной, там, где повисли между пушками старинные цепи, недвижимо стояла Марина. Что творилось в ее душе, кто знает? Могла ли она верить в реальность всего случившегося?
Когда они вернулись, – через десять дней, а не через неделю, потому что пришлось пережидать шторм и Беломорском порту, – полы в Соломоновой квартире сверкали, оконные стекла были вымыты, и посуда стояла не в платяном шкафу, а в симпатичном буфетике. Довольное порядком жизни солнце свободно лилось сквозь мытые окна и сверкало на дверцах этого симпатичного буфетика.
– Позвольте... – удивился Соломон.
– Не позволю, – сказала Марина и поцеловала его в щеку. – Это подарок.
Сгорбившись, и потерев щеку, Соломон произнес:
– Я специалист по мебели. Этот подарок стоит тридцать шесть рублей. Сам продавал.
Он полез за бумажником.
– Не порти праздник, – остановил его Овцын и отослал в магазин.
Когда Соломон, выспросив подробные инструкции, наконец, ушел, они
обнялись и стояли молча, не зная времени, не говоря, не думая, только ощущая друг друга. Весь рейс, все эти десять дней, чертовски тяжелых и необыкновенно значительных, он ждал только этого – обнять ее, замкнуть глаза, ощутить тепло гибкого тела, упругость обвивающих рук и пряный запах женщины, истосковавшейся по ласке.
И когда все улеглось, тоже было хорошо, и дышать, стало свободно. Счастье вдруг потекло медленно, плавно, обволакивая душу покоем, подобным сну. Он раскрыл глаза и увидел, что Марина отстранилась от него, что она просто смотрит – и счастлива.
– Скажи же что-нибудь, – сказала Марина.
– Что можно сказать... – ответил он, отпустил ее и отошел к окну, чтобы прижать лицо к холодному стеклу.
– Что ты меня любишь, что это у тебя впервые в жизни. Скажи.
– Это у меня впервые в жизни, – сказал он. – Я люблю тебя.
«Зачем она так? – подумал он. – Человек должен говорить без слов, только тогда это правда».
– Ты забыл ту, первую? – настойчиво спросила Марина.
– Это другое.
– Почему? Как это было? – продолжала она спрашивать.
Он рассказал:
Тогда мне было двенадцать лет. Когда мне стало четырнадцать, я сказал ей по телефону, что люблю ее, и то лишь потому, что на следующий день ее увозили в другой город. Даже в другую страну, если быть точным. В семнадцать я первый раз поцеловал ее. С тех пор мы не встречались. Надеюсь, больше вопросов не будет.
– Ты любишь ее, а не меня.
– Пускай, если тебе так интереснее, – сказал он.
Она подошла к нему, обняла, прижалась. Но ему стало вдруг одиноко и неприютно, беспокойство овладело душой. Он отодвинул ее, посмотрел в лицо. Лицо было холодным, красивым, чужим.
Он думал, что ей сказать, но раздался шум в прихожей.
– Пришел Соломон, – сказал он.
Соломон принес вина и много вкусных закусок. Он принес холод улицы и простую радость. Марина нашла в кухонном столике мускатный орех и корицу, она слила разные вина в кастрюлю, насыпала пряностей и поставила на плиту.
– Как мы это назовем? – спросил счастливый Соломон, глодая сыр.
– Глинтвейн, – сказала Марина.
– Банально, – отверг Соломон. – Назовем это «Боже мой!».
– Плагиатство, – возразил Овцын. – Было у Грина.
– Я думал, вы не знаете, – смутился Соломон.– Извините.
– Назовите это «Марина», – сказала Марина.– Я не возражаю.
Они пили горячую «Марину», говорили о том, что было, и о том, что будет, и постепенно, глоток за глотком, слово за словом, уходили из предметного мира. Соломой взял книгу и стал читать стихи, простые и исполненные мудрости, той мудрости, которая учит беречь радость, потому что сама родилась в страдании. Соломон читал без очков, при слабом свете, держа книгу далеко от глаз. Проследив взгляд Соломона, Овцын понял, что он читает наизусть.
– Это Заболоцкий, – сказал Соломон. – Тупицы, вы не знаете Заболоцкого, о чем с вами говорить?
Потом он сник и положил голову на скатерть.
– Почему так быстро? – спросила Марина.
– Он очень устал в рейсе, – сказал Овцын. – Не все было так просто и беспечно, как мы тут рассказывали.
– Сам дурак, – пробубнил Соломон в стол.– Заболоцкого не знаешь. Ты и Багрицкого не читал, задница в ракушках, капитан Кукиш... У старой пристани, где глуше пьяниц крик, где реже синий дым табачного угара, безумный старый бриг Летучего Корсара раскрашенными флагами поник... Успокойтесь, голубки-горлинки... Я сейчас уйду. Безумный старый Соломон еще не поник. Его раскрашенные флаги еще реют над морями...
Соломон потянулся за стаканом, но рука его упала на стол, процарапала ногтями по скатерти.
– Иван, сделай что-нибудь, – сказала Марина. – Я не хочу расставаться с тобой. – Она опустилась на пол, положила голову ему на колени. – Не хочу. Наверное, я порочная девушка... – Она подняла лицо, смотрела, ожидая, что он скажет.
– Я сделаю, – сказал он. – Побудь здесь, я скоро, вернусь.
Он поехал на угол Садовой и Малкова переулка, где толпится квартирный «черный рынок». Отличить сдающих комнаты от снимающих комнаты было нетрудно. Первые важно стояли, сохраняя на лицах соответствующее выражение, а когда отвечали на вопросы нервничающих вторых, цедили сквозь зубы и глядели в сторону. Первые могли выбирать. У вторых, особенно семейных, выбора почти не было.
В толпе бродил огорченный чем-то человек лет двадцати пяти, которого невозможно было причислить к тем или другим, потому что он никому не задавал вопросов, но и не имел чванливого вида обладателя излишков жилой площади.
«В ненормальных положениях выручают ненормальные субъекты», -подумал Овцын, приблизился к человеку, непонятно зачем существующему в этой толпе, и спросил:
– Предложение или спрос?
– Предложение, – ответил тот и посмотрел на Овцына умоляющим взглядом. По этому взгляду Овцын понял, что человеку и противно и стыдно торговать жильем, но обстоятельства сложились так, что до зарезу нужны деньги, и никуда от этого не денешься. Он спросил:
– Отдельная?
– Да, пятнадцать метров.
– Где?
– Улица Рубинштейна. Вы один?
– С женой. Съездим посмотрим?
– Съездим, – быстро согласился человек. – Комната хорошая, не беспокойтесь.
Комната в самом деле оказалась хорошей. В не слишком большой квартире старого дома, квадратная, со стенами, выкрашенными оливковой краской, с лепниной на высоком потолке. В ней стоял дубовый стол, старинный и уже порядочно разрушенный, кровать с никелированными спинками, ветхий старомодный шкаф и два стула. Кровать не была прибрана, на столе валялись огрызки, пол замусорен, батарея пустых и немытых кефирных бутылок занимала широкий подоконник. И все-таки комната была хорошая, это было именно то, что надо. Овцын открыл форточку, очистил кусок подоконника, сел и закурил.
– Для начала давайте познакомимся, – сказал Овцын и назвался.
– Меня зовут Леонард, – сказал человек. – Впрочем, это неважно. Что вы скажете про комнату?
– Подойдет. Мусор вы уберете сами.
– Конечно, я уберу. Завтра ухожу в больницу. Надолго.
– У вас дрожат руки, – сказал Овцын.
– А у вас нервы в порядке? Да? Вы счастливый человек. Берегите ваши нервы. Это я вам говорю. Я знаю.
Леонард широкими шагами ходил по комнате, натыкаясь на стулья, сунув кисти рук под мышки.
– Я пролежал шесть месяцев. Думали, что все прошло, и выпустили меня. Но я не смог работать. Я ничего не смог. Мне двадцать семь лет, а я уже развалина.







