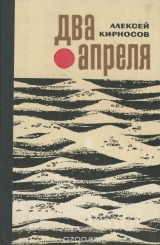
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
18
Жизнь побежала стремительно, и он как будто окунулся в добрые старые времена. Вскоре он уже выходил в море на дряхленьком посольном траулере «Березань», принадлежащем Кольской базе морского лова. Для всей команды Овцын был всего лишь корреспондентом центральной газеты, прилетевшим познакомиться с сегодняшним днем Севера. Старпом отвел его в каюту помполита, которому повезло захворать как раз накануне новогоднего рейса. Каюта находилась ниже главной палубы и поэтому была мрачноватой. На полке вместо привычных лоций, пособий по навигации, астрономии и иным мореходным наукам стояли тома мудрой общественно-политической литературы. Из щелей в надежде на поживу повылазили тараканы. Юнга принес белье, бросил на койку и собрался было уйти, но, подчинившись нешуточному взгляду Овцына, замялся, почесал в спине под курткой и застелил койку.. После очередного обмена взглядами юнга принес обрез и швабру. Он вытряхнул коврик, стер накопившуюся за неделю стоянки пыль, вымыл раковину и застеленную потрескавшимся линолеумом палубу. А когда Овцын разбрызгал полфлакона «Шипра» и выкурил десяток сигарет, каюта приняла совсем обжитой вид, даже едкий запах подтухшей рыбы, пропитавший за десятки лет службы весь пароход, ослабел и уже не мешал существовать.
«Березань» выходила из порта, и сегодняшний день Севера был непроглядной, сырой и морозной ночью. Ничего, кроме огней, большей частью голубоватых, не существовало в этой непроглядности.
Огни маяков, огни на берегах Кольского, узкого и длинного залива, огни встречных судов, огни прожекторов, время от времени полосующие воду и небо.
– Жизнь – это свет, и свет – это жизнь, – произнес капитан «Березани» Федор Пахомович Кошастый.
В первые же часы знакомства с Кошастым Овцын понял, что этот человек видит свое интеллектуальное призвание в том, чтобы находить истины и вещать их человечеству. Капитан Кошастый был белобрыс, мал ростом, упитан, тридцати шести лет от роду, голос имел густой басовитый, идеально соответствующий как профессии, так и хобби.
– Пожалуй, – согласился с ним Овцын.
– Где жизнь, там и свет, – развил тезис капитан Кошастый. – А где свет, там и жизнь. Рождаясь, человек «появляется на свет»...
Овцыну стало весело.
– А умирая, уходит во тьму, – поддержал он.– Когда у тебя в душе тьма смертная, ты заходишь к приятелю на огонек – и начинается веселая жизнь. Не так ли, Федор Пахомыч?
Почувствовав в голосе залетного корреспондента ядовитые нотки, капитан Кошастый переменил тему беседы.
– Не понимаю, почему вас к нам прислали? Что Вы у меня на «Березани» можете найти интересного? Древнее тральщика на всем флоте нет. «Березань» – это славное позавчера нашего промысла. Глядя в прошлое, не увидишь настоящего и тем более будущего.
– Команда у вас тоже позавчерашняя ? – спросил Овцын.
Капитан Кошастый взглянул на него искоса и долго не отвечал, раздумывая, наверное, какой таится в вопросе подвох.
– Отчего же, – сказал он наконец. – Команда вполне современная.
– Вот и прекрасно, – улыбнулся Овцын. – Я ведь не представитель судоремонтного завода, а корреспондент газеты. Интересуют меня люди, состояние техники – это второй план.
Капитан Кошастый не хотел сдаваться.
– Состояние работника зависит от состояния техники так же, как состояние пешехода от состояния дороги, – изрек он. – Запомните эту мысль и отразите в своей корреспонденции.
– Замечательная мысль, – одобрил Овцын.
Знакомый ему Кольский залив все тянулся, и он ушел в каюту. И вообще до начала промысла еще далеко, и можно без ущерба для дела как следует отдохнуть после беспокойных трех суток.
Прилетев в Ленинград, он сперва зашел домой, благо не очень далеко от аэропорта, и мать обрадовалась неожиданному приходу, встретила его ласково, как никогда прежде. Мягко упрекнула за то, что редко писал, да еще за то, что бросил работу в институте. Газета с очерком произвела на нее слабое впечатление, это опять-таки несерьезное занятие, да что поделаешь, если сын таков. Она напомнила об одном знакомом семьи, бросившем науку и ставшем микроскопическим писателем... «Не твоя ли это дорожка? -сказала мать. – Слава богу, что хоть женился по-человечески...»
– Эра Николаевна хорошо влияет на тебя, – добавила она. – Ты тщательно одет, стали мягче манеры. Почти исчезли эти кошмарные варваризмы из твоего лексикона. Я хочу познакомиться с ней.
– Эра обрадуется, если ты приедешь.
– Не сомневаюсь, – кивнула мать. – Я по тебе вижу, что она добрая женщина.
– Порой слишком, – сказал он.
Мать недоуменно взглянула, но промолчала. Он объяснил:
– Мне кажется, что она испытывает физическую боль, когда видит, что кто-то уколол себе палец булавкой, – и усмехнулся.
– Порядочный человек испытывает физическую боль, когда видит голодную собаку, – сказала мать. – Ты обязан беречь жену.
Потом он поехал на набережную Мойки, к Георгию Сергеевичу. Долго поднимался на второй этаж по старинной широкой лестнице, не сразу нажал звонок над столетней латунной табличкой с фамилией Левченко. Тот открыл сам, спросил с усталым удивлением:
– Разве ты не в Москве?
– Я в Москве, – ответил Овцын.
– Проходи, раздевайся, – сказал Левченко.
В комнате был молодой офицер, капитан-лейтенант чином, он кратко представился:
– Лосев, командир части. – Потом сказал: – Я слышал от Владимира Георгиевича, как он выловил вас из моря. Вы пересекли государственную
границу.
– Я не раз пересекал государственную границу, – сказал Овцын.
– А он обрадовался, – сказал Лосев. – Как-то даже переменился с тех
пор.
– В чем? – машинально спросил Георгий Сергеевич.
– Я не умею объяснять такие вещи, – сказал Лосев. – Видишь, что человек не тот, вроде такой же, а не тот. Что в нем изменилось – непонятно. Прежде был просто офицером, как большинство. Вдруг стал не простым. Знаете, на каких-то людей совершенно не обращаешь внимания, потому что существуют они, как обслуживающий персонал при технике. А на других взгляд задерживается. О них думают, о них говорят. Они имеют в себе нечто значительное. От них ждут особенно умных слов и выдающихся поступков. Это везде так. И в таком маленьком организме, как наша часть. Мы вдруг стали думать и говорить о Владимире Георгиевиче. Он перешагнул грань обыкновенного, а как это случилось, почему случилось – никто не понял.
– Я слышал, как он мечтал вслух, – сказал Овцын. – О яркой жизни, большом деле и подвиге.
– Он к тебе ездил в Москву? – спросил Георгий Сергеевич.
– Да, – солгал Овцын и не испытал стыда.
– Он совершил свой подвиг, – произнес Лосев.
Георгий Сергеевич оперся на подоконник, глядя вниз, на покрытую кочковатым льдом Мойку. Голые деревья, загораживая фонари, стлали по льду причудливые тени, Овцын отошел от окна к Лосеву, спросил его:
– Как это было?
– Как всегда, – сказал Лосев. – Ночью обнаружил яхту, которая взяла агента с берега. Дал сигнал остановиться.
– И?..
– Они, как правило, сдаются, по этот оказался зубром. Яхта стала отстреливаться. Он мог бы утопить их в два захода, но что толку от утопленников? Таких надо брать живьем... Вы же видели его корабль -пулеметчик защищен козырьком турели, а командиру укрыться негде. Две крупнокалиберные пули в грудь. Но яхту взяли. Он семь часов жил после операции, из них три часа в сознании. Похоронили его у себя, поставили обелиск с барельефом.
– Георгий Сергеевич, вы еще туда не ездили? – спросил Овцын.
– Поедем... Мать выйдет из больницы, и поедем... А я вот жив. Войну прошел, плен, концентрационные лагеря... Что он видел в жизни? Только и видел одну пулеметную очередь. И хватило. Почему так? – обратился он к Лосеву.
– Это можно объяснить, – сказал офицер, но объяснять не стал.
– Все можно объяснить, – произнес Георгий Сергеевич и прижал лоб к стеклу. – Все можно объяснить, но ничего нельзя вернуть...
Овцын взял Лосева за плечо, отошел с ним к окну. Они молча смотрели на причудливый узор теней на грязновато-сиреневом льду Мойки, на ярко освещенные окна Дома культуры, на прохожих, идущих по старинному,
очень горбатому мосту.
Он ушел поздним вечером и поехал домой, но, проезжая по короткому и уютному Нарвскому проспекту, вдруг остановил машину, расплатился с удивленным шофером и поднялся к Соломону. Дружба их, он чувствовал это, прошла. Виновато было и то, что Соломону пришлось служить под его началом, и, наверное, Марина тоже была виновата. Такая мысль пришла в голову, когда он увидел на стене комнаты большой фотографический портрет, с которого Марина внимательно и оценивающе смотрела на входящего крупными, широко расставленными глазами.
– Бывает у тебя? – спросил Овцын, глядя на этот очень точный портрет Марины.
Можно было не спрашивать. Обновленная мебель, поразительная чистота в комнате, сверкающий паркет и войлочные тапочки на ногах Соломона, большое зеркало, не обязательное для мужского обихода, – все пело о том, что здесь постоянно ждут женщину.
– Не часто, – сказал Соломой.
– Понятно... А чем ты еще жив?
– Торгую мебелью, будь она анафема, туды ее в полировку! -выбранился Соломон. – Если ты не вернешься в контору, я засохну в этой лавке, начну спекулировать гарнитурами и брать взятки. Пока еще блюду себя, но если пропадет надежда – тогда к чему?
– Глаза лечишь?
– Лечу. Это мало помогает.
– Может, тебе съездить в Одессу?
– Филатов давно помер.
– А ученики и продолжатели?
– Они любят совсем слепых. Таких, как я, отсылают в районные поликлиники. Скажи, Иван, разве я плохо работал? Разве я не оправдывал свои деньги?
– Тебе было тяжело, Соломон, – сказал Овцын.
–А в лавке мне легко? – выкрикнул Соломон. – Я там задыхаюсь среди неучей, идиотов и жуликов! Если бы... если бы не Марина, я сошел бы с ума, или повесился, или кого-нибудь прирезал. И если бы не надежда, что вырвусь из этой дыры.
– И если бы не стихи, – улыбнулся Овцын.
– Да, и если бы не стихи, – произнес Соломон смягчившимся голосом. – Марина очень тонко чувствует стихи...
«Соответствует...» – подумал Овцын и сказал:
– Видишь, как много у тебя есть. У иных нет и этого.
– Лавка все перечеркивает, – горько сказал Соломон.
Следующим утром Овцын был уже в Мурманске. Ему понадобилось немного времени, чтобы разыскать трех-четырех приятелей, разведать обстановку и выбрать из всех возможных вариантов Кольскую базу морского лова. Неопределенно пообещав приятелям заглянуть вечерком, он отправился в управление базы и к концу дня определился на траулер «Березань», готовящийся к выходу в море. Полумесячный рейс старенькой, не выходящей за пределы Баренцева моря «Березани» устраивал его по времени, и хотя новые траулеры, совершающие далекие и долгие рейсы, много соблазнительнее для журналиста, но для моряка в старых паровиках есть своя, неповторимая прелесть: они остались стопроцентными судами, а не плавучими предприятиями, в какие превратились современные дизельные гиганты.
Попав на «Березань», он старался не выдать своего морского прошлого. Это оказалось не так уж трудно, потому что на паровиках он не плавал уже лет шесть, а на промысловых судах и вообще никогда не плавал. Его интерес к тому, о чем он знал по учебникам да понаслышке, ко всем этим тралам, лебедкам, консервным и мукомольным машинам, воспринимался людьми как естественное любопытство газетчика. А то, что он ничем не заинтересовался в бедно оборудованной ходовой рубке, капитан Кошастый обосновал таким речением:
– Гений и невежда сходны лишь в одном: оба они все на свете знают.
Речение звучало совсем неглупо, но капитан Кошастый принялся
развивать тезис – и испортил впечатление до такой степени, что Овцын обиделся на «невежду». Он ушел на палубу, и тралмейстер, тоже считавший, что корреспондент не представляет себе, что такое морская работа, посоветовал:
– Вы бы взяли у боцмана сапоги да куртку штормовую. В вашей форме одежды пропадете. Знаете, как нас обрызгивает...
– Откуда мне знать, – сказал Овцын.
19
В последний день декабря «Березань» промышляла на склоне Эмильевой банки и брала каждым тралом по тонне рыбы. На богатом месте собралось полтора десятка судов, во всех сторонах сверкали их огни, расцвечивая морозную и ясную тьму приполярного полдня. Овцын уже разобрался в технике траловых работ настолько, что – как он, усмехаясь, думал – смог бы работать на траулере вторым штурманом.
Прежде ему казалось, что работа эта проще, не требует от людей стольких усилий, ловкости, а порой и выдумки. Случались ситуации небывалые и неповторимые, не предусмотренные никакими пособиями.
В штормовые дни, когда волны прогуливались по палубе низкобортной «Березани», работа матросов, вымокающих до последней портянки, напоминала комплекс акробатических упражнений. И только благодаря этой акробатике никого не смыло за борт. Рыбу, с таким трудом выловленную, смывало за борт, и это было обидно.
Но в канун Нового года море успокоилось, оно тихо и ровно дышало, баюкая старенькую «Березань», а с неба ушли тучи, обнажив роскошные россыпи звезд. Овцын смотрел, писал и радовался, что материал о сегодняшнем дне Севера будет добротный и свежий, как сыплющаяся па палубу из трала треска.
В двадцать часов Федор Пахомович Кошастый приказал оставить поднятый трал на борту и выключить лебедку. Он протелеграфировал в машину «самые малые обороты» и положил пароход носом против ветра. Дождавшиеся этого момента матросы закрепили трал, с гиканьем бросились к рыбоделу, мгновенно расправились с последним уловом старого года и разбежались по каютам готовиться к празднику.
– Вам приходилось видеть, как в море встречают наступление Нового года? – важно спросил капитан Кошастый.
– Не приходилось, – покачал головой Овцын.
И подумал, что Первое мая встречал в море, день своего рождения встречал в море и вот Новый год встречает в море. Какой теперь следующий праздник? Опять Первое мая? И опять он скорее всего будет в тот день в море...
– Это красиво, – произнес капитан Кошастый и позволил себе улыбнуться. – Я всегда думал, что люди установили праздники для того, чтобы иметь возможность оставить скучные заботы о прокормлении и прочем тленном, вспомнить об окружающем их мире и с благодарностью украсить его. Это то же самое жертвоприношение богам, только называется теперь по-другому.
Капитан вовремя закончил речь и не испортил доброго впечатления от своих слов. Он ушел в каюту, предварительно острастив заступившего на вахту третьего штурмана. Не за что-либо, а для порядка, чтоб не забывался... Пришел второй штурман, достал из кармана полтинник, и они с третьим стали разыгрывать, кому встречать Новый год в салоне, а кому на мостике. Смена вахт третьего и второго ровно в полночь. Выиграв, третий штурман ушел бы с мостика на полчаса раньше, а проиграв, должен стоять полчаса лишних.
Второй положил монету на тщательно уже вычищенный к празднику ноготь большого пальца и щелчком подбросил ее кверху.
– Орел! – загадал третий.
Полтинник повращался в воздухе, со звоном брякнулся на штурманский стол, подпрыгнул и замер близ судового журнала.
– Решетка, мой юный друг! – провозгласил второй штурман. – Итак, до встречи через год. Счастливой вахты!
Он приподнял фуражку, забрал полтинник и ушел из рубки до будущего года. Овцын тоже пошел менять свитер на сорочку с галстуком, ватник на пиджак, портянки на носки и полуболотные сапоги на модельные туфли.
Собрались за полчаса перед полуночью в чисто выдраенном салоне за столами, накрытыми белыми скатертями. Широко раздвинули двери, отделяющие офицерское помещение от салона команды, и на всю катушку врубили трансляцию. Кок с помощником носили и носили из камбуза прихотливо разложенные на блюдах салаты. Серебряные головки шампанского высвечивали из крахмальных салфеток. В углу мерцала огоньками небольшая, но мохнатая, раскрепленная тросами нарядно украшенная елка. Пестрил красками новогодний номер стенгазеты «Вперед за план!». Овцын прошел к своему месту, сел, улыбаясь людям, и сразу попал в атмосферу праздничного братства, доброго и веселого единения раскрытых душ. Нарядно одетые люди были красивы, и речи их были красивы, и все, что они делали друг другу, было красиво, чисто и добросердечно. Люди вели себя так, как хотели, и это было хорошо. Даже лучше, нежели пресная благовоспитанность институтской публики, которая в свое время до того покорила Овцына, что он вздыхал по поводу отсутствия такого на судах отечественного флота. Всему свое место, всему свое время. Там, где природой указано расти соснам, нечего сажать бананы...
Кончилась музыка, и все перестали говорить, ожидая. Наступила тишина, только хлопали пробки шампанского, и ни одной капли не пролилось. Москва начала передавать новогоднее поздравление; моряки встали, подняли бокалы и слушали добрые человеческие слова, какие не часто дождешься от радио...
С первым ударом кремлевских часов капитан Федор Пахомович Кошастый сказал кратко:
– Присоединяемся. – И поднес ко рту бокал.
Кремлевские часы все били, а в салоне уже начался рокот разговора радующихся людей. Потом второй штурман, которому надлежало вскоре уйти на вахту, попросил тишины и прочитал стихи:
Сегодня, в Новый год, произнесу я тост за то, чтоб, обогнав сказания и были, сплели мы сеть из траекторий звезд и всех их, как треску, переловили.
И чтоб распределили их на всех -тебе, и мне, и бабушке, и маме.
Я твердо верю: будет человек повелевать далекими мирами!
От смущения второй штурман побагровел и удрал из салона, не дослушав овации. И поднялся с места капитан Кошастый и сказал:
– Товарищи, есть сегодня среди нас человек, который видит нашу жизнь свежим взглядом; он специально пришел к нам, чтобы смотреть на нас и оценивать нашу работу. Этот человек – Иван Андреевич Овцын, корреспондент всеми нами уважаемой газеты...
– Ура! – крикнул кто-то, и по салону расплескалась овация, заглушая слово «Трибуна», но капитан Кошастый повторил его, когда шум утих.
– ...«Трибуна». Со стороны тебя видят лучше, чем ты видишь себя сам. Это закон школьной психологии. Попросим же Ивана Андреевича сказать, какими он нас увидел за неделю его знакомства с судном и экипажем.
Все закричали, хлопая в ладоши:
– Просим, просим!
Овцын встал, отложил вилку, начал говорить, что думал:
– Дорогие товарищи моряки, Федор Пахомович верно отметил, что со стороны виднее. Я рад, что мне разрешили высказать свои мысли, ибо они не омрачат праздник. За свою жизнь я съел очень много рыб, но не поймал ни одной даже на удочку. Виноват, когда мне было лет семь, я поймал одну рыбу бреднем. А каждый из вас ловит за один только рейс около двух тонн рыбы. Порция для десяти тысяч человек, которые с удовольствием едят ее и запивают компотом. И не имеют никакого представления о том, как мокрый даже внутри, потому что он нахлебался морской воды, матрос, скользя сапогами по обледенелой палубе, напрягая все до единого мускулы, вытаскивает эту порцию из бушующего моря. И о том, как тот же матрос, десять минут отдохнув посла очередного спуска трала, становится за рыбодел, отсекает каждой рыбине голову, вспарывает брюхо, вычищает требуху и делает с этой рыбиной еще многое для того, чтобы она сохранила свой вкус и витамины. Десять тысяч едоков говорят спасибо женам, сварившим рыбу, а не матросу, который уродуется на палубе, а потом спит поверх одеяла, не раздеваясь, до следующей вахты. За неделю я увидел много такого, чего не видел никогда, хотя повидать мне довелось порядочно. И главное, что я увидел, – это ваши прекрасные человеческие качества. Такие люди, как вы, достойны лучшей техники, лучшего быта и большей заботы. Очень возможно, что и большей заработной платы. Я постараюсь написать о вас так, чтобы каждый, кто ест рыбу, представил себе, как она попала к нему на стол. Я постараюсь написать так, чтобы перед вами снимали шляпы. За вас!
Он допил вино и сел. Всплеснулась овация.
– Выйдем, посмотрим на природу, Андреич,– ласково сказал капитан Кошастый.
Они вышли вдвоем на безлюдную палубу, и у Овцына захватило дух от великолепия рыбацкого праздника. Все суда, собравшиеся на Эмильевой банке, были ярко освещены, в небо нескончаемым потоком летела разноцветная пиротехника, отражения ракет и фальшфейеров плыли в колышущемся плавной зыбью море. Слышна была музыка, и выстрелы, и отдаленные людские голоса, и усыпанный бриллиантами черный купол над мачтами, засветленный справа Млечным Путем, в самом деле казался досягаемым...
– Пятый раз наблюдаю этот карнавал, – раздумчиво произнес Федор Пахомович. – Разве на берегу, в городе такое увидишь? Ни тебе воплей, ни толкучки, ни сумятицы, ни слякоти под ногами. Одна красота. Спокойная, вечная. Иногда еще сияние бывает. Не повезло вам, Андреич, что сейчас Год спокойного Солнца. Когда в такую ночь сияние, так это, знаете ли...
Он не подобрал слова и умолк, только махнул рукой.
– Долго вы празднуете? – спросил Овцын, выбираясь из гипнотического очарования.
– Две вахты. В четыре часа первого января спустим трал... Жаль только, что не описать вам этого. Не лично вам, конечно, Андреич, а вообще этой картины человеческими средствами не передать. Может, если цветное кино попробовать снять. Без слов... Да, кто сам не увидел, так и умрет без радости. Ужасно обидно становится, когда подумаешь, что есть что-то прекрасное на свете, а ты не видел. И никогда не увидишь... В те минуты, когда человек не видит прекрасного, он очень просто может вообразить себе непотребство, – изрек, наконец, афоризм капитан Кошастый.
– У вас есть семья? – спросил Овцын.
– Чтобы отдавать зарплату, – коротко и ясно ответил Кошастый.
– А друзей много?
Кошастый взглянул на него с сожалением, сказал:
– Один друг.
Помолчав немного, глядя на огни раскинувшегося вдоль Эмильевой банки рыбацкого города, он добавил:
– Как и положено человеку, имеющему внутреннее содержание и уважающему его... Пойдем-ка, Андреич, навестим консервный цех.
– Не хватает закуски? – улыбнулся Овцын.
– Бывает, что консервщики бражку заваривают в своем котле, – сказал капитан Кошастый. Еще вчера он не сказал бы такого. – Иные капитаны сквозь пальцы смотрят, попустительствуют, потому и не изжить эту привычку.
В пустом и холодном консервном цехе невыносимо пахло рыбьим жиром; только очень уж жаждущий смог бы пить бражку, сваренную в этом помещении. Капитан постучал согнутым пальцем по автоклаву, в котором вытапливают тресковую печень. Автоклав прозвучал колоколом.
– Они меня знают, разгильдяи, – удовлетворенно сказал капитан Кошастый.
– Так уж и разгильдяи? – спросил Овцын.
– Нет, это к слову, – сказал Кошастый. – Ребята хорошие. Отнесись к ним справедливо, и они не подведут. Наверное, и везде так человек?
В четыре часа утра Овцын, дрожа на морозном ветру, смотрел, как спускают первый трал нового года. Тучи, словно сообразив, что праздник кончился, опять заволокли небо. Они спускались все ниже, и вскоре замутнелись, расплылись и исчезли огни соседних судов. Глухо, как сквозь спущенные уши меховой шапки, слышались их туманные сигналы. Свирепо ревел над головой собственный гудок. Капитан, никогда не заходивший в рубку в вахту старпома, теперь стоял у раскрытого окна, напряженно вглядываясь в глухую тьму. Ноздри широкого носа шевелились. Радист, которому туман никогда не мешает делать свое дело, занес в рубку поздравительные радиограммы. Увидев, что никто не обращает внимания на него, радист положил бланки на штурманский стол и удалился.
Внезапно капитан выбежал на левое крыло мостика. Овцын вышел вслед и смотрел туда же, куда смотрел капитан, но он ничего не видел, пока
Кошастый не заорал, вскинув кулаки:
– Куда ж ты прешь... лапоть вяленый... распротак твою... в колено..!
Тогда Овцын увидел три расположенных треугольником слабых пятна.
Треугольник проплывал за кормой на вполне безопасном для «Березани» расстоянии, однако Кошастый ярился, махал кулаками и изрыгал отчаянную хулу.
– ......! – сказал Кошастый, умолк и закрыл лицо локтем.
Через секунду «Березань» вздрогнула и заметно прибавила ходу.
«Трал обрезал», – понял Овцын.
– Старпом, дайте «стоп»! – крикнул Кошастый. – И ведь не узнаешь кто. Ходом идет, подлец, без трала. Его не догонишь...
Он быстро остыл, произнес в утешение:
– Сетка была старая, хреновенькая. Дырка на дырке. Рвань. Я, как туман учую, всегда велю этот трал ставить. Не жалко, а жалко, что кабеля
погибли, да ваеров сколько, ....., оттяпал... Вы этот инцидент в блокнот не
записывайте, везде дураки встречаются, какая работа без них обходится? Не пишите, не стоит того.
– Не буду, – сказал Овцын. – Это ясно.
– Тралмейстер, правый трал к спуску готовить! – проорал капитан Кошастый, и сапоги загрохотали внизу по палубе.
Залязгала лебедка, вытягивая из моря оборванные ваера.
– Бывает, – совсем успокоился капитан Кошастый.
Спустившись в каюту и отогревшись, Овцын сел к столу, раскрыл блокнот и записал все, что запомнилось из виртуозной брани капитана Кошастого. Потом снова поднялся в рубку, глянул, что «Березань» еще дрейфует. В никем еще не тронутой пачке радиограмм нашел на свое имя одну – от матери. Спускаясь обратно в подпалубный коридор, напевал не всерьез и негромко строчки из старинной матросской песни:
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда...







