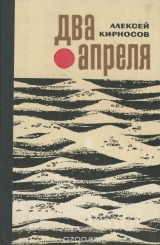
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
20
Читая рукопись, Юра Фролов временами вскидывал брови, потирал руки и чмокал губами. Иногда возвращался и перечитывал несколько страниц. Овцын сидел, покуривал и был уверен, что вещь получилась, а после того, как Эра перепечатала ее, приобрела даже некоторый лоск. Правда, хвалила она сдержанно. За каждым похвальным словом ощущалось невысказанное «но»...
– Годится, – сказал Фролов. – Очень годится. «Умри, Денис, лучше не напишешь!» На морскую тему. Несемся к шефу.
Редактор, еще более обрюзгший и посеревший, протянул Овцыну руку, не приподнявшись с кресла. Прочитав рукопись, он взглянул на Фролова, попросил:
– Вы идите, Юрий Владимирович, а мы тут поговорим.
– Отличная вещь, – высказался все-таки Юра Фролов, прежде чем выйти.
– Совершенно непригодная вещь, – произнес редактор, когда за Юрой затворилась дверь. – И я не вижу, что тут можно поправить. Пожалуй, не стоит править.
– Я и не собираюсь править, – сказал Овцын, удивленный и уязвленный. – Хотя бы потому, что не умею... Можно узнать, почему это совершенно непригодно?
– Можно, – кивнул редактор. – Это невесело, Иван Андреевич. Вы забрались в тему несколько глубже, чем положено газете. Порядочно глубже.
И получилось, что вы говорите то, о чем воспитанные люди обязаны умалчивать. Не потому, что надо скрывать, а потому, что нет доблести повторять, что каждый из нас под одеждой голый. Вы меня понимаете?
– Не очень.
– Жаль, – вздохнул редактор. – Хорошо, выскажусь проще. Ваша работа не годится мне потому, что в ней нет приподнятости, нет стремления к еще не достигнутому, нет вдохновляющего примера для рядового читателя и нет – и конце концов – призыва. Она вызывает душевное беспокойство, понимаете, это при нашем-то тираже. Уже помимо того, что истины типа «человек произошел от обезьяны» не нуждаются в широкой пропаганде.
– Я не пропагандирую эту истину, – заметил Овцын.
– Вы пропагандируете и это и еще много невеселого, – сказал редактор.
– А не думаете ли вы, что ваше перо, оказавшееся вдруг достаточно крепким, обязано послужить делу ободрения человека? Есть много охотников ныть, бранить погоду и показывать из-за спины чистенько мытый кукиш. Разве вы из этой когорты? Вы же здоровый мужик – наверное, получили от жизни радость полной мерой. Может, поделитесь с теми, кому ее досталось меньше?..– Редактор впился в него взглядом, и Овцын опять почувствовал себя машинкой, которую развинчивают на детали. – Хорош тут у вас штурман, который стихи сочиняет. «Сплели мы сеть из траекторий звезд и всех их, как треску, переловили», – процитировал редактор, не заглядывая в рукопись. – Вы это не сами присочинили?
– Нет, это натуральное.
– Видите, как люди мыслят. Видите, чего они хотят. И плевать им на то, что задача сия неисполнима. А вы про что?.. Теперь вы меня понимаете?
– Теперь понимаю, – сказал Овцын. – Короче говоря, «тьмы низких истин нам дороже»...
– Да, дороже! – резко подавшись вперед, перебил его редактор. -Именно потому, что он возвышающий. А рукопись свою возьмите. Она вам еще пригодится как материал.
– Значит, мне надлежит вернуть командировочные и проститься? -спросил Овцын.
– Если вы слабый человек и не умеете доводить до конца начатое дело,
– произнес редактор, ощупывая его взглядом. – Но я вас таким не считаю.
Напишите другое. И заклинаю вас килем вашего парохода, избегайте этого псевдогуманизма...
– Опять не понял.
– Не страдайте, глядя на то, что человек отдает много, а получает за это мало. Тот, кто получает столько, сколько дает, живет на свете зря. Без эдакой публики человечество прекрасно обойдется. Надо стараться побольше оставить наследникам.
– Это верно, – сказал Овцын.
Дома он хотел порвать рукопись, но Эра отобрала ее и спрятала в стол.
– Я все это предчувствовала, – сказала она. – Странно только, что он так легко убедил тебя. Скажи... может быть, ты из-за денег? Мы не разоримся, если вернем командировочные.
– Нет, не из-за денег. Произошла странная штука, – сказал он.– Да, он меня убедил. Но... и не разубедил. Мы правы оба. Мы оба толкаем вперед одну телегу. Он напирает с одной стороны, а кто-то напирает с другой. Сейчас он позвал меня на свою сторону пособить. Возможно, он видит, что на другой стороне собралось больше народу и телега пошла неровно.
– Умеешь ты объяснять, – сказала Эра. – Но принципиальность...
– Некоторым легко щеголять принципиальностью. Они приспособились посередке. Там тепло, уютно и полная гарантия, что поступаешь правильно, ибо не двигаешь телегу ни вправо, ни влево. Принципы достаются бесплатно, как человеку, дога давшемуся поселиться под пальмой, достаются финики.
– Хотела бы я знать, какие принципы у тех, кто бегает слева направо, и дорого ли за них плачено, – сказала она.
– Принцип предельно прост, – сказал он, сердясь и потому все более убеждаясь в своей правоте. – Как, скажем, у маятника, поршня или весла. Платят за них именно тем, что бегают справа налево.
– Ты еще не упомянул руль. Поразительно, до каких фантастических нелепиц может договориться человек, когда он сердится.
– Ну, и не будем сердиться, – сказал он, устыдившись, и обнял ее.
– Что толку сердиться... – Она огорчилась. – Садись, пиши свою голубую повесть... Но не перестарайся. Когда справа напирают слишком усердно, телега сворачивает влево. Не знаю уж, по какому закону. Я не мастер объяснять.
Он погрузился в работу, и его совершенно не занимало, что там творится за пределами комнаты. Бронзовый скептик Будда был его единственным собеседником. Даже спустившись с четвертого этажа, чтобы, перед тем как лечь в постель, вы дышать дневную дозу никотина, он продолжал видеть мир издали и сверху, и мир был необыкновенно хорош и годен для человека таким, как он его видел. К Эре приходили гости, и она сидела с ними на кухне. Однажды, закрыв за кем-то дверь, она пришла в комнату и сказала:
– У Ломтика несчастье. Его будут судить.
– Что натворил этот бэби? – спросил он равнодушно.
– Оказалось, что он тунеядец, – сказала Эра.
– Хорошо, – кивнул Овцын и тут же забыл про Ломтика.
На девятые сутки, закончив работу, он не мог придумать название и даже жанр не мог определить. Он ничего не выдумал, написал все, как было, и все же этого не было. Это он хотел, чтобы так было. И люди, о которых он писал, хотели, чтобы так было.
– То и это, – сказала Эра. – Как такие вещи совмещаются у тебя в голове?
– В жизни это тоже существует одновременно, – ответил он.
– Знаю я твою теорию... Но это неплохо, даже если и выдумано.
– Ничего не выдумано, – возразил он.
– Я хотела сказать: переосмыслено по-своему. Вполне законный прием. Не хуже прочих. Когда на дворе грязно, можно или взять метлу, или надеть калоши. И то и другое помогает.
Он добавил:
– Можно посидеть дома и подождать, пока грязь просохнет.
– Мы договорились не спорить на эту тему, – напомнила она. – Ты и прав и не прав. Я тоже права и не права. Наш спор никогда не кончится. Главное, чтобы намерения были добрыми, тогда все простится.
– Помоги мне придумать название, – попросил он.
Она придвинула машинку, сказала:
– Я перепишу, не меняя ни слова. А название я тебе уже дала, хоть и не думала тогда, что оно так подойдет. «Голубая повесть». А что? Ты часто упоминаешь голубые огни, пронзающие мрак полярной ночи. Они просто занозами застревают в памяти, эти голубые огни.
– Пусть будет повесть, – согласился он и утром отнес «Голубую повесть» в редакцию.
И через пять дней любовался ею в свежем номере газеты. На этот раз редактор не высказал претензий.
И Юра Фролов похвалил его:
– Два подвала – это могучий успех! Вы нашли себя в журналистике, Иван Андреевич. Хотите, устрою вам еще командировку?
– Не хочу, – отказался Овцын.
Он не задумывался, что будет теперь делать. Работа над «Голубой повестью» опустошила его, он дьявольски устал и думал, что не грех несколько дней отдохнуть, не задумываясь ни о чем, побродить по Москве, к которой еще не привык, да почитать книжки, задрав на диван ноги в носках... Он послал газету на «Березань» и матери. Пока шел домой, смотрел, как люди читают «Голубую повесть», вывешенную на стенах. Он останавливался, вглядывался в лица.
Дома Эра в задумчивости сидела над раскрытой газетой. Она ничего не сказала, и он спросил ее:
– О чем ты думаешь?
– Почему это у тебя получилось так легко и безболезненно ? – сказала она. – Сила это или безнравственность...
Он удивился:
– Разве легко? Десять дней я не видел света. Я выпит, выжат и просушен. Я сейчас долго соображал, в какую сторону, чтобы домой.
– Я не о том, – отмахнулась Эра. – Это пустое... Меня удивляет, как можно иметь относительно одной и той же вещи несколько одинаково убедительных точек зрения?
– Возможно, надо смотреть из разных мест, – сказал он.
– Возможно... Конечно, необходимо смотреть из разных мест. Но в результате человек должен прийти к одному мнению. Иначе как же разобраться, среди чего живешь, что хорошо и что плохо? Ведь если у вещи нет окончательной оценки, каждый болтун может доказать свою правду.
– Так оно и случается. Наше дело – не давать,– улыбнулся он.
– Это не всегда исполнимо... Завтра судят бедного Ломтика.
– Ах, да! – вспомнил он. – Ребенок попал в тунеядцы. Кто его будет судить?
– Товарищеский суд при домоуправлении.
Он засмеялся:
– Ну разве это страшно?
– Такому мраморному изваянию, как ты, это, конечно, не страшно. А Ломтик – очень хрупкий человечек. Это может сломить его навсегда. Если приговорят выслать его из Москвы, я вообще не знаю, что с ним будет, как он перенесет... Никакой он не тунеядец! – воскликнула Эра, возражая кому-то невидимому. – Самый нормальный мальчик, прекрасной души, но еще не нашедший себя. Он ощущает свой талант, но еще не знает, как его применить к жизни.
– Это трогательно. Но зачем же ругать меня? – спросил Овцын.
– Прости, – вздохнула она. – Иногда очень надо кого-то ругнуть. Кого же мне ругать, как не тебя? Больше некого.
Вечером неожиданно пришел Вадим Згурский, привел рыжего, широкоплечего режиссера по фамилии Вандалов. Манеры у Вандалова были раздольные, голос – командирский, и звали его Глебом. Отчества Вандалов не сообщил. Он не стал терять время на обнюхивание и неоплачиваемые разговоры, сразу взял быка за рога:
– Вашу «Голубую» нужно снять. Если б Вадим не был вашим приятелем, я все равно вас нашел бы. Снять в цвете! Двести метров одного фейерверка!
– Много, – успел вставить Згурский, пока Вандалов вдыхал.
– Пусть сто, – убавил Вандалов. – Тоже эффектно. Однако – хроника, документальность. Никто не укусит.
– Фейерверк бывает только под Новый год, – сказал Овцын.
– А разве там на облаках написана дата? – прищурившись, спросил Вандалов. – Или, может быть, на складах кончились ракеты?
– Ракет достаточно, – согласился Овцын. – Снимайте, если вам охота.
– Слова не мальчика, но мужа. Садитесь писать сценарий, -скомандовал Вандалов.
– Не умею, – сказал Овцын. – Наймите сценариста.
– Не стройте из себя медвежонка, – возразил Вандалов. – Мне нужна ваша манера. Зачем бы я иначе забирался на четвертый этаж без лифта?
– Я не умею писать сценарии, – четко и раздельно повторил Овцын.
– Кокетничаете, – скосился Вандалов. – Или вы думаете, что сценарий – это пьеса? Или думаете, что вам надо изучить технику киносъемок? Вздор вы думаете, Овцын. Пишите ту же самую прозу, которую вы прилично умеете писать. Только время от времени зажмуривайтесь и представляйте себе, как это будет выглядеть на экране. Да в конце концов ваша жена умеет писать сценарии! Эра, ты умеешь писать сценарии?
– Ну, – сказала Эра.
– Покажешь мужу, по каким рельсам надо ехать. Садитесь, садитесь за машинку, Овцын! – приказал Вандалов.
– Неохота. – Овцын покачал головой.
Режиссер поднялся со стула, сунул кулаки в карманы пиджака. Заговорил, широко расставив ботинки, покачиваясь с носков на пятки:
– Послушайте, Овцын, вы что, подпольный сын Рокфеллера ? Или вы лидийский царь Крез? Или, может быть, вы нашли то озеро, куда потрепанные банды Наполеона бросили награбленные в Москве сокровища ? Вам лень нагнуться и поднять пятьсот рублей, которые валяются на вашей дороге?
– Не в деньгах счастье, – сказал Овцын.
– Когда их много, – вставил Вадим Згурский.
Вандалов зашел с другого конца.
– Ну, а слава? Тоже не в ней счастье? Или, может быть, вы пресытились ею с тех пор, как ваше мужественное лицо промелькнуло на экране? И теперь фамилия в титрах – это для вас мелочь, которая даже не пощекочет самолюбие?
– Не произноси такие громкие слова, Глеб, – заметила Эра. – У документальных сценаристов не бывает славы. Не бывает даже простейшей известности.
– Вздор мелешь, голубушка, – отразил Вандалов. – Я перечислю без запинки дюжину славных документалистов...
– Которых знаешь ты, потому что приходится иметь с ними дело.
– Красавица, не порти песню, – попросил Вандалов. – Вспомни, что через пару месяцев тебе понадобится куча денег.
– Это не твоя забота, – сказала Эра.
– А я о чем тут распинаюсь? – воскликнул Вандалов. – Именно о том, что это забота твоего мужа!
– Мой муж найдет способ не оставить меня в нищете,– сказала Эра.
Вандалов снова уселся, вынул из карманов кулаки, расправил их,
спросил уже спокойно:
– Эра, почему ты против этой работы? Я ничего не понимаю.
– Потому, что мне не нравится «Голубая повесть», – ответила она. -Теперь понимаешь?
– Не могу понять, – потряс рыжей головой Вандалов. – Может быть, тебе не нравлюсь я как режиссер?
– Как режиссер ты не плох, – сказала Эра. – Был бы еще лучше, если б не ходил только по разминированным тропам. Мог бы проложить и новую дорогу.
– А что? – Вандалов состроил надменную гримасу. – Разве я скрываю, что боюсь подорваться? А разве на тех тропах, которые нанесены на карту, мало интересного? Нет, голубушка, это не тот разговор... Овцын, скажите мне честно: вам нравится «Голубая»?
– Нравится, – сказал Овцын.
Вандалов наклонился в его сторону, пристально глядя в его глаза, и Овцын подумал, что этот взгляд не развинчивает на детали, не исследует – он просто добивается своего, и поэтому неприятен.
– Овцын, я вам клянусь, что сделаю фильм, который войдет в сокровищницу мирового киноискусства, – проговорил Вандалов. – Скажи ему Вадим, сделаю я такой фильм?
– На этом материале можно сделать приличный фильм, – согласился Згурский.
– Овцын, я буду снимать этот фильм, – проникновенно сказал Вандалов. – Любой поднаторевший сценарист состряпает по вашему произведению вполне приемлемый сценарий. Но это будет уже не тот класс творчества. Материал останется, душа уйдет. Я это чувствую. А я умею чувствовать, во мне есть для этого приспособление, это подтвердит каждый, кто знает мою работу.
– Ты умеешь чувствовать, – сказала Эра. – Это и обидно.
– Овцын, – продолжал Вандалов, – неужели вы допустите, чтобы из произведения ушла душа и осталось только голое ремесло ? Неужели вам не горько будет видеть на экране развесистую клюкву? А это будет, будет! -Вандалов вскочил со стула, взметнул вверх руку, голос его загремел: – Это будет, я вам предрекаю! Я видел сотни километров морских фильмов. Даже в произведении вашей преуважаемой супруги любимая наша клюква ветвилась пышным шатром. Скажите, разве это не так?
– Не очень пышным, – Овцын улыбнулся и взглянул на непроницаемое лицо Эры. – Но кое-что несообразное было...
– Даже! – Вандалов погрозил Эре пальцем. – И вы представляете, какую оперетту сочинит литератор, видавший море в Коктебеле, а моряков -в ресторане «Арагви»?
– Представляю, – сказал Овцын.
– Будете писать сценарий сами?
– Буду, черт бы побрал ваш ораторский дар! – сказал Овцын.
Эра поднялась с дивана и ушла в кухню.
– Уф-ф-ф-ф... – сказал Вандалов, расстегнул пиджак и потряс на груди
свитер.
– Но не надейтесь, что я напишу его быстро.
– Надо быстро, Иван Андреич, – Вандалов улыбнулся и развел руками. – Оперативность – основное достоинство нашей работы. Мы не художники, мы документалисты, хроника, журналистика, киногазета. Мы должны шагать в ногу с жизнью, а не плестись по пятам у многоуважаемой. Пусть зритель восклицает: «Ах, черти, когда же они успели вставить кассеты в свои аппараты?!»
– Ладно, – сказал Овцын. – Я буду пробовать.
21
На другой день он стал пробовать, но ничего не вышло. Тошно было прикасаться к набившей порядочную оскомину «Голубой повести». Представлялась погашенная пароходная топка, не очищенная еще от шлака. Он лежал на диване, курил и думал, что конец января выдался мягкий и ясный, и что если бы не восьмой уже месяц, то очень прекрасно было бы выехать за город, на лыжах, в лес, который зимой чист, сух и вполне приемлем, – тогда эта топка (в смысле голова) быстро вычистилась бы. Снова засыпай в нее уголь и разводи пары. Но – восьмой месяц. Он чувствовал себя неспокойно, потому что Эра с утра ушла по делам, а мало ли что может случиться в московской толкучке, где и здоровому-то человеку запросто могут кишку выдавить... «И пора ей прекратить всякие дела, – подумал он, -пусть сидит дома, слушает магнитофон и читает веселые книжки. Устрою ей выволочку, если поздно вернется...»
Но Эра вернулась рано, невредимая и веселая.
– Они тебя признали, – сообщила она, еще не сняв пальто.
– Кто меня признал? – не понял Овцын.
– Мама еще называет тебя «твой капитан», но папа уже именует Иваном Андреевичем;.
– И поэтому ты так развеселилась? – усмехнулся он. – Знай, что я существую независимо от того, признают меня или нет. Например, как Германская Демократическая Республика.
– Я не только поэтому развеселилась, – сказала Эра.
– И отчего же ты вся так светишься?
– Иван, я была у них... – тихо произнесла она, по лицу пробежало облачко, след пережитого страха, и оно тут же пропало, снова засветились и засмеялись глаза. – Видел бы ты, какая поднялась суматоха! Мама бросилась поить меня виноградным соком, выкрикивая, что виноградный сок укрепляет плод.
– Так умно и выкрикивала?
– Не вру. Потом мы с ней сели, обнялись и заплакали, а папа ходил по комнате широкими шагами и говорил, что жизнь снова стала прекрасной, потому что теперь будет с кем в баню ходить.
– Веселый папа.
– Он говорил еще много интересного, но я не запомнила, потому что была очень счастлива. Мама дала мне триста полезных советов, их я тоже не запомнила. Я поняла, что они рады. Не просто смирились с неизбежным, а рады. Они пригласили нас в гости...
– Пить чай и разговаривать про умные вещи?
– Но потом сказали, что придут сами, чтобы мне лишний раз не утруждаться. «Теперь ты должна забыть обо всем и беречь плод», – сказала мама. Они вызвали по телефону такси и на лестнице поддерживали меня под руки.
Эра засмеялась и сняла, наконец, пальто.
– Все верно, – сказал он. – Нечего тебе шататься по редакциям, сиди дома и укрепляй плод.
Эра ничего не ответила, только нахмурилась вдруг, а когда часы на серой вокзальной башне отзвонили шесть, она оделась в темное широкое платье и черные чулки, гладко причесала волосы, прикрепила к ушам нефритовые, в тонком золотом ободке клипсы.
– На судилище? – спросил он. – Надо ли?
– Надо, – сказала Эра.
– Добрая душа... – произнес Овцын и тоже стал собираться.
Они поехали на такси и пришли раньше начала. В небольшом зале красного уголка жилконторы было еще пусто и прохладно. Перед рядами стульев стоял стол, накрытый зеленым. На нем – графин с водой, опрокинутый на блюдце стакан, чернильница. Две старушки в последнем ряду стульев скрипуче и невнятно беседовали. Ломтик, скрестив руки на груди, до предела распрямившись, стоял у окна и глядел во двор, на присыпанные снегом грузовики. На другом подоконнике спала серая кошка. Они подошли к Ломтику.
– Здесь холодно, – сказала Эра.
– Скоро здесь будет жарко, – увесисто произнес Ломтик, и на его лице было выражение обреченного на казнь через отсечение головы.
Приходили разные люди, усаживались группами, с любопытством смотрели на спину Ломтика, прямую, как чертежная линейка. Если бы Ломтик повернулся лицом к залу, они, верно, не смотрели бы так беззастенчиво.
– Не каменей, – сказала Эра. – Все будет хорошо. Они разберутся, что ты не хулиган и не тунеядец. Где та мегера, которая подала на тебя заявление?
– Вон та, упитанная, в сером костюме, – указал он пальцем через плечо, и Овцын понял, что Ломтик смотрит не на грузовики, а на отраженный в оконном стекле зал. – Она знает, что я убил бы ее, спокойно вымыл руки и пошел ужинать свои пельмени.
– Почему такое свирепое отношение? – спросил Овцын.
Расплывшаяся дама в сером костюме одна только не смотрела на
Ломтика. Брови ее были сдвинуты, и нижняя челюсть двигалась, будто жуя. Наверное, она мысленно пережевывала хрупкого врага.
– Соседка по квартире, – процедил Ломтик сквозь сжатые зубы. – Сама дура, и сын у нее балбес. Провалился на экзаменах в институты, пришлось крошке идти работать... А я три месяца, видите ли, не работаю. И с голоду не помираю. И даже гости ко мне приходят. Читают стихи, танцуют. Подслушаешь у скважины – стихи читают непонятные, танцуют тоже не кадриль. Это бесит. И вообще моя физиономия ее бесит. Она мне устраивает все гадости, которые еще не включены в уголовный кодекс. Может быть, даже в пельмени плевала. Теперь я не отхожу от кастрюли, пока пельмени не сварятся. И тогда в ее глазах сверкает отчаянная тоска неудовлетворенности страстного желания. А сын однажды пришел ко мне проверять документы. Не сам, конечно, она его послала. Он парень безобидный, покорный, как слон...
Овцын вышел в коридор покурить, и мимо него прошествовали судьи. Двое пенсионеров, один дородный и могучий, с осанкой строевого полковника, другой сухонький и желтый, с некрепкой шеей. В третьем Овцын узнал инженера из отдела астрометрических постоянных Валерия Попова, которому в далекие уже времена объяснял, как переводить градусы Фаренгейта в градусы Цельсия. Попов тоже припомнил его, остановился, приветственно тряхнул черными волосами, которые начинались у него от самых бровей.
– Привет, – сказал Овцын. – Вы еще и судья?
– Общественная работа, – пожал плечами Попов. – Без этого кандидата не получишь. Ученый должен быть общественным деятелем.
– Следовательно, это не призвание?
– Судью нельзя допрашивать, – сказал Попов. – Вы-то как здесь оказались? Не газетка ли прислала?
– Газетка тут ни при чем, – сказал Овцын. – Я знаком с вашим подсудимым.
– С этим Ломтиком? – Губы Попова скривились. – Ну и знакомые у вас, Овцын.
– В душе своей вы уже осудили его до процесса? Разве так полагается?
– Он из тех, которые юлят под ногами, – сказал Попов. – Простите, меня ждут. Дайте курнуть...
Он в три затяжки докурил сигарету Овцына, плюнул на окурок, швырнул его в темную даль коридора и отправился к судейскому столу.
Овцын не стал закуривать другую сигарету и пошел к окну; около Ломтика стоял худощавый, сравнительно молодой человек в грубошерстном свитере с высоким воротником, над которым угрожающе торчал острый подбородок.
– Дарий Бронин, – представился он Овцыну.
– Поэт и общественный защитник, – прибавила Эра. – Ты помнишь, я тебе показывала книжку?
Он помнил, но книжку тогда так и не одолел, споткнувшись на втором стихотворении.
– Меня приглашают, – сказал Дарий Бронин. – Ну, не дрейфь. Ломоть. Когда будут спрашивать, говори медленно, говори мало, говори загадочно.
Бледнеть можно, краснеть не надо. Признай свою вину. Поклянись, что в душе ты любишь мадам Бантикову, как родную тетю, и завтра же пойдешь привлекаться к труду.
– Завтра воскресенье, – возразил Ломтик.
– Есть разница между «завтра» поэта и «завтра» календаря, – бросил Дарий Бронин уже на ходу.
Он подошел к столу и сел с краю. Ломтика посадили в середине переднего ряда стульев.
– Этот Дарий относится к делу несерьезно, – сказал Овцын.
– Он член союза, – отозвалась Эра. – В данном случае это важнее серьезности.
– Не знаю, как старички, а вон тот черногривый его раскусит. На того звание не подействует.
– Ты его знаешь? – встрепенулась Эра.
– Да, видались. Инженер-электроник из Астрономического института. Он сказал: «Ну и знакомые у вас, Овцын».
Пенсионер с осанкой полковника поднялся, постучал карандашом о графин, стал говорить тренированным председательским голосом:
– К нам поступило заявление от гражданки Бантиковой Ираиды Самсоновны, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, проживающей в квартире номер четырнадцать... Это заявление я сейчас вам зачитаю... «Заявление... В товарищеский суд жилконторы... В то историческое время, когда весь народ, прилагая героические усилия, строит светлое будущее человечества – коммунизм, отдельные морально разложившиеся подонки общества, затаившиеся в темных углах, проводят время в безделье и оргиях, занимаясь клеветой на советского человека в стороне от честного труда...»
В зале стало томительно-тихо. Ираида Самсоновна Бантикова слушала исполнение своего произведения, наклонившись вперед и приспустив нижнюю челюсть. Серая кошка проснулась, подняла голову и навострила уши.
– «Жилец моей квартиры номер четырнадцать, – продолжал судья, – по фамилии Ломтик нигде не работает, спит до двенадцати часов дня, а по вечерам часто устраивает в своей комнате шумные сборища незнакомых молодых людей и девушек с употреблением спиртных напитков и западных танцев. После одного из таких сборищ у меня пропал кот по имени Кузьма...»
Смех раздался в зале. Попросив тишины, судья читал дальше длинное заявление, перекладывая страницы из правой стороны папки в левую. Конец прозвучал грозно:
– «Я требую выселить из столицы нашей Родины Москвы прогнившего тунеядца, который своим поведением кладет черное пятно на светлый облик советского молодого человека».
Судья сел и вытер лоб платком.
– Гражданин Ломтик, – позвал он, попив воды и отдышавшись. -Встаньте и расскажите нам, почему это у вас так получается.
– Я протестую против формы вопроса! – вскочил с места Дарий
Бронин. – Еще неизвестно, так ли это получается.
– Ладно, ладно, товарищ Бронин, – согласился судья. – Зададим тот же вопрос иначе: расскажите, гражданин Ломтик, что же у вас там получается?
– Ничего хорошего не получается, – произнес Ломтик, встав. – Ираида Самсоновна меня терпеть не может.
– Разве без причины? – подала с места голос гражданка Бантикова.
– А я и не говорю, что без причины, – согласился Ломтик. – Только оргий я не устраиваю, клеветой на советского человека не занимаюсь, кота я у нее не крал, и я не тунеядец. Я много работаю.
– Что вы делаете? – спросил сухонький судья.
– Пишу.
– Вы член Союза писателей?
– Нет.
– Значит, это нельзя назвать работой, – покачал головой судья.
– Позвольте разъяснить! – вскочил с места Дарий Бронин. – В уставе Союза писателей СССР есть статья, говорящая, что в члены союза может быть принят только человек, создавший произведение, имеющее самостоятельную художественную ценность. Такие произведения не создаются за один вечер. Они создаются годами – годами напряженного труда. Все эти годы человек не является членом союза, но тем не менее работает.
– А чем он все эти годы питается? – спросил Валерий Попов.
– Конечно, приходится где-то служить, – пожал плечами Дарий Бронин. – Человек не черепаха, чтобы годами обходиться без пищи. Всяко бывает. Бывает, что и члены союза нанимаются на работу, потому что на них нападает так называемый «творческий застой».
– А не бывает так, что член союза нанимается на работу для того, чтобы поближе познакомиться с жизнью? – спросил Попов.
Дарий Бронин помолчал, усмехнулся.
– Знакомиться с жизнью... Я не признаю этой формулы, – заявил он, позабыв, наверное, где и зачем находится. – «Знакомиться с жизнью» приходится только бездарным литераторам. Талантливый писатель несет жизнь в самом себе. Он создает жизнь, а не знакомится с ней. Создает по-своему, в меру своего внутреннего видения. Льву Толстому не надо было служить, чтобы написать «Анну Каренину», не надо было сидеть в тюрьме, чтобы написать «Воскресение». Федор Достоевский тоже, насколько мне известно, нигде не работал. Основатель социалистического реализма Максим Г орький занимался только литературным трудом и общественной деятельностью. Антон Чехов большую часть жизни прожил на даче. Пушкин никогда не служил.
– И много среди вас таких? – спросил Валерий Попов.
Раздалось хихиканье, но Попов не улыбался.
– Н-н-не очень... – проговорил Дарий Бронин.
– А как это «не очень» выражается в процентном отношении? -спросил Попов издевательски-серьезно.
– Вернемся к делу, – пришел Дарию на помощь судья с осанкой полковника. – Скажите, Ломтик, вы что-нибудь зарабатываете своим писательством?
– Да, – сказал Ломтик. – С октября прошлого года я заработал сорок два рубля.
В зале опять хихикнули.
– На какие же средства вы существуете? – приподнял бровь судья. -Ведь десяти рублей в месяц вам, наверное, не хватает?
Ломтик вздохнул, потупился и вопреки совету Дария Бронина покраснел.
– Побирается! – выкрикнула с места гражданка Бантикова. – Еще находятся среди нас идиоты, которые его подкармливают.
– Среди вас таких не найдется, – громко сказала Эра. – Но у него есть друзья, которые в него верят и не оставят в беде.
– Во что именно вы верите? – спросил Попов, вскинув голову. Он внимательно смотрел, переводя взгляд с Эры на стоявшего рядом Овцына.
– В то, что у него чистая и добрая душа, – горячо заговорила Эра. – В то, что он талантливый поэт, и не так уж на свете много талантов, чтобы ими бросаться. Он честно ищет дорогу, на которой сможет полностью отдать свой талант людям.
– Почему же он ищет эту дорогу, сидя в комнате, да еще по соседству с Ираидой Самсоновной? – спросил Попов. – Дарий Бронин, произнося свою пылкую речь, слегка подтасовал факты. Никто из перечисленных им товарищей в возрасте Ломтика не занимался только литературным трудом, и вообще внутреннее видение у них появилось после того, как полностью развилось внешнее видение. Я не специалист по литературе, но немножко знаю законы, общие для всех без исключения профессий, законы прогрессивной философии. Поэтому меня никто не разубедит в том, что творчество имеет в основе своей познание. «Знакомиться с жизнью» – это, конечно, нехорошая формула. Тут Дарий Бронин прав. Следует создавать жизнь, это он тоже сказал верно. Однако не при помощи внутреннего видения, а посредством активного участия в жизни. Тогда придет познание как необходимое условие творчества.
– Не обязательно видеть Индийский океан, чтобы знать, какого цвета в нем вода, – бросил обиженный Дарий Бронин.
– Все же лучше повидать, – усмехнулся Попов. – Подержать эту воду в горсти, подумать. И тогда поймешь, что цвет воды – это оптическая иллюзия, а на самом деле вода бесцветна.
– Я не всю жизнь сижу в комнате, – произнес, наконец, Ломтик. -Летом я работал в топографической экспедиции.







