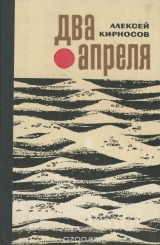
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
12
Два дня он изучал лунную трубу по доставленным из обсерватории копиям чертежей, потом, поверив в то, что знает достаточно, поехал на завод.
Раньше он бывал только на судостроительных верфях, да и то мельком, всегда по конкретному спешному делу, которое целиком занимало время и не давало присмотреться к обстановке. Запомнился ему стапельный грохот, суета внутреннего транспорта, авральные натиски достроечных партий, штурмующих план, который почему-то каждый раз был под угрозой срыва. Образовалось представление о заводе как о чем-то шумном, дымном, торопящемся, матюгающемся и опасном для пешего хождения, как переплет железнодорожных путей на подступе к большому вокзалу.
Здесь все выглядело иначе. Не было небритых дядек в ватниках с оборванными хлястиками, покуривающих на штабеле небрежно сброшенных краном досок, не было широкоплечих электросварщиков в прожженных брезентовых робах, укрывших лица под черными забралами, не было грохота, дыма и суеты. А были бесшумные электрокары, проезжающие по асфальтированному и очищенному от снега заводскому двору, и проходили люди в аккуратных синих халатах, на которые они набросили незастегнутые пальто. Мужчины были чисто выбриты и при галстуках, а женщины выглядели модно и кокетливо даже в халатах.
В конструкторском бюро сказали, что инженер Аркадий Васильевич Постников ушел в чертежную, из чертежной девушки послали его в сборочный цех, где он и нашел, наконец, Постникова. Инженер, сравнительно еще молодой и без халата, и мастер, пожилой и в синем халате, склонились над монтажным столом, внимательно и молча глядя на работающий механизм, в котором Овцын угадал фотографическую каретку лунной трубы. Отрекомендовавшись, он тоже стал молча смотреть на медленно поворачивающуюся каретку; и ему казалось, что каретка сделана отлично и работает так, как надо. Он обрадовался, что такой сложный узел уже готов.
– В общем опять ни фига не выходит ? – спросил у мастера инженер Постников, разогнув спину.– Как, Степан Иваныч?
– Ни фига не выходит, Аркадий Васильевич, – согласился мастер. -Трясет ее, заразу, как лихоманкой. Надо пересчитать шестеренки. Крупно ваты они у тебя.
– Думаешь?
– А что же тогда?
– Может, подшипник грешит? – предположил Постников.
– От подшипника такой болтанки быть не может, – покачал головой мастер. – Ну, от силы три микрона он даст. Не восемь же!
– А точность обработки круга?
– Тут в порядке. Я проверял.
– Тогда дело в передаче, ты прав, Степан Иваныч, надо пересчитать шестеренки, – сказал Постников. – Видите, какая ядовитая машинка? -улыбнулся он Овцыну. – Девятый раз ее корректируем, а все ни фига. Упрямится, не желает ровно идти.
Мастер посмотрел на Овцына внимательными глазами, спросил;
– А зачем вам, извините, такая точность?
Его и самого удивляли эти доли микрон, когда он вчитывался в чертежи, и он раздумывал об этом.
– Нужна большая экспозиция, – сказал он. – Поэтому выдержка будет долгой...
– Они будут фотографировать в разных лучах, – вставил Постников.
– И если сложенное движение трубы и каретки не совпадут со сложенным движением Земли и Луны, тогда на пластинке вместо изображения будет каша, – закончил Овцын.
– Зря это, – решил мастер. – Скоро на Луну люди прилетят, все глазами увидят. Сколько до нее расстояния?
– Триста восемьдесят четыре тысячи, – сказал Овцын.
– Ну вот, – сказал мастер. – Что вы с такой дали увидите? Ни фига вы не увидите.
– Увидят, – весело сказал Постников и похлопал мастера по плечу. -Увидят ровно столько, сколько нужно, чтобы туда люди прилетели.
– Зряшная трата денег, – не согласился мастер,
Он махнул рукой и пошел к другому столу.
– Давайте я покажу вам, что у нас уже есть,– сказал инженер Постников. – А на Степана Иваныча вы не обижайтесь. Он в комиссии Госконтроля заседает, приучили его там думать о конкретной выгоде
производства...
– Может, он и прав, – сказал Овцын. – История рассудит, где мы приобретали, а где транжирили.
– Да? – приподнял брови Постников.– Я убежден, что мы и транжиря приобретаем.
Трехметровая стальная труба была уже готова. Покрытая сверху кремового цвета эмалью и зачерненная внутри, она стояла в отдельном боксе, ожидая, когда ей начнут вмонтировать внутренности.
– Думаете, это первая? – спросил Постников. – Четвертая! Три таких изваяния обратно отправили. Две косые оказались, в третьей раковину нашли. Эта, слава богу и литейщикам, в порядке.
– Разве их не проверяют в литейном? – спросил Овцын.
– Наши средства поточнее.
– Ну и переместили бы их в литейный.
– А вы бывали в литейном? – усмехнулся Постников – Нет? Сходите. Там, дорогой мой, даже вот эта линейка, – он вынул из нагрудного кармана короткую стальную линейку, – пульсирует.
Если корпус трубы был, «слава богу и литейщикам», в порядке, то с механизмами и оптикой дело обстояло совсем безрадостно. Собранные агрегаты не желали работать с нужной точностью; их приходилось разбирать, переделывать, подгонять, снова испытывать, испытывать и испытывать.
– Ни фига у нас пока не клеится, – сказал Постников и повел Овцына в оптический цех.
Из двух линз короткофокусного объектива готова была только одна. Она стояла на измерительном стенде, сверкая под мощным светильником алмазным блеском. Оптику Овцын знал настолько скверно, что даже поддакивать благообразным мастерам-оптикам было совестно. Хорошо, что мастера, уверенные, что, кроме них, ни одна собака в мире не разбирается в головоломных хитростях взаимодействия стекла с лучом света, не задавали вопросов. Вторая линза – не линза еще, а глыба зеленоватого стекла,– стояла в шлифовальном станке.
– Долго ее обрабатывать? – спросил Овцын.
– Не так чтобы, – успокоил мастер. – Месяца в два сделаем.
Овцын подумал, что совершенно невозможно будет повлиять на этого неприступного умельца. Он сам знает, что ему делать сегодня, а что завтра. А на совет профана только брезгливо подожмет губу...
И вообще его задача, вчера еще столь ясная, расплывалась и теряла смысл.
Пообедав с Постниковым в чистенькой ИТРовской столовой, Овцын пошел в литейный цех. Был даже повод: отливка чугунного основания трубы, о котором сперва позабыли. И здесь, наконец, он увидел завод, каким представлял его себе прежде. Были и прожженные брезентовые робы, грохот, дым и запах гари, и грязь от рассыпанной формовочной земли, и грубые, исполосованные лица рабочих, и матерщина, и страх, что вдруг плеснет что-нибудь не полезное для здоровья из проплывающего над головой раскаленного ковша. В самом деле, капля окалины ударила в руку, когда он приблизился посмотреть, как заливают форму, но никакого вреда, кроме красного пятнышка в копеечную монету, от этого не произошло. Он примочил пятнышко слюной и пошел наверх к инженерам дотолковываться про основание трубы.
Выбрался он из литейного цеха распаренный, усталый от всего увиденного и слегка ошалевший. И подумал, что лучше бы истратить полмиллиона не на лунную трубу, которая еще бог ее знает какую принесет науке пользу, а на улучшение условий труда литейщиков. Впрочем, много на свете работников, которым надо бы улучшить условия труда, а наука тоже должна получать свое, и в конце концов неравномерность развития – это закон, нарушить который не в силах никакой, пусть самый добросердечный министр...
Когда он следующим утром рассказывал шефу, что увидел на заводе, доктор Кригер восклицал, хлопая в ладоши:
– Так и говорит «ни фига»? Так и не отработали еще каретку? Так и не смонтировали проводку? Так и не наладили следящий механизм? Линзу отшлифуют к февралю?! А сколько времени будут испытывать собранный объектив?!! Да чем они занимались полтора года, щучьи дети!!!
Овцын, видевший своими глазами, что люди на заводе не сидят без дела, спросил язвительно:
– А почему вы не знаете, чем они занимались полтора года? Завод не так уж далеко, всего две пересадки на городском транспорте.
– Да, да, моя оплошность, – нахмурился профессор. – Надо было раньше послать человека, да ведь надеялся на совесть. Теперь все упования на вас, Иван Андреевич. Торопите их, не давайте спать. Думайте вместе с ними, у вас ведь ясная голова!
– У них головы яснее, – сказал Овцын.
Приезжая на завод, он каждый раз заново убеждался в том, что ездит в общем-то впустую, что помочь делу не может, и если есть от этих поездок польза, то только его общему развитию, а не заводу и лунной трубе. Фотографическая каретка после замены узла передачи стала, наконец, вибрировать в допустимых пределах; но и к этому успеху Овцын не имел никакого отношения, он даже не знал, как измерить коварные микроны, пока его не научил мастер Степан Иваныч. Глыбу стекла обдирали и шлифовали без его помощи и с той скоростью, которая нужна была оптикам, а не профессору Кригеру. Кроме того, и первая линза после исследования была признана несовершенной, и ее стали шлифовать заново. Завод работал добросовестно и не нуждался в контролерах со стороны. Да и как бы он, Овцын, мог бы исследовать линзу? Смешно подумать... Может быть, Митьке Валдайскому и следовало бы поездить на завод, поглядеть, как делают его инструмент, в каких муках рождается труба, на которой он будет работать. Но у Мити на это не было времени. Он много раз собирался съездить с Овцыным, но так и не собрался – всегда находились неотложные дела.
Польза, которую удавалось принести по мелочам, утопала в море бесполезно проведенного времени. Все острее чувствовал себя Овцын на заводе лишним. Он стал уходить с завода все раньше и раньше; а когда организовал, наконец, отправку в обсерваторию чугунной, зеркально отполированной по верхней плоскости чушки основания, на следующий день и вообще не пошел, потому что делать ему на заводе было совершенно нечего. Весь этот морозный декабрьский день он пробродил от музея к музею, отогреваясь в светлых и пустынных залах, растравляя зажившие было раны души мыслями о напрасности своего существования, о слишком дорогой цене, которую он заплатил за радость любить и быть вместе... В данном случае проблема «человек – семья – общество» не имела гармоничного решения. Ради семьи человек превращается в пустышку и повисает на горбу у общества. Он смаковал эти термины и мысленно издевался над ними, ибо ничего другого не оставалось ему для утешения рыдающей души. Он свирепел и материл жизнь человеческую, которая, если выразить ее алгебраическим уравнением и решить, есть нуль, ибо на всякую положительную величину в этом уравнении найдется равновеликий по абсолютному значению минус. Икс, итог существования человека, равен нулю – так сказал бы Еклезиаст, когда бы знал математику.
Продрогнув, проголодавшись и устав от хождения и горьких раздумий, он направился во «Флоренцию», чтобы повидать Гаврилыча, единственного в Москве человека, который доподлинно понимает, как ему сейчас тошно. Гаврилыч опять снял фартук и колпак, подсел к его столику, но ни есть, ни пить не стал. Ему предстояло вечером кормить швейцарскую делегацию, приехавшую на какой-то симпозиум в большом числе членов.
– Ладно, – сказал Овцын. – Посидите так, Гаврилыч...
Он пил и рассказывал, рассказывал и опять пил, а повар все понимал и находил нужные слова для сочувствия.
– Очень требовательный вы человек, Андреич, – говорил повар. – Все вам подай высшего качества, с лимончиком. Скажем, Ксенечка наша – уж как она вас любила, как обихаживала, всю себя отдавала вам. Другой бы господа бога возблагодарил пламенно, что встретил такую женщину. А вы? Знаю, почему отвергли. Не девственница она, прошлое подмочено, душа надломлена. С изъяном человек. Сторонитесь вы таких.
– Сердце, Гаврилыч, лишено рулевого управления, – сказал Овцын. -Оно движется по воле стихий. При чем тут изъян?
– Какая воля стихий, – возразил повар. – На всякий человеческий шаг есть причина. Не сделал шага, и этому причина отыщется. Я вас понимаю, Андреич. Сам такой же, ну, конечно, пониже ростом. Все в моей жизни должно идти так, как я сам себе наметил, а не как некий Спирька меня заставляет. Но иногда...
– К черту! – перебил Овцын. – Был ведь человеком, делал дело, жил, уважал себя, не юлил, не обманывал, знал свою цену. А теперь что? Мелочь, килька-человек, пустячок, тряпка для затыкания дыр. И силы ведь много, Гаврилыч, сила бурлит, сила просится в дело! Куда ей деваться? В бутылку?
Верно, можно и в бутылку...
– Иногда приходится потерпеть, – сказал повар. – Смирить себя. На это тоже требуется употребить силу.
– Достоевщина, – усмехнулся Овцын. – Не хочу смирять себя. Никто от этого ничего не выиграет. Надо жить ярко, на виду, чтобы о тебе вспомнили, когда ты уже сгоришь. Даже Герострата я уважаю больше, чем смиренных прихожан храма Артемиды.
– Чтоб я еще знал, кто такая Артемида, – улыбнулся повар.
– Это неважно, Гаврилыч. Важно, что в ночь, когда родился Александр Македонский, безумец Герострат, томимый жаждой славы, поджег храм Артемиды в Эфесе.
– Одна спичка прославила человека навечно,– покачал головой Алексей Гаврилович.
– Он высек огонь из кремня. Но дело не в этом. Тебе не кажется, Гаврилыч, что все человечество, я не говорю о болоте, которое только жрет, совокупляется и спит, состоит из созидателей и разрушителей, из строителей храмов, хрен знает, как его фамилия, и Геростратов? И обе эти должности равно почетны и необходимы, как необходимы свет и тьма, плюс и минус, жизнь и смерть. Тебе так не кажется, Гаврилыч?
– Если красивый храм, зачем же его поджигать? – сказал Алексей Гаврилович. – Никакой в этом нет необходимости, никакого почета. Не так уж много хороших зданий.
– Что такое хорошо, а что такое плохо, кто знает? – проговорил Овцын и почувствовал, что думать – это уже трудное для него дело, язык болтает сам по себе совсем не то, что надо было бы сказать. Он спросил: – Меня не выгонят отсюда, когда придет эта зарубежная публика?
– Хорошо бы вам сейчас домой, Иван Андреевич, – сказал повар. -Самое время.
– Домой? А там что хорошего?
– Жена, – сказал повар. – Она – родной человек. Это много значит, когда рядом родной человек...
– Никого не будет рядом, – сказал Овцын. – Жена театре.
–Как же она без вас пошла? Муж и жена должны вместе развлекаться, когда они вместе живут.
– Это работа. Пишет про театр. Так я еще посижу, Гаврилыч?
– Сидите, Иван Андреевич, – сказал повар. – Никто, конечно, вас отсюда не попросит. Только не пейте больше. Или возьмите винца сухого.
13
Он проснулся в незнакомой квартире, одетый, на старомодном диване с валиками, ощущая жестокую жажду. Нашел ванную, приник к крану и пил ледяную воду, отрывался и снова пил, не обращая внимания на ломоту в зубах. Вернулся в комнату, удивляясь, осмотрел буфет, устланный вышитыми салфеточками, четырехугольный стол под тяжелой скатертью, накрытый бархатным ковриком телевизор и высокие старинные часы, где за стеклянной дверцей бесстрастно мерил свои амплитуды латунный маятник. Часы показывали половину восьмого, дома он вставал в это время. «Какие черти занесли меня в эту купеческую горницу?» – подумал он.
Вспомнил, как вчера ушел Гаврилыч, и он подозвал сутулого, лысоватого Степочку.
– Алексей Гаврилович рекомендовали вам Тибаани, – любезно доложил Степочка.
– К чертям Тибаани! – сказал Овцын. – От него только чаще брызгают. Принеси, Степочка, что-нибудь для взрослых.
Пришла швейцарская делегация и тихо расселась за поставленными буквой «П» столами. Делегаты ели не по-нашему благообразно, и это занимало Овцына, отвлекало его от мыслей, которые метались и орали в голове, как туча чаек над сейнером, выбирающим сети. Поэтому он заставлял себя смотреть на этих людей и думать о них. Он рассчитывал пойти домой в одиннадцать – наверное, к тому времени вернется Эра. Но еще задолго до одиннадцати предметы стали расплываться перед глазами, и швейцарская делегация превратилась в колыхающееся чудище со многими человеческими головами. Тогда он решил, что пора приступать к Тибаани, и велел Степочке принести бутылку.
Горькие мысли оставили его, он понял, что это очень даже прекрасно -шататься по заводу часа три-четыре в сутки, два раза в месяц ездить в институт, докладывать, как прозябает труба, а заодно получать зарплату, которая не уменьшатся количественно оттого, что становится зряплатой. Можно и в университет поступить. А что? Доброе дело. Сколько их, мечтающих поступить в университет и не имеющих такой возможности! А его шеф с Митькой протолкнут, хоть бы он сдал все экзамены на три балла с минусом. Пять лет учиться, два года на диссертацию, глядишь – зрелый ученый муж со степенью. Эркины родители обрадуются и пригласят его в субботу пить чай и говорить об умных предметах. Держись за институт, Иванушка, и не дай тебе дьявол плюнуть в этот симпатичный колодец! А лишнюю силу смири. Накинь на нее узду. Правильно Гаврилыч посоветовал.
Подошел официант Степочка и, взглянув на Овцына, стал писать счет. Он расплатился. Было пол-одиннадцатого, а он твердо решил досидеть до одиннадцати и поэтому медленно цедил Тибаани и не уходил. Вдруг стало полдвенадцатого, а большая стрелка ресторанных часов все двигалась и, догнав маленькую стрелку, указала полночь и застыла. Он смотрел на часы, и была все полночь и полночь. И сразу после этого он проснулся здесь, на диване с валиками.
«Мистика, – подумал он, никогда еще не лишавшийся сознания от спиртного. – Куда делись семь часов времени? Что я натворил за эти семь часов, куда попал?.. А Эра?..»
Зашла маленькая полная женщина лет пятидесяти с липшим, с сильной сединой на собранных узлом волосах. Она сказала:
– Доброе утро, Иван Андреевич. Как выспались?
Он встал и ответил:
– Спасибо, сон мой был крепок. Только не помню, где я заснул...
– Бывает, – доброжелательно улыбнулась женщина. – Ничего страшного нет. Пьяный проспится, дурак – никогда.
«Что это за старушенция ? – мучаясь, вспоминал Овцын. – Какое она имеет ко мне отношение, где я ее видел? Нигде я ее не видел».
– Вчера вы с Леней полвторого пришли, – рассказала женщина. -Говорили толково, только от чаю отказались и раздеваться не хотели. Не велели, чтобы я вам простыни стелила. И глаза были какие-то...
«С Леней?.. Ах, значит, я к Гаврилычу попал, – сообразил Овцын. – Это его супруга. Небось говорили мне, как ее зовут. Стыд-то какой!»
– Ничего не помню, – виновато улыбнулся он и потряс головой.
Зашел Алексей Гаврилович, подмигнул ободряюще, сказал:
– Голова болит, Иван Андреевич?
– Не то чтобы болит... – Овцын потер лоб. – А что-то там присутствует постороннее.
– Сейчас Ирина Михайловна нам закусочки приготовит. Постороннее из головы мигом выскочит, – сказал Алексей Гаврилович.
Овцын отказался:
– Надо идти. Вы ведь представляете, что с Эрой Николаевной.
Но его уговорили, и, пока он умывался и приводил в порядок одежду, завтрак был готов.
– Сейчас из головы все постороннее и убежит,– приговаривал Алексей Гаврилович, наполняя толстостенные стопки зеленоватой жидкостью из четырехугольного штофа.
– Что за зелье? – Овцын припомнил вкус водки и содрогнулся.
– Анисовка, – назвал Алексей Гаврилович. – Между прочим, историческая настойка. Александр Васильевич Суворов обожал.
– Не с утра же, – поморщился Овцын. – Ну ее к аллаху!
– Для поправки здоровья, – сказал Алексей Гаврилович.
«Ладно, – подумал он. – Все равно до обеда на завод не пойду...»
Воспоминание о заводе больно царапнуло душу, но после стопки анисовой утешительно полегчало, появился аппетит и прояснилось в голове. Ничто уже не казалось страшным, даже то, что дома страдает жена. Никуда он не делся, не попал ни под колеса, ни в милицию, не изменил... «Приду домой, – умильно думал он, – и прекратятся страдания. Обрадуется, Опять будет компенсация по принципу «плюс-минус».
Провожая его, Алексей Гаврилович просил заходить, и он обещал. Анисовая просветлила и возвысила окружающий мир, а особенно Алексея Гавриловича и его добрую супругу Ирину Михайловну, и хотелось почаще видеть этих простых и милых людей.
Он быстро добрался до дому и, поднимаясь по лестнице, придумывал слова, которыми обласкает жену. В голове складывались красивые фразы. Эти фразы мгновенно развеют тучи, собравшиеся на небосводе их счастья, и он опять засияет девственно чистым блеском, и эта ночь – будь она неладна!
– канет в вечность и пропадет, как бесследно пропадает оброненный с борта гвоздь.
Он открыл дверь и поразился, увидев в прихожей Вадима Згурского. Длинный и небритый оператор держал в руке шапку.
– Что с вами случилось? – взволнованным голосом спросил он.
– Ничего, все в порядке, – сказал Овцын.
Он прошел мимо Згурского в комнату. Эры не было. Он вернулся, спросил: – Где она?
– Пошла звонить, – сказал Згурский, и в голосе его была неприязнь.
– Куда?
– Куда звонят в подобных случаях... – Згурский поморщился. – Вы, кажется, думаете, что Эра безмятежно проспала ночь?
– Вы давно здесь? – спросил Овцын.
– Давно. Вы не ходите никуда. Я знаю, из какого автомата она звонит. Скажу ей, что вы... появились.
– Жираф небритый... – процедил сквозь зубы Овцын, глядя на захлопнувшуюся за Вадимом дверь. – Сбил настрой души...
Да, она не спала ночь. Это он знал, что ничего не случилось. А что знала она? Разве могла она подумать, что он, брезгающий пьяницами, нахлещется, как верблюд после рейса через Сахару?..
Он разделся, присел на столик. Услыхал медленные, усталые шаги на лестнице, открыл дверь, обнял Эру и ввел ее в квартиру. Снял с нее шапочку, пальто. Поднял на руки, отнес в комнату и положил на диван. Снял с ног сапожки, сказал:
– Спи, детеныш...
– А ты? – Две слезинки вдруг покатились по ее щекам.
– Буду сидеть рядышком и не дышать, – сказал он и вытер слезинки губами.
Эра взяла его руку, положила на нее лицо.
– Ты больше не будешь так делать, – прошептала она. – А теперь иди на работу. Я буду спать спокойно.
– Пойду во второй половине дня.
– Тогда ляг рядом, чтобы и чувствовала, что ты есть, – попросила она. -Это страшно, когда тебя нет. Мне страшно без тебя...
Он приехал на завод в начале третьего и сперва зашел в оптический цех. Заново отшлифованная линза опять стояла на измерительном стенде. Заготовка для второй линзы уже приняла с одной стороны форму чечевичного зерна. Неприступные мастера-оптики холодно и вежливо поздоровались с ним, не отрываясь от своих важных дел. Над воротами дома древнего философа было начертано: «Да не войдет сюда тот, кто не знает геометрии».
«Да не войдет сюда тот, кто ни фига не смыслит в оптике», -усмехнулся Овцын и отправился в сборочный. Там он все-таки не чувствовал
себя болваном.
Его встретил инженер Постников, дружески взял под руку и повел в бокс лунной трубы, стены которой сегодня были увешаны электросхемами. Два монтажника крепили внутри трубы разноцветные жилки, выходящие из толстого, оплетенного стальной сеткой кабеля, удавом распластавшегося на полу бокса.
– Наконец-то разобрались в схемах питания, – сказал Постников, – Вы мне не подскажете, Иван Андреевич, далеко ли от павильона лунной трубы стоят кварцевые часы? И как вы мыслите провести от них кабель?
– Не знаю, где кварцевые часы, – сказал Овцын. – Наверное, в главном здании обсерватории.
– Да, да... – кивнул Постников. – Я понимаю, что кварцевые часы не вешают над воротами. Интересно бы знать, на какой они глубине и мимо каких объектов надо тянуть кабель.
«Придется почитать о кварцевых часах, – подумал Овцын. – Опять попал в калошу...»
Он попытался оправдать свою неосведомленность:
– Я в институте человек недавний, а в обсерватории и вовсе раза три бывал... Завтра утром съезжу, разузнаю все, что вас интересует.
– Буду очень благодарен, – сказал Постников. – А то мне никак не выбраться. И набросайте мне планчик, если вас не затруднит. Кстати, как дела с павильоном?
– Строится, – сказал Овцын. – Есть там такой прораб – Пахом Дорофеич. Живот, как купол нормального астрографа, глазки-бусинки. У него любимая поговорка: «Все надо делать параллельно, сперва одно, потом другое». В силу этого на павильоне больше трех рабочих за раз не бывает.
Он поехал в институт, взял в библиотеке учебник практической астрономии и изучил по нему устройство кварцевых часов. Потом собрался зайти в отдел, но вдруг подумал, что рассказывать ему не о чем. Стыдно говорить про такой рабочий день: пробыл час на заводе, увидел, как тянут провода, проявил серость и уехал повышать уровень малограмотности... Он отправился домой, и по пути его одолевали мысли еще горше вчерашних. Выйдя из дому, он попадает в толпу чужих людей и так до конца дня живет среди чужих дел, чужих интересов, забот и планов, пока снова не вернется домой... или к Гаврилычу во «Флоренцию»... Долго ли так проживешь?
Он зашел в цветочную лавку и купил букетик чахоточных нарциссов -ничего приличнее не было. Но и эти вялые цветы обрадовали Эру. Она бросила в воду таблетку аспирина и поставила вазу около машинки.
– Сегодня надо закончить очерк, иначе не попадет в февральский номер, – сказала она. – Прости, что я ничего не приготовила поесть. Прибежала из редакции, и сразу пришлось сесть за работу.
– Ну и бог в помощь, – улыбнулся он. – Поем в столовой. Даже и лучше – не буду торчать у тебя на глазах.
– Да, пожалуйста, – сказала она виновато. – Задержись подольше. Я не могу сосредоточиться, когда ты дома. Все время хочется забраться тебе на колени, забыть про всякую работу и нежиться... Я понимаю, что нельзя так распускать чувства, но ничего не могу с собой поделать.
– И не надо ничего делать, – сказал он. – Ты должна все время хотеть забраться ко мне на колени.
Он вышел на улицу, постоял у дома, медленно дошел до метро, раздумывая, где поужинать. Подумал, что ничто не мешает ему поехать во «Флоренцию»,– и поехал.







