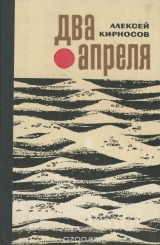
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)

Часть вторая
1
Пришлось, наконец, сказать себе: «Пора, пора, рога трубят...» – но он выгадал еще ночь – не уехал с последним поездом, а полетел первым утренним самолетом. На аэродроме Эра, – сгорбившись, глядя так вниз, что он видел ее затылок, – проговорила сбивчиво:
– Знаешь, кажется, я тогда, в тот самый день, ну, помнишь, кажется, я забеременела. Что ты думаешь по этому поводу?
Думать было некогда. Пассажиры поднимались в самолет. Да и голова стала вдруг очень негодной для этого занятия, она кружилась, и часто и остро пульсировала кровь в висках. Он стоял ошарашенный и глупо мигал, хотя такое событие не очень уж неожиданно, если два человека стали мужем и женой. Это он понял потом, а в ту минуту сказал:
– Я думаю, что он родится в марте, но почему ты три месяца молчала, глупая девчонка?
– Я глупая девчонка, – сказала она. – Не понимала, что это.
Москва не Диксон, самолет ждать не станет, и он занял свое место у левого иллюминатора, видел, что ее отвели за ограждение. Захотелось выскочить из машины, пока она еще не покатилась, не взлетела, не унесла его от жены, которую он оставляет в такую минуту. Уже в полете он понял, что минута имеет громадный смысл только для него, а для Эры в ней значительного меньше, потому что Эра давно знает то, что сказала ему сейчас. И это правильно, что он не поддался внезапному ошеломлению, не задержался в Москве. Портфель с документами на два судна, который лежит у него на коленях, нетерпеливо ждут в конторе, так как не могут из-за отсутствия оного свести в бумагах концы с концами, что на бухгалтерском языке именуется балансом.
Прямо из аэропорта он поехал в контору, и Крутицкий строго произнес,
приняв у него темно-желтый портфель:
– Я уж думал, вас и сегодня не будет, Иван Андреевич.
– Вполне могло такое случиться, – сказал он.
– В чем дело? – приподнял брови начальник конторы.
– Я ведь женат, – сказал Овцын и не смог сдержать улыбку.
– Оч-чень оригинальный случай, – покачал головой Крутицкий. -Просто поражаюсь, как у вас хватило самообладания вообще не раскиснуть и привезти документы.
– Я, кажется, никогда вас не подводил, – резко сказал Овцын, обидевшись на тон Крутицкого.
Крутицкий помолчал, глядя на Овцына, потом неожиданно встал, протянул ему руку, сказал, вздохнув:
– За то и лелеем. Поздравляю тебя, Иван Андреевич, с награждением значком «Отличник морского флота». Верю, что ты всегда будешь опорой и гордостью Экспедиции. Знаешь же, что текучка кадров у нас ужасная, хочется сколотить незыблемый костяк. Из таких, как Левченко, Балк, ты...
«Каждому чего-нибудь хочется», – подумал Овцын и сказал:
– Спасибо. Многих наградил?
– Начало церемонии в шестнадцать, в актовом зале ЦК профсоюзов, -сказал Крутицкий. – Всех повидаешь. И своего любимого Архипова -знаю, о ком хотел спросить.
Он успел съездить к матери и отсидеть педантичный обед.
– Где теперь будешь жить? – спросила мать. – В Москве или привезешь Эру Николаевну сюда?
Он вздрогнул, представив вдруг мягкую и ласковую Эру в этом храме порядка, чопорном, с тяжелыми шторами на окнах и так расставленной мебелью, чтобы беззаботный человек непременно стукался о нее боками, под властью женщины, умеющей каждый шаг сделать неестественно и обрядно. Мать пристально смотрела на него и, заметив движение плеч, усмехнулась.
– Не отвечай, – сказала она. – Я понимаю, что мне нет места в твоей семье.
– Да, мама, тут нечего скрывать, – произнес он, жалея мать, которая обиделась бы, узнав, что он осмелился ее пожалеть. – Вместе мы жить не сможем.
– Жить вместе с человеком, каких бы золотых качеств он ни был, не всегда радость, – сказала мать раздумчиво. – Мы с отцом любили и уважали друг друга до самой его кончины. По нередко нам было тяжело вместе. И мы всегда старались не показать этого друг другу. Сестра его оставила мужа, как только ей стало тяжело. Ты знаешь, несчастная женщина погибла.
– Я не знаю подробностей, – сказал Овцын.
– Это лучше. Мне горько, что я их знаю. Многие ждут от семьи только утех и радости. Но семейная жизнь – это прежде всего исполнение долга. Перед обществом. Перед человеком, который связал свою судьбу с тобой.
Перед детьми. Запомни это, сын. Будь готов к тому, что с женой станет тяжело и неуютно. Умей угадывать, когда ей станет с тобой тяжело. Умей делать себя незаметным в такие минуты. Для этого нужна особая тонкость души. Я надеюсь, она придет, если ты любишь. Где ты будешь работать?
– У меня чешутся мозги, когда я начинаю об этом думать, – улыбнулся он, радуясь, что кончилась нотация.
– Опять жаргон... – Мать поморщилась. – Надеюсь, до рождения ребенка ты не уйдешь ни в какое плавание?
– Не могу сказать. Как получится. Наследства у меня нет, ты же знаешь.
– Неужели ты не способен ни к какой работе на суше ? – спросила мать почти риторически. – Неужели ты только и умеешь стоять свои вахты?
– В ближайшее время я этот вопрос решу для себя, – сказал Овцын. -Тогда и тебе отвечу.
Когда он уходил, после всех уже разговоров, после того как мать сказала, поджимая губы, что, несмотря па отсутствие наследства, он всегда будет иметь дом и кусок хлеба уже после всего этого, когда он взялся за дверь, мать обняла и спросила шепотом, едва дотянувшись губами до его лица:
– Скажи, ты женился не потому, что она беременна?
– Я только сегодня узнал об этом, – сказал он, наклоняя голову и целуя глаза матери.
И почувствовал губами слезы. Невероятны были слезы в этом доме, слезы из суровых, никогда на его памяти не менявших выражения глаз. Он опешил, прижал к груди тонкое тело матери, ощутил совсем другого, тайно жданного человека и понял, что этот человек всегда был рядом незаметно; он стал гладить ее волосы, но мать сильным движением отодвинула его, сказала:
– Ступай. Тебе пора получать свой значок. – Она вскинула голову. -Если бы в четырнадцать лет ты послушался родителей, то получал бы сейчас не эту медную бляху.
Вспышка близости погасла. Он не спеша надел фуражку в прихожей у зеркала, неудобного, как и все в этой квартире, – свет падал прямо на него. Ничего, кроме своего силуэта, нельзя было рассмотреть в этом зеркале.
– Каждому – свое, – сказал он. – А лавровые венки тоже ведь делали не из золота. Хватит меня укорять, ничего уже не изменишь. Смирись, прими как факт. Сегодня я улечу в Москву. Я напишу тебе, когда будет удобно приехать.
– Мне будет удобно приехать, когда родился твой ребенок, – сказала
мать.
Церемония уже началась, но сперва говорили речи и вручали грамоты, а до значков дело еще не дошло. Овцын прошел к передним рядам, отыскал глазами Бориса Архипова, сел рядом и положил руку ему на локоть.
– Вот и сбылась голубая мечта твоего детства, – улыбнулся Борис
Архипов.
– Зрелости, – сказал он. – В детстве я мечтал стать Героем Советского Союза и лауреатом Сталинской премии. Даже твои семь орденских планок меня бы не устроили в детстве.
– Твои подвиги еще впереди, – сказал Борис Архипов. – Только не обменяй их на домашние обеды. Удерем с банкета?
– Непременно, – сказал Овцын и пожал его локоть.
Потом они выскользнули из зала, где еще продолжалась говорильня, н в мужском туалете, покусывая сигареты, продырявили друг другу тужурки.
– Внушительно, – похвалил Борис Архипов, поправив значок Овцына. – Теперь каждому видно, что ты не какой-нибудь сельдерей с кисточкой, а отличник. Ну, пойдем. Покажу тебе свою самоходку. Новейшая модель.
– Только ненадолго, – сказал Овцын. – Я сегодня должен улететь.
– Понимаю, – кивнул Борис Архипов.
– Ничего ты не понимаешь, – улыбнулся Овцын.
– Отчего же? – пожал плечами Борис Архипов. – в сумочке твоей супруги уже лежат билеты до Сочи. Ты не знаешь, где Ксения Михайловна?
– Ксения Михайловна скорее всего в Рязани.
– Я засыпал Рязанский почтамт письмами до востребования. Она не из тех, кто не отвечает на письма.
– Она их еще не успела получить.
– Она... Пошла на Лену с тобой?
– А что я мог поделать? Удалось зачислить ее метеорологом.
Борис Архипов остановился, схватил Овцына за борта тужурки, прижал к ограде сквера.
– Убеди меня и том, что между вами ничего нет... – прошипел он. -Убеди меня в том, что ты пи разу не коснулся пальцем этой женщины...
– Нет, – сказал Овцын. – И брось дурить, люди оглядываются.
Борис Архипов отпустил его, сказал страдальчески:
– Все равно ты – дрянь.
– Тогда я пойду направо, отец – сказал Овцын. – Бог с ней, с твоей самоходкой! Мне еще рассчитываться в конторе, билет доставать, а меня жена ждет. В положении...
– Конечно, пойдем направо, – сказал Борис Архипов и поцеловал его.
Они зашли в кабинет к Лисопаду – пустынный и свежий в это время
года, – сравнили свои сияющие значки с поколупанным значком старика, потом Овцын взял со стола лист и написал заявление об увольнении.
– Не понимаю, – сказал Лисопад, прочитав написанное. – Ты рехнулся, фунт с бугра?
Овцын отрицательно помотал головой. Борис Архипов смотрел прямо и возмущения не выражал. Тогда Лисопад сказал:
– Без Крутицкого такие дела не делаются. А он тебя не отпустит. У него на, тебя планы.
– У всех на меня планы, – сказал Овцын. – Я сейчас лечу в Москву, а ты отдашь эту бумагу Крутицкому; и когда он, наконец, поймет ситуацию. и
подпишет, вышлешь мне расчет по этому адресу.
Овцын написал на оборотной стороне листа адрес Эры.
– Ну, .лети, – сказал Лисопад. – Подонок ты!
– Не уверен. Прощай, старина.
Он купил билет, и до аэропортовского автобуса оставалось еще полтора часа.
– Сходим наверх? – спросил он.
– Сходим, – согласился Борис Архипов.
Они поднялись на дубовую галерею и взяли шампанского.
– Она держалась в рейсе, как истинный моряк, – сказал Овцын. – И даже как метеоролог. Соображала неплохо. Нет, прекрасно соображала. Предсказала шторм, когда проходили острова Фадея. Как уж она додумалась, не ведаю. Береговые станции ничего не дали, мы ей и не поверили. Похихикали. Хихикали, хихикали... А потом едва отстоялись у острова 8-го Марта. Ты же знаешь, какие там сволочные места. Я на песке сидел, свой якорь видел. В Тикси сперва захотели нашу с Эрой свадьбу праздновать, но скоро позабыли, и – слава богу! – все пошло законно: банкет в честь благополучного окончания рейса. У Левченко из уст реки меда полились: мол, Ксения ему всю обстановку сделала, караван спасла, никаких ему теперь не надо сводок, давай одну Ксению. Пересел к ней со своего флагманского места и больше оттуда не удалялся. И только все чины как подобает укушались – задуло с берега. У них ледокол – видал, наверное, – старье, хлам, раздолбанный, как мордовский лапоть, одно ценно, что тяжелый: залезет, пыхтя всеми трубами, на лед – и проломит. Унесло его чуть не к Быковской протоке, на западные рифы. Банкет долой! Меня за шиворот -валяй на спасение, поскольку у меня и лошадиные силы и помпа мощная.
Уложил я молодую жену в своей каюте, голову смочил, мокрый чуб зачесал под фуражку, поднимаюсь на мостик – работоспособна треть команды, считая и меня. Отдали швартовы, идем во тьму. Я единственный штурман на судне. Слава богам, рулевой этот рябоватый, Федоров, был в полном комплексе. Думаю: «Как же мне осилить и судовождение, и швартовку, и откачку воды, и буксировку, и еще черта и дьявола?» Хоть плачь! Одним увлечешься, другое проморгаешь и – сам па рифах. С ледокола БОБы сыплются. Радист докладывает, что крену уже тридцать градусов, пробоина два на полтора, вода в нее хлещет, тамошний буксирчик под него понтон подводит, никак по подведет. Увидал, наконец, его перекошенные огни и окончательно решил, что сидеть мне с ним рядышком, если решусь протянуть руку помощи. Но поскольку жена теперь есть, можно и рискнуть. Без передачи в тюрьме не останешься. Жму на него. Вдруг говорят сзади: «Иван Андреевич, вам что-нибудь помочь?» А ветер свищет, пена хлещет, палуба под ногами пляшет. Удивляюсь: «Да как же вы мне, Ксана, поможете?» Она отвечает: «Что вы скажете. то и буду делать. На корму сбегаю, к радисту, прожектором посвечу, команды ваши передам кому надо, мало ли что».
И скажу тебе, отец, что эта золотая женщина, слабое существо, которое больше всего на свете боится качки, все время, пока швартовались, пока откачивали воду из этого бездонного утюга, пока заделывали пробоину, пока брали его на буксир, пока, наконец, штурманы не прочухались от банкета, чтобы их можно было допустить до дела, работала за вахтенного штурмана. Не слишком квалифицированно, но предельно старательно. Ну, время вышло, пойдем к автобусу.
– Сынок, – сказал Борис Архипов. – И я полечу. В Рязань.
Овцын и нахмурился, легкое опьянение от шампанского вдруг прошло.
– Хочешь, чтоб пожалела? – спросил он. – Ну, бросай все. Лети. Она-то, конечно, пожалеет. А дальше что?
– Тьма у тебя в душе, сынок.
Борис Архипов встал и, не простившись, пошел вдоль дубовых перил. Овцын видел, как он медленно, не глядя на людей, спустился с лестницы, прошел зал, остановился на выходе и закурил сигарету.
2
Он постоял перед дверью, ожидая, пока утихнет сердце, и решая, позвонить или воспользоваться ключом. Он отпер дверь сам и через темную прихожую прошел в комнату.
Комната была освещена только торшером. Эра полулежала на диване, и сразу у нее из рук выпали пестро раскрашенные листы. Худой юноша почтительно, но неторопливо поднялся со стула. У юноши было тонкое лицо, красивая седина па висках и борода, которую можно было бы назвать шотландской, будь она рыжей. Когда Овцын подошел к тахте, бородатый юноша деликатно отвернулся.
– Я не знала, что ты так быстро. – сказала Эра
– Нет, знала, – сказал он.
– Да, знала. – Он почувствовал, как дрожит ее тело. – Только мне все еще не верится.
– Ну, будет, – сказал он. – Дай, наконец, обратить внимание на твоего
гостя.
– Обрати, – сказала Эра и села на листы, сминая их. – Он хороший
поэт.
Она включила люстру. Юноша сделал несколько шагов к Овцыну, представился:
– Ломтик. Это не псевдоним. Хорошо, что вы не улыбаетесь. Предупреждаю вас, что, во-первых, я не люблю насмешек над моей фамилией, а во-вторых, я люблю вашу жену.
Ломтик склонил голову и уставился в потолок.
– Не выгоняй его, – сказала Эра. – Он врет. Он говорит такое про каждую девушку. Я не уверена, что Ломтик когда-нибудь целовался.
– Я хотел вас проверить, – сказал Ломтик с такой угрозой в голосе, что Овцын рассмеялся.
– Лучше прочитайте стихотворение, коль уж вы хороший поэт, -ласково попросил он и сел.
– Это я люблю, – сказал Ломтик. – Я прочту «Оду могучему духу». Голос его окреп, стихи прогремели под низким потолком и закончились так:
Не пренебрегай уважением благонамеренных сограждан.
Уважение благонамеренных сограждан пригодится, когда будут определять размер твоего надмогильного памятника,
– Вы коварный человек, – с улыбкой сказал Овцын.
– Вы что-то поняли, – обрадовался Ломтик. – Вам понравились стихи?
– Мне наплевать на размер надмогильного памятника, – сказал Овцын. – Уважение сограждан нужно мне при жизни.
– Вот вы и передернули! – воскликнул довольный Ломтик. -Благонамеренные сограждане, о которых я говорю, – это не те сограждане, о которых вы говорите.
Тыльной стороной ладони он погладил бороду из-под шеи к подбородку. Овцын подумал, что Ломтик всегда делает так, когда доволен собой.
– Почему же вы еще живы, если «звероподобные страсти поднимают свои острозубые головы и впиваются в ваше сердце» так часто? – спросил он ядовито.
– Я предупредил, что это стихи, а не трактат по медицине, – сухо сказал Ломтик. – Надо бы представлять разницу.
– Тебе пора домой, Ломтик, – сказала Эра. – Уже одиннадцать.
– Да, пора, – согласился Ломтик. – Отдавай рисунки.
– Разве ты мне их не подарил?
Ломтик кинул горький взгляд на диван и произнес:
– А разве ты на них не села?
Он собрал пестрые листы в папку. Потом, прощаясь, сказал Овцыну:
– У вас красивая форма. Я люблю эти цвета, черный с золотом; в этом есть что-то от вечности, что-то обреченное на славную гибель. Долго над служить до такой формы?..
Когда он, причесав перед зеркалом бороду и седоватые на висках кудри, ушел, Овцын спросил Эру:
– Какое тебе удовольствие от этого бэби?
– Он славный, – сказала Эра. – Искренний и добрый. Смешной. Мне нравятся такие люди. Он очень бедный, очень робкий и очень талантливый. Но стесняется отнести свои стихи в какую-нибудь редакцию. Впрочем, их все равно не напечатали бы.
– Почему же, если они талантливые? – спросил Овцын.
– Это отпугивает. Как и все необычное. Ты плохо знаешь наши дела. Талантливый литератор должен иметь непоколебимую веру в себя и стальную волю, чтобы утвердиться. Он должен быть настойчивым, нечувствительным к насмешкам и брани, должен занимать четкую позицию и не слушать дурацких советов. Бездарным легче. Они на все готовы, а это нравится... Студенты уже поют песни на стихи Ломтика. Хорошие песни. У Вадима Згурского есть пленки с записями. Может, купим магнитофон, пока у меня есть деньги?
– Борис Архипов думает, что в твоей сумочке уже лежат билеты до Сочи, – сказал Овцын.
– Как у него дела?
– На днях поведет самоходку в Архангельск. Какая-то новая модель, я не успел взглянуть.
– Тебе завидно, что он поведет самоходку в Архангельск, скажи честно? – спросила Эра.
– Не завидно, а как-то... неловко. – Он вспомнил сцену в кабинете Лисопада. – Конец сентября, самая работа, а я уже филоню. Такого не бывало.
– Если мы завтра уедем, ты не будешь об этом думать? – спросила она и обняла его.
– Кто знает, о чем он будет думать завтра. Но ездить, конечно, лучше.
– Значит, завтра мы поедем, – решила Эра. – Что это на тебе за новый значок? Я об него чуть не оцарапалась.
– «Отличник морского флота».
Она вспомнила и улыбнулась.
– О котором ты мечтал?
– Глупости, – сказал он. – Болтал вздор, чтобы все знали, о чем я мечтаю, и не очень приставали с вопросами.
– Никто не может вразумительно сказать, о чем он мечтает, – вздохнула Эра. – И я тоже. Как ты думаешь, может быть, человек стыдится? Вдруг, мол, его мечты, которые кажутся ему красивыми и большими, на самом деле убогие желаньишки обывателя?
– Не думал о таком, – сказал Овцын.
Она посмотрела на него подозрительно.
– А ты думаешь о чем-нибудь, кроме своих кораблей?
– Случается.
– Прости меня, – сказала она. – Я не хотела обидеть. Давай собираться в дорогу.
– В полночь? – удивился он. – А почему не завтра с утра?
– Завтра с утра я тебя выгоню, надо закончить одну работу. Купишь билеты, а заодно поищешь себе в магазинах приличную летнюю рубашку.
– Ну и судьба... – Он засмеялся. – Ты работаешь, а я хожу по магазинам. Прилично ли это?
– Это не имеет никакого значения, – сказала Эра. – Я сама виновата, что задержала работу... Конечно, и ты чуть-чуть виноват, – добавила она, приласкиваясь.
Он поднялся рано, как привык подниматься на судне. Эра еще спала. На кухне он выпил чаю, сунул в рот кусок сыру и ушел, дожевывая его на лестнице. Неяркое сентябрьское солнце освещало непривычные его глазу московские картины – суетливую толпу у громадного и унылого, как турецкая крепость, вокзала; тут же современная, легкой постройки гостиница и длинный ряд деревянных ларьков, с раннего утра торгующих всякой: съедобной и несъедобной всячиной; бревенчатые дома стояли рядом с желтым небоскребом; небритый мужичонка в ватнике, пыльных, стоптанных сапогах, с перетянутым ветошкой мешком за спиной оттирал плечом от окошка стеклянного книжного киоска холеную даму, сильно гримированную и в юбке на три пальца выше колен. Переулок, из которого он вышел, был узок и мощен булыжником. Улица, на которую попал, оказалась такой широкой, что ее не перейти за один зеленый свет светофора. Полого спустившись с холма, улица вдруг становилась вдвое уже, и как раз на этом узком ее пролете вплотную друг к другу теснились столовые, магазины, парикмахерские, фотоателье, телефонный переговорный пункт, тут были собраны остановки всех проходящих по улице автобусов и троллейбусов, аптека, булочная, загородка для арбузов, табачный киоск и пункт приема стеклянной тары. Овцын купил сигарет в табачном киоске и пошел вниз к метро – другим московским транспортом он пользоваться не умел.
Добравшись до агентства Аэрофлота, он купил билеты на четырехчасовой самолет, потом, взглянув на время, пошел в Сандуны и там отдал себя во власть дюжего банщика, силы и юмор которого по причине раннего часа были еще не растрачены. Основательно помятый, исхлестанный, свежий и полный энергии, как после тренировки в спортзале, он ввалился в шумную сутолоку ГУМа – и приличную летнюю рубашку не купил. Может быть, там и имелись приличные летние рубашки, но высматривать их, продираясь плечом сквозь скопище заядлых покупателей, -это было свыше всяких возможностей.
Он выбрался из давки, побродил по Красной площади, спустился в метро и поехал обратно. Постоял некоторое время на набережной. По Москве-реке шныряли юркие теплоходики, трамвайчики, катера. Солидно шествовали работяги самоходки, груженные гравием и песком, машинами и лесом, помятые и обшарпанные, с безобразно – для морского глаза -свисающими с бортов тросами и кранцами, сделанными из разрезанных пополам и неоплетенных автомобильных покрышек. Стало тоскливо от мысли, что есть возможность наняться капитаном такого ломовика, и снова он стал думать, что ему делать в этом чужом, нелепом и оголтелом городе. Он уже не глядел на ломовика, а глядел вниз, под парапет на изжелта-грязную воду.
– За счастье нужно платить, от закона никуда не денешься, -проговорил он, вспомнив серую «Волгу» на беломорском причале и рассуждения старпома Марата Петровича.
Постояв, с омерзением швырнув окурок в медленно текущую воду, он пошел домой; и там его встретила Эра, и мрачные думы пропали, будто их и не было вовсе, и он испытал радость, никакая расплата за нее не показалась бы чрезмерной, будь то даже каторжный труд на алмазных копях проклятой Южной Африки.
– Будет нам целоваться, – сказал он наконец.– В четыре часа самолет.
– Однако у тебя и манера, – сказала она. – Разве можно сообщать такое жене за два часа до вылета?
– Не устраивай семейную сцену, – улыбнулся он. – Все готово со вчерашнего вечера. Надевай плащ и бери сумочку.
– Я хочу есть, – сказала Эра.
– В самолете покормят.
Надевая плащ, она бормотала:
– То плавай с тобой, то летай. Ты умеешь жить дома?
– Не пробовал.
– Тогда пойдем лететь, – вздохнула она.







