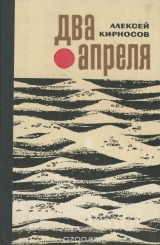
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
10
Маленькая лаборантка Наташа (с косичкой) пришла в комнату, где работал Овцын, якобы для того, чтобы разместить негатив на координатном столе. Она постояла у стола несколько минут, теребя косичку, потом быстро выбежала из комнаты, так и не включив стол. Пришел Валерий Попов, массивный, густоволосый инженер-электроник, с которым Овцын прежде только кланялся. Они еще ни разу не поговорили. Попов уселся верхом на стул, обхватил толстопалыми руками спинку, сказал:
– М-да... Вот что, Овцын, я хотел у вас спросить. Не знаете ли вы, как переводятся градусы Фаренгейта, в градусы Цельсия? Лень тащиться в библиотеку за такой мелочью.
– Попробую вспомнить, – сказал Овцын, отодвигая от себя схему расчета широты. – По шкале Фаренгейта от точки замерзания до точки кипения воды сто восемьдесят градусов. По шкале Цельсия – сто. Эрго, один градус Фаренгейта – это пять девятых градуса Цельсия.
Попов отпустил спинку стула, придвинул к себе схему и записал на поле цифры.
– К примеру, – проговорил он, – девяносто Фаренгейта – это будет пятьдесят по Цельсию? Ни чего не понимаю.
– Тут еще одна туманность, – сказал Овцын. – Вся шкала Фаренгейта -двести двенадцать градусов. Точка замерзания – это не ноль, а плюс тридцать два.
– Почему? – поинтересовался Попов.
– Фаренгейт это знал, – улыбнулся Овцын.
– Угу... – кивнул Попов. – Эрго, формула будет... «т» Цельсия равно пять девятых, умноженные на «т» Фаренгейта минус тридцать два... Девяносто Фаренгейта будет... тридцать два и две десятых по Цельсию. Теперь ясно. Спасибо, Овцын.
Попов умолк и опять обхватил руками спинку стула.
– Для чего это вам? – спросил Овцын.
– Читаю сейчас на сон грядущий Джека Лондона, – сказал Попов. – Он все температуры дает по Фаренгейту. Дома литературы нет, справиться негде, вот и смотришь баран бараном, поражаешься, чего это геройские парни зябнут при минус десяти градусах, а оказывается... – он прикинул в уме, – оказывается, это по нормальной шкале будет минус двадцать три и три десятых. Серьезная температура, особенно если до салуна еще далеко ехать на собаках. Вы там, в своей Арктике, очень мерзли?
– Моя Арктика – это летняя Арктика, – сказал Овцын. – Температура ниже тридцати двух по Фаренгейту бывает редко. Серьезный мороз прихватывает только в конце сентября.
– М-да... – сказал Попов. – И не скучно вам после всего этого в нашем заведении?
– Терплю, – сказал Овцын,
– Отвратительное состояние для самобытной личности, – сказал Попов и покачал густоволосой головой. – Хуже не придумаешь.
– Откуда вам известно про мою личность? – спросил Овцын.
Он рассердился на инженера. Какого дьявола полез в душу ворошить больное!..
– Видел, – сказал Попов.
– Вы видели только то, что вам показали. А есть еще многое, чего вам не показывали. Поэтому мне сейчас надлежит терпеть, а вам надлежит этого вопроса больше не касаться.
– Любопытно, – произнес Попов, прищурив глаза. – Я подумал, вы из тех, кто сам распоряжается своей судьбой. Ладно, не буду касаться. Если нас затруднит какой-нибудь мудреный расчет, приходите ко мне на машину. Подсоблю без очереди.
Попов ушел. И до конца рабочего дня даже немудреные расчеты затрудняли Овцына – заметались в голове посторонние мысли, в душу заполз цепенящий холод. Он старался, но не мог уловить логические связи и комбинациях значков и цифр, отодвинул недоделанную работу и принялся выводить рожицы на чистом листе миллиметровки. Пришло на ум, что вот он отложил работу на завтра и ничего от этого не переменится, никто не пострадает. Такая уж это работа: она не медведь, в лес не уйдет. Потому и работают эту работу благодушные, холеные, не спешащие люди. И в конце концов что ему с того, что парижский профессор со славянской фамилией определит по результатам наблюдений всех обсерваторий мира, на сколько миллиметров сместился географический полюс? Он никогда не мерил расстояния на поверхности планеты миллиметрами, он привык к кабельтовым и милям, он всегда знал, что длина земного экватора сорок тысяч километров, а не сорок миллиардов миллиметров...
Он ушел из лаборатории, даже не прибрав на столе, оставив на виду лист с лопоухими рожицами, столь неуместный в солидном научном учреждении. Жены не было дома, но он вспомнил о вчерашнем письме, что существует на свете Володя Левченко, столь несчастливо пораженный ядовитой стрелой Купидона, неразумного и жестокого, как всякий ребенок. Вполне возможно, что Эра сейчас с этим Володей. Где же ей быть?.. Он не испытывал ревности, не гадал и ничего не подозревал. И даже раздражение старался подавить в себе, понимая, что закопошилось чувство собственника, на имущество которого покусились. Это чувство не украшает моральный облик...
Хотелось есть, но всякие кастрюльки и сковородки всегда были для него табу, так приучила еще мать, и в жизни он не прикасался к кастрюле. Он отрезал ломоть хлеба, прикрыл его сыром, налил в стакан коньяку. После такого ужина голод утих, но стало одиноко и тревожно. Зашевелились ревнивые подозрения, еще не переведенные на человеческий язык, и захотелось броситься искать Эру, вырвать ее из чьих-то рук, вернуть домой, себе.
– Совсем прилип к юбке, жалкий слюнтяй! – обругал он себя. – Не хватает тебе еще напиться по поводу того, что жены нет дома.
Он вернул бутылку в шкаф, оделся и пошел в кино, подальше от дома, в центр, где шум и сутолока не дают человеку сосредоточить горькие мысли. Уже купив билет, он сообразил, что кинотеатр находится в том же здании, где и гостиница «Метрополь», поразился, стал думать, случайность ли это или ноги непроизвольно вели его к тому месту, где сейчас может быть Эра. Пытаясь решить вопрос, который решить невозможно, он прошел в зал, снова посмотрел «Один полярный день» и остался на фильм, который оказался совсем неплохим и отвлек его от печали.
Думая о чужих судьбах, он шел, стиснутый тол пой, к выходу и вдруг увидел впереди лейтенантские погоны, фуражку с белым кантом и рядом с нею меховую шапочку. Как будто его ударили. Сразу набухло кровью лицо и заколотилось сердце. Он пробрался вбок, к стене, и стоял, умоляя некую высшую силу сделать так, чтобы они не оглянулись, не заметили его.
Медленно вытекала толпа в узкую дверь.
«Черт побери, какая нелепость! – думал он. – Решат еще, что я их выследил. Шевелись же ты, сороконожка поганая!» – подгонял он толпу, уносящую от него лейтенантскую фуражку и меховую шапочку.
Они не обернулись. Овцын вышел из театра среди последних, почти добежал до площади Дзержинского и спустился в метро. Сердце не унималось. Все в нем было напряжено и сосредоточено, будто он стоит на ринге и ждет удара гонга, после которого начнется бой. Чувства вдруг повернулись другими гранями, совершенно немыслимыми прежде. Жена, любимая и любящая, стала врагом, и мальчишка в офицерской шинели стал врагом, и все люди вокруг стали злобными, уродливыми врагами, и он с наслаждением отхлестал бы их по физиономиям. Засунутые в карманы руки сжались в кулаки. Но он видел себя со стороны, и все понимал, и ничего не мог поделать с собой. Ярость застилала глаза. Он понимал, что бред ревности уже не обида собственника, а дикость самца. «Неужели я не способен с этим справиться? – думал он. – Черт побери, кажется, не способен...»
Он пришел домой, уверенный, что Эры нет, и ее не было. Он уже ненавидел ее, его трясло от ненависти; ему виделось, как он ударит ее, свалит, затопчет ногами, и он приходил в ужас от желания, которое не в силах был задушить. Он долго шагал по комнате, силясь понять, из какого тайника души выплеснулось это звериное, где оно таилось, незамеченное, годы и годы. Потом лег на диван; и когда прошла дрожь, почувствовал себя разбитым, опустошенным и несчастным. Спрашивал себя, что же произошло, и отвечал, что ничего ведь не произоп1ло, но это не помогало. Видимо, произошло что-то, чего он не мог понять.
Эра вернулась в половине первого. Он не поднялся встретить ее, потому что не хотелось подниматься, двигаться, говорить. Ничего не хотелось. Он равнодушно слушал, как она снимает в прихожей пальто, как
переодела туфли, как щелкнула застежкой сумки.
Потом скрипнула дверь. Она тихо подошла и села рядом.
– Ты злишься? – спросила она,
– Нет, – сказал он.
– Я проводила Володю в Ленинград.
Он посмотрел на ее похудевшее и как бы постаревшее лицо. Поразило незнакомое выражение глаз. Этого лица он не видел прежде. Он взял ее за руку, спросил:
– Тебе худо?
– Нет, – ответила она. – Я боялась, что ты разозлишься.
– Это было бы скверно, – сказал он и некрепко сжал холодную руку. Знала бы она, что с ним творилось!..
– Я почувствовала по голосу, как жестоко звать его сюда, – сказала Эра. – Он очень переменился. Я пришла и села. Мы почти не разговаривали. Было тоскливо, как на похоронах, и очень жаль его.
– Он сидел у твоих ног? – сказал Овцын.
– Да, – сказала она, помедлив. – И было такое ощущение, будто мы давно знаем друг друга, и часто встречаемся, и это не встреча, а прощание. Ты прости меня за то, что я все это рассказываю. Потом мы пошли в кино. С тобой я не пошла, а с ним не могла не пойти. Мы сели в такси и поехали на вокзал, но не сразу, а долго кружили по Москве. Но время шло медленно. Оно почти остановилось. Говорить нам было не о чем. На вокзале мы зашли в ресторан. Он бледнел от вина и молчал. Не понимаю почему, но я чувствовала себя виноватой. Какая-то абстрактная вина, которая родилась вместе со мной. И ничем ее не искупить, так она и будет во мне до могилы...
– У вагона ты поцеловала его, – сказал Овцын.
Закрыв глаза, он видел, как они едут в машине, касаясь друг друга, как сидят в ресторане и не находят слов, которыми можно облегчить страдание, как медленно идут вдоль длинного поезда и останавливаются у вагона, как он смотрит на Эру тоскливо и обреченно, слушая голос, объявляющий, что до отхода поезда номер два, следующего по маршруту Москва – Ленинград, осталось пять минут, как сжимает ее руки, которые она не могла не дать ему. И вдруг, когда поезд уже двинулся, она вырывает руки, целует его, и бежит прочь, и плачет о человеке, которому принесла страдание...
– Да, – сказала она. – И за это ты тоже прости меня.
– Глупая девчонка, – сказал он. – Это из другой пьесы. Когда-то давным-давно грозный царь персидский приказал высечь море за то, что оно его огорчило. История сохранила этот факт нам в назидание.
– Значит, ты меня и не простишь и не накажешь? – спросила Эра.
– Значит, так, – сказал он, – Иди с миром.
– Куда? – испугалась она.
– В ванную. У тебя заплаканное лицо.
Эра ушла. Он поднялся и собрал с пола окурки.
«Ни к чему эта мелкая распущенность, – думал он, – ни к чему!»
Шеф отдела астрометрических постоянных Геннадий Михайлович Кригер, профессор, доктор физико-математических наук и член-корреспондент академии, целый месяц не замечавший нового лаборанта, вдруг остановил Овцына в коридоре, взял под руку и отвел к окну.
– Как вам работается, Иван Андреевич? – ласково спросил шеф.
– В общем работается, Геннадий Михайлович, – ответил Овцын.
– Когда работается «в общем», это никуда не годится, верно? -улыбнулся Кригер.
– Куда вернее, – согласился Овцын, думая, к чему это профессор клонит и не собирается ли он предложить лаборанту забрать свою шляпу и покинуть сей институт мирового значения. Ей-богу, он не стал бы упираться. Он равнодушно смотрел на розовую плешь низкорослого профессора и ждал.
– Не думайте, что я за вами не наблюдаю, – заявил Кригер и помотал пальцем перед его подбородком. – я за всеми наблюдаю, я вас всех изучил, все про вас знаю!
– Не сомневаюсь, – сказал Овцын.
– Вот то-то! – Профессор радостно захихикал.– Знаете, услужливый человечек мне даже ваши карикатурки принес. Очень художественно исполнено.
Овцын вспомнил рожицы, которые рисовал на миллиметровке в тот черный день, и стало совестно. Одна рожица, над которой он больше всего старался, была кругленькая, плешивенькая и ушастая: ни дать ни взять шеф.
– Не ожидал, что вы держите при себе услужливого человечка, профессор, – сказал Овцын, раздражаясь, как и всегда, когда он бывал не прав или пристыжен.
– Держу ли? – Кригер скривил рот и пожал плечами. – Скорее, смиряюсь с существованием этого человечка. А смиряюсь потому, что по некоторым причинам личного характера убрать его, сиречь выгнать, не могу. Обижу другого человека, вполне достойного всяческого почтения. Вот как бывает... Иван Андреевич, я подумал, что хватит, наверное, вам заниматься этой девичьей работой. Ничего она не дает ни вашему уму, ни сердцу.
– Я предчувствовал, – сказал Овцын.
– Что вы могли предчувствовать? Мысль пришла мне в голову вчера после кино, я еще ни с кем ею не делился. Вы предчувствовали что-нибудь иное.
– Возможно, – согласился Овцын. – Предчувствия вещь темная.
– Словом, я хочу предложить вам другое дело, более для вас подходящее, – сказал Кригер. – Сейчас на заводе делают новый инструмент -лунную трубу. Кстати, она предназначена для вашего друга Валдайского. И наша обсерватория просит у меня человека, способного наблюдать за этим производством.
– В каком смысле наблюдать? – спросил Овцын.
– Это уже деловая речь, – сказал Кригер. – Наблюдать предстоит в трех
смыслах: во-первых, чтобы все делалось в полном соответствии с нашими требованиями и по согласованным с нами чертежам; во-вторых, все агрегаты должны быть тщательнейшим образом испытаны, дабы они работали безупречно. Третий смысл тоже очень важный – производство должно двигаться в хорошем темпе. Инструмент, видите ли, экспериментальный, и поэтому план у них резиновый. А по нашему плану наблюдения на лунной трубе должны начаться в марте будущего года. Разрыв нас не устраивает.
– Я ничего не понимаю в лунных трубах, – сказал Овцын. – Если меня спросят на заводе, чем лунная труба отличается от водосточной, я не сумею толково ответить.
Кригер захихикал, довольный.
– Это прекрасно, Иван Андреевич! В лунных трубах никто ничего не понимает, в России их еще не было. Что от вас потребуется? Свежий и цепкий глаз. Воображение. Умение читать чертежи. Элементарное знание небесной механики и главное – умение... как это называется... – Кригер подергал себя за мочки оттопыренных ушей. – Да! Умение толковать. То есть уметь убеждать людей сделать сегодня то, что они уже отложили на завтра. Все это в вас есть, не смейте мне возражать!
– Я не собираюсь возражать, – сказал Овцын. – Во мне все это в самом деле есть. Но хватит ли этого, чтобы вытянуть вашу трубу из цеха?
– Конечно, придется кое-что почитать, – закивал профессор. -Литература по зарубежным трубам есть, и наша и переводная. Полагаю, что небольшое напряжение ума вас не затруднит? Или вы предпочтете и дальше механически рассчитывать широты?
– Я поговорю с Дмитрием Петровичем, – сказал Овцын. – И вообще сперва почитаю, что такое лунная труба. Пока ничего не могу вам ответить относительно дела, которого я не знаю.
– Поговорите с Дмитрием Петровичем, поговорите, дражайший Иван Андреевич! – захихикал Кригер.
– А что такое? – насторожился Овцын.
– То, что он фанатик этой трубы! – провозгласил профессор, сунул пухлую руку и быстрыми шагами, приплясывая, пошел по коридору.
Считать широты по наблюденным околозенитным звездам Овцыну надоело смертельно. В этом для него не было уже никакой, даже маленькой тайны. Предложение шефа пришлось кстати, новая пища для ума была сейчас совершенно необходима.
– Конечно, соглашайся! – завопил Митя Валдайский и стал совать ему журналы и сборники, где были статьи о лунных трубах. – Это же, перспективнейшее дело! Это же непочатый край! Я на лунной трубе и кандидатскую и докторскую спроворю!
– Лунная труба предназначена для того, чтобы проворить диссертации? – спросил Овцын,
– И это вошло в конструктивный замысел, – засмеялся Митя. – Не будь пижоном, ступай в университет. Через семь лет на нашей трубе станешь кандидатом.
– В конструктивный замысел моей судьбы это не входит, – сказал Овцын. – Однако статейки я почитаю.
Он отдал папки со своими расчетами маленькой Наташе с косичкой, и она приняла их благоговейно, как библиограф отдела древних рукописей принимает старинный манускрипт. Вдруг он почувствовал себя освобожденным от бремени и ушел с работы на два часа раньше.
Эра писала очерк о выдающемся самодеятельном театре при районном Доме культуры, очерк, давно заказанный молодежным журналом и давно у нее не получающийся. Овцын, привыкший уже не замечать пальбу пишущей машинки, допоздна читал статьи. Он понял назначение лунных труб, узнал историю их возникновения и применения и кое-как разобрался в устройстве
– впрочем, достаточно для того, чтобы в общих чертах объяснить, чем лунная труба отличается от водосточной. Были еще статьи о технике наблюдений, но их он не тронул – голова устала и время было позднее.
Он ссыпал журналы на пол, закурил, прилег плечом на диванную подушку и смотрел, как Эра стучит четырьмя пальцами по клавишам, швыряет слева направо каретку или вдруг, зажав в зубах прядь волос, кладет ладони на грудь и опускает голову, прижимаясь лбом к серой крышке с надписью «Эрика»...
– Заедает? – спросил он.
– Отчаянно, – сказала Эра и подняла голову от машинки. – Никак не свести концы с концами. У меня тут получается, что каждый актер в отдельности стоит профессионального, а вот чтобы весь театр стоил профессионального, так у меня почему-то не получается. Да и у них это не получается, самодеятельность проглядывает изо всех швов. Не пойму, в чем дело.
– В организации, – сказал Овцын.
– Это мне приходило в голову, да и ее только мне, но там организаторы
– не молодежь. Если я стану их критиковать, усмотрят проблему «отцов и детей». В редакциях ее боятся пуще графомании. Яйца курицу не учат – и точка! Разговор окончен.
– Значит, самодеятельность и дальше будет победно торчать изо всех швов, – сказал Овцын. – У нас на флоте не боятся вкладывать старичкам ума, когда они в том нуждаются. Иначе суда потопнут.
– Это веский аргумент, – улыбнулась Эра. – Завтра я приведу твой пример в редакции... Ты уже кончил работать?
– Я учился. Утром шеф загнал меня в угол и убедил переменить научный профиль. Буду теперь ездить на завод и следить, как там делают лунную трубу.
– Ты даже знаешь, что такое лунная труба? – удивилась Эра.
– Теперь знаю. Довольно хитрый следящий инструмент для наблюдения лунной поверхности и фотографирования ее в разных лучах.
– Когда-нибудь я наберусь мужества и попрошу тебя прочесть мне курс лекций по астрономии, – сказала Эра. – Я ужасная, просто неприличная невежда. Это теперь-то, в век, называемый космическим!
– Могу просветить, – сказал он. – А пока вернемся к проблеме «отцов и детей»... Меня давно занимает вопрос, почему твои родители не выражают горячего желания со мной познакомиться?
Эра вздохнула и отвернулась.
– Мог бы и раньше спросить, – сказала она.
– И что бы ты ответила?
– Они старомодные люди. И возмущены моей выходкой. Считают, что я сделала это им назло, чтобы не выходить замуж за приличного юношу, который ухаживает за мной с восьмого класса и много лет приходил по субботам пить чай и разговаривать об умных вещах. Они уверены, что этот юноша – мое счастье. И вдруг я поехала в Арктику и выскочила за матроса. Они тебя иначе не называют. И уверены, что ты меня бросишь или я тебя прежде брошу, убедившись, что грубый матрос не пара для такой интеллигентной девушки. Иногда они пытаются найти во мне признаки раскаяния и, не найдя, начинают говорить, что ошиблись в дочери, что всю жизнь она прикрывала благообразной маской свою черствость, душевную грубость и даже безнравственность. Когда я говорю «любовь», они возражают – «секс». Если я заикаюсь о родстве душ, сходстве характеров, принципов и правил, они говорят, что, катясь по наклонной плоскости, можно где-то и зацепиться за сходство и родство, но по наклонной плоскости следует подниматься вверх и там искать единения с человеком, который еще возвысит тебя. В общем ты понял, что происходит.
– Понял, – сказал он. – Они знают, что ты беременна?
– Что ты! Я не говорю, это будет страшным ударом. Это разобьет надежду на наш развод. Не обижайся, Иван, мне их жалко. Пусть пройдет время, пусть они привыкнут к тому, что мы вместе и это серьезно. Тогда я скажу.
– Тогда ты уже покажешь улыбающегося крошку.
– Да, уже скоро...
Она вырвала из машинки лист, смяла и бросила в корзину. Подошла к дивану и легла, положив голову ему на колени. Он обнял ее и сказал:
– Наступила зима. Слышишь, как воет ветер?
– Слышу. Мне было бы очень тоскливо одной, – прошептала она. -Хорошо, что есть ты. Раньше я была отчаянная, все мне нипочем. А прошлой зимой стала спрашивать себя: почему это я одна? И отвечала, что потому, что нет человека, с которым хотелось бы быть вместе. Множество людей вокруг, а этого единственного человека нет. И вдруг – ты... Я сразу поняла. Помнишь, как я хотела убежать с «Кутузова» еще в Ленинграде? Я испугалась тебя.
– Помню, – сказал он. Ты была очень деловитой.
– Нет, я просто струсила. Я почувствовала, что это добром не кончится, что именно ты перепутаешь мою жизнь. Надо было бежать, чтобы сохранить покой и ясность. Убежала бы – и все. Душа надолго осталась бы спокойной, может быть, навсегда... Я все время думала о тебе, иногда было горько, что ты не обращаешь на меня никакого внимания, и я ругала тебя, что ты чурбан, мраморное изваяние... Ты все равно не замечал меня.
– Зато тебя сразу заметил старпом, – сказал он. – И доложил мне, что ты крепкий орешек.
– А потом ты укрыл меня своим плащом ночью в Беломорске, и ничего не осталось от крепкого орешка. Я стала твоей тогда, а не в день летнего солнцестояния. Давай снова вернемся к проблеме «отцов и детей». Как мы его назовем?
– Ты уверена, что это будет о н?
– Не пугай меня! – вскрикнула она. – Я хочу, чтобы это был он, второй ты. Зачем мне вторая я?
– Может быть, она мне пригодится?
– Нет, ты не будешь эгоистом. Мне нужен он и только он.
– Хорошо. Пусть будет он. Ты сама назовешь его.
– Я сама назову его, – повторила Эра.
Ветер взвывал за окном, швырял в стекла снег, и стекла вздрагивали под ударами. А когда наступала тишина, Овцын слышал ровное дыхание Эры, самого родного ему человека во всем мире, и становилось странно, что еще полгода назад он не знал, не чувствовал, не ждал этого человека.







