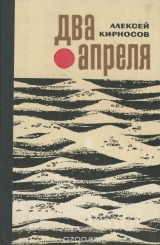
Текст книги "Два апреля"
Автор книги: Алексей Кирносов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)

Часть первая
1
Очевидно, главным образом от того, сколько мы платим или готовы заплатить за счастье или чувство удовлетворения, и зависит, насколько они велики. Но жадность к счастью у людей неодинакова. Одни платят за чувство удовлетворения очень дешево, другие очень дорого.
Юхан Смуул
Город встретил его неприветливо. Угрюмым, низким небом, пронзительным ветром с Балтики, мокрым снегом, слякотью покатых предпортовых улиц. Тщательно прибранные развалины протянули в небеса корявые пальцы, напоминая о том давнем уже времени, когда авиационный корпус опорожнился над городом, превратив его в дымящееся каменное крошево. Зябко перебирали ветвями под ветром нездоровые березы, выросшие на фундаментах былых человеческих жилищ. Темнели ранами ободранные стены гробницы Иммануила Канта. Сумрачно глядел под ноги бронзовый Шиллер, обреченный скульптором на вечную печаль.
И не верилось, что сегодня весенний месяц апрель, казалось, что поздняя осень подбирает с земли остатки живого и уносит их вихрями в мглистую даль.
Неделю Овцын прожил в гостинице. На «Кутузове» не нашлось электрогрелки для его каюты, а подселяться к старпому или механику он не захотел. Пришлось бы начать деловые отношения с душевных разговоров по вечерам, с опасной, но неизбежной откровенности, с сомнительного, не всегда бескорыстного приятельства, которое непременно возникает у людей, живущих в одной каюте. Можно очень убедительно доказать безнравственность чинопочитания, но все равно потом работа покажет, что дистанция между капитаном и подчиненными должна существовать постоянно. Раз упустив, ее уже не восстановишь. И тогда дело пойдет вкривь и вкось, натужно продираясь через хитросплетения самолюбий.
Когда механики, наконец, расконсервировали вспомогательный котел и соизволили по вечерам протапливать судно (они всем видом своим показывали, что труд этот тяжек, не обязателен, и зажигали форсунку всего на два часа), Овцын занял капитанскую каюту и только тут почувствовал, что он па месте.
Если прежде прожитый день означал немногим более, чем оторванный листок календаря, теперь время приобрело смысл, весомость и наполнилось работой – необходимой и строго распределенной между людьми. Холодный, заброшенный «Кутузов» стал оживать, восстанавливать истинный свой облик по мере того, как матросы снимали с бортов и палуб прочный слой грязи, а механики приводили в порядок машины. К ночи, уже переодевшись в пижаму, Овцын записывал в журнал сделанное за день. Точная служебная запись занимала немного места на странице. Десять человеческих сил медленно справлялись с пассажирским теплоходом в три тысячи тонн водоизмещением. Но времени до выхода в море оставалось достаточно, и не было у Овцына оснований слишком торопить команду. Подчеркнув записанное размашистой, отработанной еще на последнем курсе училища подписью, он брал книгу, ложился и читал, пока не смыкались веки, -привычка давняя, вредная и неискоренимая.
За ночь каюта выстуживалась, изо рта шел пар. Призывая на головы механиков апокалиптические казни, Овцын наскоро умывался – брился он с вечера, когда в магистрали была горячая вода, – и шел к соседу, Борису Архипову, пить кофе. Малютка буксир Бориса Архипова с неожиданным названием «Шальной» тоже обречен был стоять у этого причала, пока не сойдет лед на Финском заливе. Разница с «Кутузовым» лишь в том, что команда на нем полностью укомплектована, стоит полагающаяся вахта и течет нормальная судовая жизнь, в которой все на месте и все происходит вовремя. После необитаемой громадины «Кутузова» туда заходилось как в хорошо и любовно обжитой дом. На маленьком судне все легче и проще.
В середине апреля весна все-таки наступила. Утром Овцын вышел на палубу, увидел голубейшеее небо и солнце, которое сразу так припекло его, что пришлось вернуться и оставить плащ.
Вахтенный матрос сидел на причальном кнехте, задрав рябоватое, с закрытыми глазами, блаженное лицо. У самых ног человека юркие воробышки склевывали крошки. Вахтенный с закрытыми глазами – это вопиющий непорядок.
– Позавтракали, Федоров? – спросил Овцын, сойдя на причал.
Матрос поднялся, разомкнул веки. Воробьи вспорхнули от его сапог и
разлетелись.
– Подкрепился булочкой, – сказал матрос, глядя не на капитана, а в сторону солнца, щурясь и улыбаясь. – А как вы догадались?
– По выражению лица.
– Вы, наверное, на три аршина сквозь землю видите?
– К чему это мореплавателю смотреть сквозь землю? – сказал Овцын.
– Виноват, сквозь воду, – поправился Федоров. – Погода-то какая ласковая, а, товарищ капитан? Так, глядишь, и до праздников в море выйдем.
– И такое может с нами произойти, – кивнул Овцын, взглядом указал вахтенному матросу на место у трапа и пошел направо, к буксиру.
Борис Архипов, не прикасаясь к завтраку, ждал его в своей маленькой, опрятной каюте, которая каждый раз напоминала Овцыну прошлую навигацию. Тогда он вел на север такой же компактный, с высоко задранным носом и уходящей в воду кормой буксир и обитал в такой же тесной каютке. Это была его первая капитанская работа.
Борис Архипов протянул руку, чуть привстав с дивана, кивнул головой на кресло и сразу стал наливать кофе из собственного, замысловатой конструкции кофейника. И кофе у него был особой марки – арабикум, вывезенный из Висмара, где он принимал на верфи буксир. От двух чашек этого напитка исчезала из головы всякая накипь, предстоящие дела становились легкими, заботы – пустячными, а жизнь прекрасной. И весь мир казался курортом, созданным исключительно для твоего удовольствия.
– Жаль, что этот мираж быстро проходит, – сказал Борис Архипов, отставив чашку. – Равно как и всякое самообольщение.
– Выпей еще дозу, – предложил Овцын.
– А сердце? – Борис Архипов сморщился и потер под галстуком.
– Не знаю про такое, – усмехнулся Овцын.
– Тебе тридцать? Недолго осталось. Лет через восемь узнаешь и уже до последнего в твою честь салюта не забудешь, – пообещал Борис Архипов. -Я в твои годы водку пивной кружкой пил, а теперь вот курю не взатяжку.
– Пил бы стаканом, как люди, – сказал Овцын.
– Люди... Что за удовольствие жить, как люди? – проговорил Борис Архипов неодобрительно. – Не люблю жить, как люди. Впрочем, я свое уже отжил. Пора под пресс.
– Врешь ты все, отец, – засмеялся Овцын. – Люди тебе нравятся, и пожить тебе еще охота, и сигаретой затягиваешься.
– Иногда, по забывчивости. А пожить... Пожить, конечно, не мешало бы... Ты сегодня куда деваешь вечер? – спросил Борис Архипов.
– Я не занимаюсь до завтрака этой проблемой, – сказал Овцын. -Впрочем, мне все равно.
– Вот то-то и оно... – задумчиво произнес Борис Архипов. – Для каждого есть только один город, где не все равно, как провести вечер. Там мы заранее знаем номер автобуса, в который сядем, выйдя из ворот порта. Мы точно знаем, на какой остановке сойдем. Мы знаем, где там ближайший «Гастроном» и в какую сторону от входа отдел, торгующий шампанским. Мы знаем даже, сколько ступенек в той лестнице, по которой поднимаемся с надеждой, тревогой и сладостным замиранием сердец.
– Это стихи, – сказал Овцын. – Среднего качества.
– А что ты хотел от старого человека, обремененного семейством? У которого к тому же истрепанное сердце и далеко не блестящая анкета? -Борис Архипов щелкнул пальцами и налил себе еще чашку. – Ты хотел от него «дыша духами и туманами»?
– Хорошая нынче погода, – сказал Овцын.
– Вот именно, – покачал головой Борис Архипов.– Что может быть убедительнее? Пойдем в театр?
– А что там?
– «Сирано де Бержерак». История о человеке, который жил не как
люди.
– Хорошая пьеса, – согласился Овцын, видевший ее давно и помнивший смутно. – Значит, пойдем.
– У тебя здесь еще не завелось дамы?
– Ты знаешь, где моя дама, – улыбнулся Овцын.
– Знаю, – сказал Борис Архипов. – И знаю, что это не то, сынок. Кратковременная эфемерида.
– Отчего же так? – спросил Овцын, и в душе вдруг всколыхнулось тревожное.
– Видал я твою даму... А во-вторых, для чего ты ходишь на междугородный переговорный пункт ? Не говоришь? Так я скажу: только для того, чтобы позвонить в контору Экспедиции и обругать начальство, что долго не присылает команду.
– У нее нет домашнего телефона, – сказал Овцын и тут же сообразил, что позвонить можно и по служебному, если захочется, можно и дать телеграмму с вызовом.
– Оправдываешься, – заключил Борис Архипов.– Что может быть убедительнее?
– Змей... – буркнул Овцын, думая о том, почему же он ни разу не позвонил Марине. – Если хочешь знать, в ранней юности я любил. Пылко, чисто и навеки. Тогда бы я звонил каждый день. Но ведь это не повторяется.
– Романов поменьше надо читать, особенно на ночь, – посоветовал Борис Архипов. – От них мозги становятся раком, пуще всего от нынешних, нравоучительных. И тогда естественная человеческая жизнь кажется пострадавшему субъекту непричесанной, дикой и вовсе безнравственной.
– А ты знаешь, какая она?
– Она большая, – сказал Борис Архипов. – В ней все можно найти. На любой вкус и норов. Ищи – и найдешь. Можно и не искать. Брать, что дают по табели снабжения, вроде рукавиц. Только это... Это как правило... некачественно, – подобрал он после паузы слово. – Ступай работать, сынок.
Да и я делом займусь. В семнадцать тридцать приходи ужинать.
– Объедаю я твой пароход, – улыбнулся Овцын. Ему было неловко, что он никак не может устроить у себя на «Кутузове» нормальную судовую жизнь. Не виноват, – а все же неловко.
– Ради хорошего человека и разориться не обидно, – сказал Борис Архипов.
2
Вернувшись, Овцын все делал как-то невпопад. Без толку вмешивался в работу старпома, оторвал от дела боцмана ради совершенно преждевременной проверки шкиперских кладовок, потом спустился в машину и там нервировал своим присутствием по уши вымазанных в масле механиков. Брался он за чужие дела, чтобы отвлечься от еретических мыслей о Марине, но не вышло. Короткая фраза Бориса Архипова все тревожила его, заставляла копаться в себе. Есть ли она, любовь, единение сродственных душ, чистое, как нынешнее небо, стремление человека к человеку?
Было ли у нас что общее, кроме наслаждения? – думал Овцын, раздражаясь. Была ли хоть искренность? Да, отвечал он себе. Была искренность тела, знающего, что оно не худо устроено, ведет себя естественно и таить ему нечего. А что больше?
Это началось осенью. Он только что вернулся из рейса. Друзья уговорили поехать за грибами. Лес оказался неуютный, сырой, гниловатый. Сыпались на голову листья и корявые сучки, ветки, сбрасывая капли, больно хлестали по лицу. Никакого удовольствия не было. Грибы ему попадались, но все не те, что нарисованы в купленной на вокзале «Памятке грибника», и он их не трогал. Туфли быстро промокли, лицо чесалось от липкой лесной паутины, а когда он сиял г шеи клеща, в душе окрепло брезгливое чувство к этому бессмысленному скопищу подгнивающих деревьев. Потеряв компанию, он не расстроился, не стал драть глотку, а надел на сук выданный ему полиэтиленовый мешочек и пошел на станцию, не зная направления, но уверенный, что инстинкт выведет. Так и случилось. Он поднялся на платформу, выпил в буфете теплого, приторно-сладкого кофе, съел твердокаменную котлету, рассмотрел плакат с выглядывающим из-под колес интеллигентом в шляпе и надписью «Не прыгай на ходу», в которой какой-то циник заклеил бумажкой букву «п», потолкался среди людей – и повеселел. Оставалось мечтать только о том, чтобы поскорее добраться до города, переобуться в сухое да хорошенько помыться, – а то вдруг еще заведутся эти лесные воши...
Когда пришел поезд, он натужно протиснулся в вагон, набитый грибниками и ягодниками. Его давили, пихали локтями и корзинами, возили по лицу букетами из осенних листьев, но он не злился. Сам работал локтями, добродушно отругивался и, наконец, пробрался к стене тамбура, где было чуть-чуть комфортабельнее. На следующей остановке вломилось еще полвзвода, и он понял, что вместимость вагона пригородной электрички беспредельна. «Это уже Ходынка», – подумал он. После следующей остановки стало трудно дышать. Толпа старалась расплющить об него хрупкую девушку в маленькой шляпке на русых кудряшках и с книгой за бортом серого пальто. Девушка была явно не лесного происхождения, наверное, поэтому у него возникло к ней теплое чувство. Овцын напряг все мышцы, плечом выдвинул из угла грибника, не бритого с прошлого воскресенья, крепко взял девушку за талию и протолкнул в освободившийся угол. Небритый только охнул, но протестовать не посмел. Овцын отгородил девушку своим телом, сказал, не отнимая рук от талии:
– Так оно лучше.
– Спасибо, – сказала она. – Сегодня творится что-то ужасное.
– Вы часто ездите?
– С субботы на воскресенье. Мама живет за городом.
– А вы?
– Я живу в общежитии. А вы?
– Я тоже большую часть времени живу отдельно от мамы.
Он немного ослабил усилие, которым сдерживал напиравшую толпу. К исхлестанной ветками шее прохладно прижалась ее щека.
– Ну, и как вас зовут? – спросил он.
Почти все, что он и сейчас знает о Марине, Овцын узнал тогда, в трепливом вагонном разговоре, то, что она сказала ему, не предполагая, что следующие полгода они проживут вместе. Может быть, узнавать о ней больше нечего. А может быть, узнавать о ней больше ему не нужно. Многое не запомнилось из того, что было, но эта первая встреча запомнилась четко.
Он держал Марину за руку, пока не вышли из вокзала на суетливую, посыпаемую мелким дождичком площадь. Они остановились у фонаря, и Овцын закурил, ненамеренно разглядывая ее лицо. Смутившись, она стала говорить. Она опустила лицо и вычерчивала пальцем на его плаще неуловимые буквы.
– Иван, я не знаю, что вы обо мне думаете. Но если вы думаете, что я доступная девица, что я люблю веселые удовольствия и целуюсь с первой встречи, давайте сейчас расстанемся. Доступных девиц немало, вам не придется долго искать.
Он, наконец, догадался, какие буквы рисует она у него на груди. Стало даже жаль, что так обыкновенно – начальные буквы их имен.
– На улице дождик, – сказал он. Взял Марину за плечи. Она подняла лицо. – Ну, а насчет доступности: я считаю, что женщина не баржа, нуждающаяся в буксире. Пусть идет своим ходом, куда хочет.
Они приехали в «Чайку», тихий, уютно освещенный поплавок у Петропавловской крепости. Марина читала меню, и он был рад, что она делает это не вслух, потому что все девушки, с которыми ему приходилось бывать в ресторанах, читали меню вслух, внятно выговаривая цены, и это всегда раздражало. На душе было благостно и покойно. Он смотрел на пышно причесанные короткие волосы, тонкие черты удлиненного лица, гибкие пальцы с ухоженными, коротко остриженными ногтями. Простое серое платье, деревянная брошь на высоковатой для ее сложения груди. Больше никаких бирюлек, никакой штукатурки на лице. Она нравилась ему.
Возможно, это то, думал Овцын. Судьба сама подала ому сокровище, мол, не надо теперь искать по свету, растрачивая нервы и сбивая подметки...
Конечно, Марина – сокровище.
Они сидели в ресторане долго, мало говорили, и постепенно возникала близость, странная для первой встречи.
– Мне кажется, что я знаю вас очень давно, – сказала она. – Даже хочется говорить вам «ты». Отчего это?
– Кто знает, что от чего происходит? – улыбнулся он. – Я много думал о женщине. Каждый думает о женщине. Единственной на свете женщине, которую непременно должен встретить.
– Я на нее похожа? – спросила она.
– Вы кажетесь мне знакомой. – Он положил ладонь на ее руку.
– Человек нравится, если о нем думал раньше, еще до встречи. Правда? – спросила Марина.
– Правда, – сказал он.
Она спросила:
– Иван, вы хороший человек?
– Всяко бывает, – ответил он и погладил ее руку.
– Нет, надо быть каким-то одним, – сказала она. – Плохим или хорошим. Иначе все будут в человеке обманываться. Правда?
– Святая правда, – согласился Овцын, хотя и не верил, что человек может быть каким-то одним. – Подумаешь, как много еще надо, просто оторопь берет. Надо пить минеральную воду, а не вино. Надо утром делать зарядку. Надо дышать свежим воздухом, а не табачным дымом, тратить деньги не на ресторан, а на книги, участвовать в общественной работе, заниматься спортом, повышать культурный уровень и кушать на ночь простоквашу. И спать надо ложиться не позже двадцати трех часов, непременно с открытой форточкой.
– А сколько времени?
– Полночь.
– Мне надо спешить, а то будут неприятные разговоры в общежитии.
– Видите, опять это «надо», – сказал он.
Они не пошли к общежитию, а свернули направо и перешли по деревянному мосту на Заячий остров. Среди стволов вековых деревьев было пустынно и темно. Таинственное величие крепостных стен, непроизвольно объемлющее в ночи душу человеческую, не позволило ему положить руку на плечи Марине. Прибитый недавним дождем песок пляжа не рассыпался под ногами. Они подошли к воде, черной и тихой, только чуть колышущейся у берега. Она спросила:
– Вы в своих плаваниях скучаете по ленинградским набережным?
– И по набережным тоже.
– А зачем вы ездили в лес?
– За компанию, – сказал он.
– Вы не любите, мне кажется, лес?
– Я обхожусь без него, не огорчаясь,– сказал он.
Она сказала:
– Утверждают, что родина – это поля, речки, холмы, перелески, три березки у избы... А для меня родина – вот эти набережные. Здесь я выросла, к трем березкам я равнодушна.
Они обогнули крепость и вышли на Петроградскую сторону. Было пустынно, красиво светились зеленые огоньки неподвижных такси на стоянке, и Кировский мост уже развели. Под ним, кряхтя, проходил буксир с громадным, на две тысячи тонн лихтером.
– Поздно, – сказала она. – А спать не хочется. Правда?
– Правда, – сказал он и положил руку ей на плечи.
Они перешли площадь и сели на скамью. Он поцеловал ее в холодные губы. Она не противилась, только сразу поникла, будто отдаваясь неизбежному, бороться с которым нет сил. Губы потеплели и напряглись, когда он поцеловал снова.
Давно уже свели Кировский мост, а они сидели на скамье, обнявшись, не произнося слов. Потом пришла усталость, холод проник под одежду, объятие не спасало от него.
– О чем ты думаешь? – спросила Марина. – Только не лги и не говори, что ни о чем.
Она сжималась, стараясь унять дрожь. Наверное, холод мучил ее, голове стало худо от выпитого вина, и хотелось ей только крыши над головой и теплой постели.
– Припоминаю, кто из моих друзей еще не женился,– сказал он. -Побудь тут, я схожу позвоню.
К телефону долго не подходили, потом раздался хриплый голос:
– Н-ну?
– Баранки гну! – сказал он, развеселившись. Он представил себе хилого, носатого Соломона, босого, в сиреневом: белье, с одеялом на плечах. – Мог бы повежливее, сухопутный краб.
– Ах, это ты, старая каракатица, – сказал Соломон и зевнул. – Когда прибыл?
– В пятницу. Послушай, кашалот: я хочу сейчас зайти в гости.
– А ты знаешь, сколько сейчас времени? – спросил Соломон.
– Знаю.
– Ну, заходи, – сказал Соломон. – А выпить у тебя есть?
– Выпить будет завтра.
– Что за времена... – громко вздохнул Соломон. – Все неприятности сегодня, все удовольствия завтра. Ну, приезжай.
– Я с женщиной, – сказал Овцын. – Так что надевай брюки.
В трубке раздался свист.
Соломон встретил их в брюках и даже при галстуке. В тепле Марина раскисла, глаза ее сузились. Она старалась не уронить голову и все выше поднимала подбородок.
– Сейчас выпьешь чаю, и мы тебя уложим, – сказал Овцын.
– Здесь только одна кровать, – произнесла она с вопросом.
– А сколько тебе надо?
Соломон принес чайник, принялся суетливо расставлять посуду. Разнокалиберные чашки он добыл из платяного шкафа, ложки из тумбочки, из-за окна вытащил банку с вареньем.
– У меня же есть холодные котлеты! – Он стукнул себя по лбу и убежал на кухню.
– Удивительно трогательный человек этот твой друг, – сказала Марина. – Он тоже моряк?
– Бывший. Испортилось зрение, пришлось уйти на берег. Теперь работает продавцом в мебельном магазине. – Овцын усмехнулся и повел рукой. – Ты же видишь, какая у него мебель.
– Это часто бывает, – сказала Марина.
Соломон принес холодную сковородку с котлетами, но никто их не ел. Потом он сгреб пустые чашки на угол стола, сказал Марине:
– Вы ложитесь. Кровать удобная, только простыни...
– Мне сейчас все равно. – Она поднялась, шагнула к кровати, почти упала на нее. – Разбудите меня в семь часов.
– А мы устроимся, – сказал Соломон. – Пойдем, Иван.
– Я сейчас, – сказал Овцын.
Соломон вышел.
Овцын поднял ее на руки. Она обвила мягкими руками его шею, прошептала:
– Тебе не тяжело, правда?
– Правда, – сказал он.
– Не надо, – шепнула она. – Опусти меня.
Он опустил ее и сел рядом. Он не мог выговорить ни слова, потому что горло сжалось от любви к ней. Она была прекрасна сейчас. Он наполнился ею. Стараясь не глядеть на нее, он видел ее, и, закрывая глаза, он видел ее. Рассудок мутился. Она почувствовала, отстранила его неожиданно сильным движением, вскрикнула, как человек, внезапно увидевший мчащийся на него поезд:
– Только не это!..
И это случилось.
– Вытри слезы, малыш, – проговорил он, с удивлением вслушиваясь в низкий и клокочущий звук своего голоса. – Зачем ты плачешь?
Она оттолкнула его, прижалась к стене, сказала:
– Никто не знает, что от чего. Может быть, потому, что ты не первый. Он вдруг пришел в себя от этих обдуманных слов.
– Все мы вторые, – сказал он. – Первые забыты.
– Ты ее любишь? – насторожилась Марина.
– Первые забыты, – повторил он.
– Наверное, ты лжешь, – сказала она в стену.
Совсем уже спокойный, он поднялся, у зеркала привел себя в порядок, причесал волосы, вытер платком лицо и шею.
– Ты мне противен, – сказала Марина. – Выйди.
Он еще раз оглядел себя, поставил на тумбочку темное, пятнистополосатое зеркало и вышел из комнаты.
Соломон дремал па табурете у газовой плиты, положив лохматую голову на руки. «Удивительно трогательный человек этот твой друг», -вспомнил он. Обнял трогательного человека за плечи, сказал:
– Поехали, сухопутный краб.
Соломон вздрогнул, вскинул голову:
– Куда?
– Куда-нибудь. Скажем, в аэропорт. Дальше будет видно.
– Ты мне плохого не сделаешь, – сказал Соломон.
– Я сделаю тебе рейс.
Соломон оторопел, поднял руки к лицу:
– А глаза? Что ты болтаешь, Иван! Разве так можно шутить?
Он прижал руки к выпуклым глазным яблокам, и пальцы побелели.
– Тише. – Овцын приблизился, обнял щуплое тело. – Возьму тебя вторым штурманом. Все равно капитан стоит вахту с младшим помощником.
– Но не за младшего помощника, – покачал головой Соломон.
– Это зависит от капитана.
– Ты будешь за меня работать на мостике? – спросил Соломон.
– Если потребуется.
– Чушь, чушь, чушь собачья, – затряс головой Соломон. – Никто меня не оформит, ты же сам знаешь, зачем лишний раз треплешь мне нервы?..
Когда они уже оделись, из комнаты вышла Марина.
– Можно, я с вами? – спросила она.
– Тебе же к восьми на работу, – сказал Овцын.
Она обняла его, сказала:
– Не надо так, я люблю тебя.
– Тогда к черту в пекло работу, поехали! – сказал Овцын. – Честное слово, оторвись моя голова, не каждый день слышишь такое.
– Некоторые никогда не слышали такого, – тихо сказал Соломон.
– Я и вас люблю, милый Соломон, – сказала Марина. – Только по-другому.
– Идите вы к бесу! – выкрикнул Соломон. – Нужна мне эта любовь по-другому, как...
В ресторане аэропорта он много выпил, говорил о море и плакал. Марина подвинула свой стул, обняла его и шептала ему на ухо неслышные слова. Глухо ревели невидимые самолеты. Овцын смотрел, как Марина нашептывает ласковое на ухо прослезившемуся Соломону. Впервые в жизни он почувствовал ревность. Понимал, что это глупо, но ничего не мог поделать и озлоблялся все больше.
В половине восьмого Овцын сказал:
– Очарование мое, а не пора ли тебе на службу?
Марина вдруг опустила плечи и поникла. Наверное, была уверена, что я сделаю что-нибудь, чтобы ей не идти сегодня на работу, сказал себе Овцын, без жалости глядя на опущенные плечи. Какая же работа после такой ночи? «Дело не столько в ночи, – продолжал он думать, – сколько в событии. Ведь я все понимаю, но почему ожесточаюсь? Почему мутное заливает душу, откуда потребность мучить доверившееся мне существо?»
– Самое время, – сказал он. – Не дай бог, остановится химический завод, тогда советская женщина недополучит синтетики.
Все чувствующий, все понимающий Соломон разогнулся, вытер глаза салфеткой.
– Это неизбежно? – сказал он. – Давай придумаем что-нибудь, чтобы Марине сегодня не работать.
– М-да? – Овцын закурил, дым попал в глаза, и он – очень, как подумалось, кстати – поморщился. – Если я возьму тебя на судно, ты и в море будешь говорить подобное ?
– Гад, – сказал Соломон. – Ты способен ударить собаку.
Овцын промолчал.
– Пойдем, Соломон, – сказала Марина. – Он выявился.
– Как же мы пойдем?.. Ведь мы вместе... – Соломон откинулся на спинку стула. – Да и денег у меня совсем нет.
– У меня есть три рубля. Нам хватит, – сказала Марина и встала.
– Нет, мы не можем... – пробормотал Соломон. – Так не делается. Мариночка, вы должны...
– То, что я была должна, я уже заплатила, – произнесла Марина и пошла к выходу.
– Не дури! – крикнул Овцын вслед. Она не обернулась.
– Иван, сообрази что-нибудь, сделай, – умолял Соломон. – Она уйдет, ты никогда себе этого не простишь!
– Никуда она не денется, – сказал он Соломону. – Вот деньги, догони ее и вези домой. Я съезжу на завод и попрошу начальство, чтобы ей записали какой-нибудь отгул.
Начальника лаборатории Овцын ждал в проходной минут двадцать. Наконец вахтер указал ему высокого мужчину лет тридцати на вид, в кепке и прорезиненном дешевом плаще. Овцын отвел его в сторону и, когда они встали рядом поближе к тусклой лампочке, услышал, как вахтер сказал висевшему на барьере сонному пожарнику:
– Видимо, брат.
– Всяко бывает, – отозвался разлепивший глаза пожарник.
Он оглядел начальника лаборатории и поразился, как они похожи. Ростом, складом фигуры и даже слегка чертами лица.
– Я слушаю, -Л сказал начальник лаборатории.
– Ты можешь сегодня дать отгул Марине? – спросил Овцын.
Похожий на него человек приоткрыл рот, потом закрыл его, снял
кепку, уставился на клеймо на подкладке.
– Значит, так... – произнес он, тщательно изучив потертое клеймо фабрики имени Самойловой.
– Вот именно, – сказал Овцын.
– А что ты за человек? – спросил начальник лаборатории и глубоко, без бекреня надел кепку.
– Соответствующий.
– Видишь ли... Ей не каждый может соответствовать.
– А я и не каждый, – сказал Овцын.
– Это хорошо. Но знай, что если что... Найду и угроблю!
– Ты не обходи вопрос насчет отгула.
– Отгула? Тоже мне нашел вопрос! Пусть придет и оформит отпуск за свой счет. На сколько вам надо суток...
– Тебя бы к нам в контору, – улыбнулся Овцын.
– Я и здесь пригождаюсь, – сказал начальник лаборатории, отстранил рукой Овцына, загораживавшего ему дорогу, и пошел к проходной вертушке.
Когда он вернулся к Соломону, в окне уже проступало сиреневое утро. Марина, выпрямившись, сидела у стола и читала книгу.
– Прости, я привез ее насильно, – сказал Соломон. – Она не хотела ехать сюда. Хотела пойти на завод.
Овцын положил ладонь на русые волосы, сказал:
– Никуда ты не пойдешь, ты будешь спать на мягкой кровати, сколько захочешь. Длинный в кепке дал тебе отпуск.
– Ты говорил с Николаем... Петровичем? – сказала она сердитым голосом, но улыбаясь.
– Аллах его знает, как его дразнят, – сказал он: – Мы не знакомились. Он хороший парень, но, кажется, я ему не понравился.
– Да, – сказала Марина. – Он хороший человек.
Овцын присел на стол, сказал Соломону:
– Поезжай куда хочешь. К двум часам будь в конторе.
– Как же я приду в контору? – вздохнул Соломон. – Там же знают. Лисопад меня не возьмет.
– Это моя забота, – сказал Овцын. – В два часа будь у лифта.
– Я, конечно, буду, – печально сказал Соломон. – Но что из этого выйдет?
Он нашел в шкафу морскую фуражку, усмехнувшись, надел ее, попрощался и ушел.
В двенадцать часов завыл с переливами и хрипами дряхлый гудок судоремонтного завода. Старший помощник капитана Марат Петрович Филин вытер замасленные руки о чехол брашпиля, подошел к судовому колоколу и отзвонил четыре двойные склянки.
– Баста, кончай труды! – крикнул он и, обращаясь к Овцыну, сказал доверительным тоном: – Его величество приснопамятный император Петр Алексеевич повелеть соизволил, дабы в час полуденный, адмиральским именуемый, выпивали все морские служители по рюмке водки с соленой закуской.
Филин был молод, послушен и трудолюбив. С удовольствием делал всякую работу, а когда не было своей, принимался за матросскую. Эта работа на судне никогда не переводится. Старпом обожал исторические романы и ради этого пристрастия числился в библиотеках всех российских портов. Толстые, отличного рисунка губы и оттененные длинными ресницами карие глаза с маслицем, которые не могли задержаться на одной точке и вечно как бы искали что-то, выдавали неуемное женолюбие, самую сильную страсть старпома, бывшую для него источником счастья, но также корнем всех его неприятностей и бед. Спиртного пил мало, с отвращением, но в разговоре приплетал водку к месту и не к месту.
У свежего человека создавалось впечатление, что в пьянстве он великий специалист. Филин не соглашался с тем, что он таков, каков есть. Говоря о себе, всегда фантазировал, то рассказывал о своих подвигах и сверхъестественных достоинствах, то приписывал себе низменные пакости. К двадцати семи годам он еще не стал взрослым человеком.
Выслушав старпома, Овцын покачал головой и сказал:
– По новым правилам морским служителям велено пить компот. Из сухофруктов. Переодевайтесь,
Марат Петрович. Пойдем в харчевню.
– Механиков позвать? – спросил старпом.
– Вы же знаете, что они не признают распорядка дня, – сказал Овцын, пожав плечами. – Предложите ради формы.
Механики, как всегда, отговорились недоделанной работой, которую бросить невозможно, и на берег в положенное время не пошли.
«Харчевню» выбрали подальше от порта, в районе магазинов и учреждений, где обеденный перерыв у служащих начинается не раньше часа, а до того времени можно пообедать в спокойной, человеческой обстановке.
– Очень вспоминаются слова Петра Великого про соленую закуску, -вздохнул старпом, опуская ложку в гороховый суп.
– Кто ж вам не велит? – весело спросил Овцын, зная, что сказано это ради красного словца и что старпом не стал бы пить, даже если бы ему сейчас поднесли бесплатно.
– Долг службы, – торжественно произнес Филин. – В течение рабочего дня предпочитаю пахнуть смоленой пенькой. Вечером – другое дело. Отложим до вечера.
– Кстати, о вечере, – заметил Овцын. – Попрошу вас сегодня вечером присутствовать на судне. – В ответ на удивленный взгляд старпома он пояснил: – Я пойду в театр.








